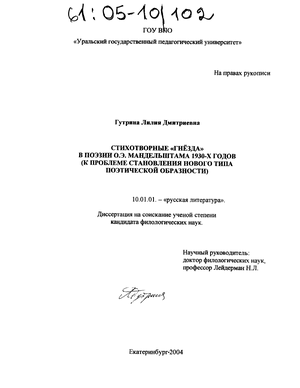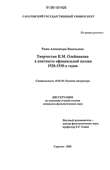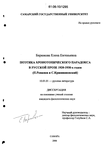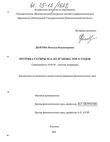Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. Теория поэтического образа и художественная практика О.Э. Мандельштама в 1910-20-е годы 44
1.1. О.Э. Мандельштам о поэтическом образе (по статьям 1910 -20-х годов) 44
1.2. Динамика способов «словесной нюансировки» в поэзии О.Э. Мандельштама 1910 - 20-х годов («КАМЕНЬ», «TRISTIA», «1921-25») .56
ГЛАВА II. Теория «динамической» поэтики О.Э. Мандельштама. феномен мандельштамовских «циклов» 86
2.1. Концепция поэтического слова в «Разговоре о Данте» 86
2.2. Феномен манделыптамовских «циклов» 103
2.3. Стихотворные «гнёзда» в раннем творчестве поэта 114
2.3.1. «Футбол», «Второй футбол», «Спорт»: сознательное экспериментирование 116
2.3.2. Два стихотворения о Сеновале: самополемика 124
2.3.3. «1 января 1924» и «Нет, никогда ничей я не был современник...»: от частности к закономерности 128
ГЛАВА III. Поэтические «гнёзда» в лирике О.Э. Мандель штама 1930-37 годов 144
3.1. Своеобразие интертекста и его функции в стихотворных «гнёздах» 1930-х годов (на примере «гнёзд» с пушкинским «подтекстом») 149
3.1.1. «Колючая речь Араратской долины...», «Дикая кошка — армянская речь...» и «И по-звериному воет людьё...»: от пушкинской автобиографии к пушкинским сказкам 151
3.1.2. «Я около Кольцова...» и «Когда в ветвях понурых...» — вариации на «птичью» тему: Сокол и Снегирь 162
3.1.3. «Дрожжи мира дорогие...» и «Влез бесёнок в мокрой шерстке...»: высокая миссия Поэта и его катастрофа 167
3.1.4. «Ночь. Дорога. Сон первичный...», «Вехи дальнего обоза...», «Где я? Что со мной дурного?..»:«зимние» стихи О.Э. Мандельштама иА.С. Пушкина.
3.2. Метафорическое осмысление образа Земли в поэтических «гнёздах» 1930-х годов 183
3.2.1. Функционирование метафоры в «чернозёмном» «гнезде» 184
3.2.2. Метафора в «античном» «гнезде» 193
3.3. Стихи, «выросшие» из «Оды»: стяжение стихотворных «гнёзд». 201
3.3.1. Стяжение на основе мотива горы 205
3.3.2. Стяжение на основе мотива зрения 219
Заключение 233
Список использованной литературы 235
- О.Э. Мандельштам о поэтическом образе (по статьям 1910 -20-х годов)
- Концепция поэтического слова в «Разговоре о Данте»
- «1 января 1924» и «Нет, никогда ничей я не был современник...»: от частности к закономерности
- «Колючая речь Араратской долины...», «Дикая кошка — армянская речь...» и «И по-звериному воет людьё...»: от пушкинской автобиографии к пушкинским сказкам
Введение к работе
«Стиль сдвинутостей», «поэтика реминисценций», «поэтика пропущенных звеньев», «парадоксализм», «семантическая поэтика», «синтетическая поэтика» — все эти многочисленные определения поэтической манеры О.Э. Мандельштама свидетельствуют о том, что в его творчестве особым образом воплотилось некое новое знание о мире. Действительно, стихи этого поэта, говоря его же словами, «кое-что изменили в строении и составе» русской поэзии.1 Ю. Ка-рабчиевский называет Мандельштама «поэтом, в большей степени начинающим, чем завершающим»2, С.Ф. Кузьмина убеждена, что, «завершая классический период поэзии, О. Мандельштам открывает искусство слова XX века»3. «В поэзии Мандельштам возвысился над уготованной его поколению стезёй и над своей собственной судьбой, став не просто предвестником или промежуточным звеном, но обещанием нескончаемого радостного удивления для каждого, кто, стремясь постигнуть суть его поэзии, готов следовать за её причудливыми узорами», — пишет Омри Ронен4.
Не случайно в числе центральных вопросов, интересующих наиболее крупных литературоведов, стоит вопрос о том, к какой художественной стратегии тяготеет Мандельштам. В.Ф. Марков в «Истории русского футуризма» (1968, США), например, называет Мандельштама «неоклассицистом», указывая на сочетание в его поэтическом мире «внешней простоты с невероятной тематической сложностью и аллюзиями из древнегреческой мифологии и истории».3 И.М. Семенко отмечает: «В своей поэзии несомненно далёкий от клас- 1 Из письма Мандельштама Ю.Н. Тынянову от 21 января 1937 года // Мандельштам О.Э. Собрание сочинений: В 4-х тт. М. 1991. Т. 3-4. Т.З. С.280-281. 2 Карабчиевский Ю. Улица Мандельштама//Юность. 1991. № 1. С. 69.
Кузьмина С.Ф. О. Мандельштам и русская художественная традиция. Автореферат диссертации канд. фил. наук. Свердловск. 1991. С. 10.
Ронен О. Осип Мандельштам // Литературное обозрение. 1991. № 1. С.5. 5 Марков В.Ф. История русского футуризма. СПб. 2000. С. 165. В статье «Мысли о русском футуризме» Марков В.Ф. говорит о принадлежности Мандельштама к футуризму («Начиная с «Tristia», О. Мандельштам всё ближе подходит к футуризму, а в последних стихах его можно уже считать футуристом» - Марков В.Ф. О свободе в поэзии. 1994); о том же писали Вяч. Вс. Иванов («Особенно следует отметить явную футуристичность поэтики [Ман- сических образцов, несомненно поэт «модернистский» (в нём критики видели даже единство символизма, акмеизма, футуризма), Мандельштам остался чужд декадентству, а также характерным для модернизма идеям «отчуждения» и т.п.».6 С.С. Аверинцев фиксирует, что «Мандельштам мог позволить себе декларации вроде бы классицистские ... и тут же — вроде бы авангардистские [...] Поэзия у него круто противоположна и классицизму, и авангардизму, находясь в чрезвычайной близости и к тому, и к другому». Н.Л. Лейдерман связывает поэзию позднего Мандельштама (наряду с творчеством А. Платонова, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой) с «постреализмом». По мысли исследователя, в основе этого метода лежит новая — «релятивистская» — эстетика, первооткрывателем которой является М.М. Бахтин; она «предполагает взгляд на мир как на вечно меняющуюся данность, где нет границ между верхом и низом, вечным и сиюминутным, бытием и небытием. [...] В лучших произведениях постреализма рождается новый Космос, Космос из Хаоса, открывающий цельность мира в его дискретности, единство и прочность — в отталкивании противоположностей, устойчивость — в самом процессе бесконечного движения».8 Н.А. Петрова доказывает, что Мандельштам «заполнил «пробел» между разошедшимися линиями русской поэзии, создав действительную альтернативу авангарду и традиционализму»9, полагает, что поэзия Мандельштама — это поэзия «ноэти-ческого реализма» — реализма того типа, для которого «присуще взаимона- дельштама - Л.Г.], значительно более близкую к поставангардному письму, Хлебникова...»; см.: «Стихи о неизвестном солдате» в контексте мировой поэзии // Жизнь и творчество Мандельштама. 1990. С. 365.) и О.А. Лекманов («Неконвенциональная поэтика»... позднего Мандельштама обрела точки соприкосновения с «неконвенциональной поэтикой» футуризма»; См.: Леклшиов О.А. Четыре заметки к теме «Мандельштам и Маяковский» // Филологические записки. Вестник литературоведения и языкознания. Вып. 7. 1996. С. 79.) 6 Семенко ЯМ. Поэтика позднего Мандельштама. М., 1997. С. 124. 7 Аверинцев С.С. Так почему же всё-таки Мандельштам? // Новый мир. 1998. № 6. С.217. s Лейдерман Н.Л. Теоретические проблемы изучения русской литературы XX века. (Предварительные замечания) // Русская литература XX века: Направления и течения. Сб. научных трудов. Екатеринбург, 1992. С. 20, 24.
Петрова Н.А. Литература в неантропоцентрическую эпоху. Опыт О. Мандельштама. Пермь, 2001. С. 48.
6 правленное, встречное движение человека и мира. У Мандельштама и человек, и мир — это непрерывно воплощающиеся потенциии...».10
Мысль о «синтезирующей» интенции в творчестве Мандельштама — правда, в ином ключе — в разное время звучала в трудах Н. Струве, М.Таспарова, В.В. Мусатова, Д.И. Черашней. Так, Н. Струве (1982, Рим) отмечает в связи с «Разговором о Данте», что Мандельштаму важно было «самому выработать поэтический синтез»11; М.Л. Гаспаров пишет о сознательном выборе Мандельштамом культурной традиции: «Поэтическую культуру он усваивал не стихийно, «из воздуха», а сознательно, по книгам и беседам [...] Сознательно — это значит: отбирая и комбинируя разнородные элементы, отвечающие его душевному складу и творческому вкусу... Он создавал себе синтетическую поэтику»12 Интересно, что оба исследователя осмысляют творческий путь Мандельштама как движение от традиций Вердена к традициям Тютчева и обратно. Необходимо подчеркнуть и то, что в работах Н. Струве и М.Л. Гаспа-рова поэтика Мандельштама рассматривается в динамике, указаны основные фазы её развития и подчёркнуты биографические, исторические, философские предпосылки формирования и изменения творческой манеры поэта. «Логика поэзии Мандельштама как целого» (Е.М. Таборисская) проясняется в монографии В.В. Мусатова:13 исследователь прослеживает становление основных тем и мотивов лирики поэта, даёт богатый материал о сформировавших Мандельштама «влияниях». Д.И. Черашняя, «пытаясь понять, что стягивает лирику О. "Мандельштама в органически целое единство»1*, находит «синтезирую- w Там же. С. 62. 11 Струве Н. Осип Мандельштам. Томск, 1992. С. 181. 12 Гаспаров М.Л. Поэт и культура. Три поэтики О. Мандельштама // МандельштамО.Э. Полное собрание стихотворений. 1995. С. 7-8. В дальнейшем ссылки на эту работу даются по данному изданию. 13 Мусатов В.В. Лирика О. Мандельштама. Киев. 2000; Таборисская Е.М. Лирический мир О. Мандельштама как целое: рецензия // Русская литература. 2001, № 3. С.229-231. 14 Черашняя Д.И. Поэтика Осипа Мандельштама: субъектный подход. 2004. Ижевск, С.43. щую» функцию в «трёхипостасной авторской личности» (Я-земное, Я-поэт, над-Я).15
Мандельштам интересен не только как поэт особого толка, в чьём творчестве ярко выразилась синтезирующая интенция, но и как теоретик, филолог: одной из центральных для него теоретических проблем, начиная с 1910-х годов, становится проблема поэтического образа, вопрос о механизмах возникновения «новых смыслов». В работах современных исследователей Л. Закса, А. Гениса мандельштамовский «Разговор о Данте» понимается как трактат, в котором сформулированы принципьі новой, «органической» парадигмы мышления. Н.Л. Лейдерман полагает, что манделынтамовский «Разговор о Данте» — манифест «новой, релятивистской, в сущности, поэтики».17
Постоянно растущее число работ о мандельштамовском творчестве — от осмысления его как целостности, в контексте Судьбы Поэта, Эпохи, Культуры, до исследований частных проблем поэтики (интертекст18; тропика19; ритмика20; 15 Там же. С. 52. 16 Генис А. Мандельштам и органическая поэтика // Генис А. Метаболизм поэзии. Ман дельштам и органическая эстетика // http: www. synnegoria. com/ tsvetaeva/ WIN/ silverage/ mandelstam/ genismetabol. html. ЗаксЛ. Концепция духовно-органической формы ... // Екате ринбургский гуманитарий. 1999. № 1. С. 119-141. См. подробнее в главе 2.1. "Лейдерман Н.Л. Указ. раб. С. 22. 18 Об отдельных проблемах поэтики см: интертекст; Тарановский К. Очерки о поэзии Мандельштама // Тарановский К. О поэзии и поэтике. 2000. Ссылки на работы К.Тарановского даются по изданию: Тарановский К. О поэзии и поэтике. М., 2000. Диалог с русской классикой — Эпштейн М.Н. Тема и вариации // Эпштейн М.Н. Парадоксы новизны. М., 1988; Кузьмина С. Два превращения одного солнца: заметки к «пушкинской» теме у Мандельштама // Литературное обозрение. 1991. № 1. С. 37-41; Магомедова М.Д. Мандельштам и И.И. Дмитриев // Творчество Мандельштама и вопросы исторической поэтики. Кемерово, 1990; Гаспаров Б.М. Сон о русской поэзии // Гаспаров Б.М. Литературные лейтмотивы. Очерки по русской литературе XX века. М., 1993; Мусатов В. В. Мандельштам и Тютчев // Творчество писателя и литературный процесс. Иваново, 1982. С. 189-205; Мусатов В.В. Пушкинская традиция в русской поэзии первой половины XX века. 1997; Сурат И. Смерть поэта. Мандельштам и Пушкин // Новый мир. 2003. № З.С. 155-173. Диалог с поэтами-современниками — Цивьян Т.В. Мандельштам и Ахматова: к теме диалога; Левинтон Г.А. Мандельштам и Гумилев // Столетие Мандельштама. 1994. С. 21-30, 30-44; Шиндин СТ. Фрагмент поэтического диалога Мандельштама и Хлебникова // Смерть и бессмертие поэта. С. 254-271. Апелляция к фольклорно-мифологическим представлениям — Мусатов В.В. О фольклорном подтексте сталинской темы в воронежских стихах Мандельштама // Смерть и бессмертие поэта. 2001. С. 155-162; Панова Л. Г. Пространство и время в поэтическом языке О."Мандельштама // Изв. АН СЛЯ. 1996. Т. 55. № 4; Павлов М.С. О. Мандельштам: «Как светотени мученик Рембрандт...» // Филологические науки. 1991. № 6. С. 20-30; Петрова Н. Семантика черёмухи в поэзии О. Мандельштама // Смерть и бессмертие поэта. 2001. С. 190- словесная пластика21; художественное пространство и время22 и др.) и проясне-ния семантики некоторых мотивов и образов — влечёт за собой увеличение списка тех новаций, которые открывает поэзия Мандельштама. Мы считаем наиболее значимыми открытия Мандельштама в творении поэтического образа и ставим в центр нашего исследования вопрос о специфике принципов образо-творчества О.Э. Мандельштама.
О.Э. Мандельштам о поэтическом образе (по статьям 1910 -20-х годов)
О.Э. Мандельштам вошёл в русскую литературу в пору господства символизма. Теория поэтического образа символистов опиралась на лингвистические идеи А.А. Потебни, считавшего, что способность к образопорождению заложена в самой структуре слова. Слово складывается из трёх составляющих: внешней формы (звуковой состав слова); понятия, которое передаётся через звуковую оболочку, и внутренней формы слова. Внутренняя форма слова — его этимологическое значение — тот признак, на основе которого возникло понятие, поэтому изначально все слова образные.
А.А. Потебня проводит аналогию между словом и художественным произведением, утверждая, что в последнем «есть те же самые стихии, что и в слове: содержание (или идея)...; внутренняя форма, образ, который указывает на это содержание, соответствующее представлению... и, наконец, внешняя форма, в которой объективируется художественный образ».1
Художественный образ, по определению Потебни, - «многозначная эмоционально-смысловая данность»; «поэтический образ, каждый раз когда воспринимается и оживляется понимающим, говорит ему нечто иное и большее, чем то, что в нём непосредственно заключено»; «поэзия есть преобразование мысли ... посредством конкретного образа, иначе: она есть создание сравнительно обширного значения при помощи единичного сложного (в отличие от слова) ограниченного словесного образа (знака)».
А.А. Потебня говорит о способах создания поэтического смысла: это, во-первых, «прояснение внутренней формы слова», а во-вторых, ложная этимология, возникающая в случае забвения или затемнения внутренней формы. В этом случае поэтический смысл возникает за счёт соотнесения данного слова с другим, похожим по звучанию и более понятным, то есть посредством слов, сходных своей внешней формой.
Символисты стали верными последователями Потебни. «Символическая школа видит языковой свой генезис в учениях В. фон-Гумбольдта и Потебни», — писал А. Белый в автобиографическом очерке 1928 года «Почему я стал символистом и почему не перестал им быть».3
В первую очередь, символистам оказалась близкой идея А.А. Потебни о «внутренней форме», поскольку она была адекватна представлениям символистов о «параллели феноменального и ноуменального» в мире, о том, что «искусство провидит во внешнем ... внутреннюю и высшую действительность» (Вяч. Иванов).4 «Внутренняя форма» слова как раз и представлялась тем «ноуменальным», к которому стремились символисты, поэтому путь создания поэтического смысла, обозначенный выше как «прояснение внутренней формы слова», для них оказался предпочтительным.
Во-вторых, идеи Потебни, в частности, его классификация тропов, помогали символистам обосновать и сформулировать теорию образа-символа. В статье 1904 года «Магия слов» А. Белый, анализируя типологию «форм изобразительности» Потебни, делает заключение: «В формах изобразительности есть нечто общее: это стремление расширить словесное представление данного образа [курсив наш - Л.Г.], сделать границы его неустойчивыми, породить новый цикл словесного творчества, т. е. дать толчок обычному представлению в слове, сообщить движение его внутренней форме; изменение внутренней формы слова ведёт к созиданию нового содержания в образе».5 Для создания образа-символа, «предметное содержание которого является лишь средством выражения отвлечённого и значительного значения»6, — необходимо расшатать жёсткую однозначность семантики слова, сделать так, чтобы ассоциативный потенциал слова максимально реализовался. Эта цель, судя по словам Белого, достижима в случае, если «прояснение внутренней формы слова» будет не единственным путём создания поэтического смысла.
Л.Я. Гинзбург в главе о символизме в книге «О лирике» отмечает, что «самым решающим изменениям подвергся в лирике [символистов - Л.Г.] семантический строй, структура поэтического образа... Создаётся поэтика намёков, аналогий, внушений, не только пропущенных, но рационально не восстановимых звеньев движения поэтической мысли».7 Смысловая структура поэтического слова XIX века разрушается за счёт использования новых ритмов, «странных синтаксических сцеплений», благодаря «звуковой инструментовке», переосмыслению традиционных поэтических образов путём включения их «в новые метафорические единства».8 Результатом экспериментов символистов и стало открытие «суггестивного слова..., обладающего способностью внушать представления, выходящие за его пределы. Эта система приучала читателя воспринимать каждое слово как выражение неких глубинных значений».9
Как известно, Мандельштам начинал как ученик символистов. Причём, по словам Л.Я. Гинзбург, из будущих акмеистов он дольше всех «упорствовал в символистской ереси».10 Вопрос об ученичестве Мандельштама у Вяч. Иванова и И.Ф. Анненского подробно рассмотрен в работе В.В. Мусатова.11 Во взглядах первого Мандельштама привлекала идея дионисийства, через которое художник идёт к «аполлонийскому видению»: «Дионисийский экстаз разрешается в аполлинийское видение. Восторг и одержание, испытываемые художником, сокрушили бы свой сосуд, если бы не находили исхода в творчестве. Героический порыв хочет жертвенного дела. Ибо аполлинийские чары ждут дионисийского самозабвения; и мрамор зовёт ваятеля; и дело требует героя». Дионисийский экстаз для Вяч. Иванова — необходимая ступень для достижения художником «соборности» — способности выражать коллективную психологию. На первых этапах существования человеческой культуры творец воплощал в своих созданиях именно душу, «Психею» народа; с эпохи Возрождения началась эра индивидуализма. Вяч. Иванов уповал на скорейшее рождение эпохи «культурной интеграции», когда художник, как и впредь, станет творцом мифа. В целом принимая мысль Иванова о необходимости выражения в творчестве народного духа, Мандельштам тяготел к тому пути обретения искомой способности, который предлагал И.Ф. Анненский. В.В. Мусатов отмечает: «Анненский настаивал на том, что стихи должны стать возбудителями в читателе творческого настроения, которое должно помочь ему опытом личных воспоминаний «восполнить недосказанность пьесы»... Развивая ассоциативные возможности поэтического слова, ... Анненский апеллировал к читательской способности «вторичного синтеза». Говоря по-иному, стихотворение возбуждало в читателе аналогичное собственное переживание, и, таким образом, поэзия открывала надлич-ное поле сознания, в котором происходила встреча индивидуумов изнутри их общего опыта».ь
Мощное влияние символистов на становление творческого сознания О.Э.Мандельштама обусловило специфику его теоретических суждений. С.М.Марголина, анализируя статьи Мандельштама 1910 - 20-х годов в аспекте полемики с символистами, отмечает и доказывает, что «чем более фундаментальные цели преследовала полемика, тем с большей силой проявлялась преемственность по отношению к символистской эстетике».1 Иначе говоря, Мандельштам-акмеист находился с символистской эстетикой в отношениях притяжения-отталкивания.
Концепция поэтического слова в «Разговоре о Данте»
Рефлексия О.Э. Мандельштама о поэтическом слове сопрягалась с активной художественной практикой. Иногда, как в случае с «Камнем», теоретические суждения и книга звучали согласно, а иногда — в случае «Tristia» — теоретические статьи («Слово и культура», «О природе слова») как бы «запаздывали», создавались на основе уже существующих поэтических творений. Как в поэтической практике отразились этапы отношения Мандельштама к поэтическому слову?
«Причудливые узоры»36 мандельштамовской поэзии были отмечены уже его современниками. Публикации первых книг О. Мандельштама имели большой резонанс в литературной среде. В. Нарбут, С. Городецкий, Н. Гумилев, В. Пяст, М. Волошин, В. Ходасевич со вниманием отнеслись к дебюту Мандельштама. С. Городецкий, например, указывает на совершенство поэтического языка «Камня», отмечая при этом «мнимый лаконизм», «ломкость скрепок (союзов)», М. Волошин говорит о певческом даре, богатом оттенками, обе-щающем стать «еще более гибким и мощным». Правда, и некоторые очень тонкие знатоки поэзии не сумели поначалу понять и оценить первых книг Мандельштама. Так, В. Ходасевич отмечал: «Его отлично сделанные стихи становятся досадно комическими, когда за их «прекрасными» словами кроется глубоко ничтожное содержание [...] Ну, право, стоило ли тревожить вершины для того только, чтобы описать дачников, играющих в теннис?»38
Творчество Мандельштама привлекло интерес не только поэтов, но и наиболее талантливых литературных критиков, став объектом серьезных споров. Статьи В.М. Жирмунского о Мандельштаме проникнуты настроением удивления и некоторого недоумения. На фоне превалирующего в поэзии начала века «романтизма» (в понимании Жирмунского) стихи Мандельштама отличались «любовью к точному определению, эпиграмматической точности»; искусство поэта названо «строгим и сознательным», что позволяет отнести этого автора к поэтам «классического типа»40. Однако анализ того компонента, который Жирмунский считает ключевым для определения «типа поэтического творчества» -— а именно метафоры, — приводит к мысли о том, что если Мандельштам — поэт «классического типа», то, по крайней мере, он не полностью укладывается в рамки этого определения. «В метафорах и сравнениях Мандельштам всегда сопоставляет четкие и графические представления, самые отдаленные друг от друга, фантастически неожиданные, относящиеся к областям бытия [...] раздельным», — отмечает сам исследователь в 1916 году.4 В заметке «На путях к классицизму» (1921) исследователь назовет Мандельштама «величайшим фантастом в области словесных образов», отметит «гротескные изломы» в сочетании поэтических образов, но при этом определит фантастику поэта как «математическую», то есть подчиняющуюся определенной логике.42
В 1929 году выходит полемизирующая с работами В.М. Жирмунского статья Б.Я. Бухштаба «Поэзия Мандельштама», в которой утверждается, что в стихотворениях этого поэта отсутствуют «вещественно-логические связи» между словами, характерные, по мысли Жирмунского, именно для творчества «классических поэтов». Существует, — говорит Б. Бухштаб, — скорее, видимость этих связей, возникающая благодаря поэтическим формулам из лирики XIX века, которые играют в стихах Мандельштама «роль междустрофных союзов». В то время как в лирике XIX века это были союзы «с усиленным формальнологическим значением», в стихотворениях Мандельштама они «демонстративно не выстраивают логики».43 Б. Бухштаб характеризует Мандельштама как поэта «классической зауми».
Термин «заумь» был введен футуристами; в «Декларации поэтического языка» (1922) А. Крученых писал: «Мысль и речь не успевают за переживанием вдохновенного, поэтому художник волен выражаться не только общим языком (понятия), но и личным (творец индивидуален), и языком, не имеющим определенного значения (не застывшим), заумным».44 В поэзии Мандельштама 1910-х годов нет и следа подобной зауми. Бухштаб подчеркивает, что заумь Мандельштама — «классическая», полагая, что за внешней классичностью — благозвучием, синтаксико-мелодическои четкостью, торжественностью, архаичностью и риторичностью лексики, за построением поэтического произведения как замкнутой и автономной системы — кроются новая поэзия и новая поэтика.45 Мандельштам сумел создать «общее ощущение поэзии начала прошлого века»46, утверждает Б. Бухштаб, но принципы словоупотребления у него особые.
Ю.Н. Тынянов в статье «Промежуток» (1924), давая «зарисовки» творческих индивидуальностей поэтов-современников, говорит и о Мандельштаме. Помимо того что при характеристике словесных сцеплений в стихах Мандельштама исследователь разделяет мнение В.М. Жирмунского (Мандельштам прибегает «к почти безумной ассоциации», — говорит Тынянов47), он даёт своё объяснение механизма образотворческой работы Мандельштама-поэта: Мандельштам имеет дело с «оттенками слов», с отдельными компонентами их семантики, причем в структуре значения слова они, как правило, являются «косвенными, необязательными».48 Смыслопорождающим механизмом в лирике раннего Мандельштама становится контекст одного или нескольких стихотворений: «оттенок, окраска слова в каждом стихе не теряется, она сгущается в последующем».49 В работе Тынянова начала вызревать идея о существовании в стихах поэта особой глубинной структуры, которая образуется из взаимодействия сем как компонентов значения. В дальнейшем она получит развитие в трудах Ю. Левина, Р. Тименчика, Т. Цивьян, Д. Сегала, обосновавших теорию «семантической поэтики».50
Творчество раннего Мандельштама — автора стихотворений 1908-1925 годов, в литературоведении рассматривается в динамике. Так, М.Л. Гаспаров в связи с «Камнем» говорит о «поэтике реминисценций», в связи с «Tristia» — о «поэтике ассоциаций». Л.Я. Гинзбург рассматривает раннее творчество поэта, располагая его внутри «координатной сетки», образованной лучами «символизм» и «акмеизм».51 В чём состоит специфика образотворчества раннего Мандельштама, начиная с «Камня»? Как художественная практика Мандельштама сопрягалась с его теоретическими выступлениями?
«1 января 1924» и «Нет, никогда ничей я не был современник...»: от частности к закономерности
Проблема взаимоотношений Человека и Времени является центральной для стихотворений 1921-25 годов. Так или иначе этой проблемы касались М.Л.Таспаров, Л.Г. Кихней, В.В. Мусатов; динамика взаимоотношений Человека и Века была прослежена в работе Е.Г. Эткинда «Осип Мандельштам. Трилогия о веке». Хотя стихотворения «1 января 1924» (1924, 1937; 152-154) и «Нет, никогда ничей я не был современник...» (1924, 154) неоднократно рассматривались в литературоведении, их семантическая структура настолько сложна, что рождает новые трактовки. Рассмотрим стихотворения о Веке в связи с центральной для нас проблемой образотворчества.
«Двойчатка» о веке — последняя в раннем творчестве Мандельштама — тесно примыкает к стихотворению «Век» (1922, 145). Его ключевой образ — образ больного времени, уподобленного животному с перебитым хребтом. Лирический герой стихотворения сострадает времени и находит способ помочь: «Чтобы вырвать век из плена, / Чтобы новый век начать, / Узловатых дней колена / Нужно флейтою связать». Тема спасительного творчества, поэзии переплетается с темой времени и становится сквозной для стихотворений о веке, поставленных в центр нашего внимания.
В стихотворении «1 января 1924» отношения Века и Человека осмысляются как отношения отца и сына. Век-отец, представленный в первой строке как существо беспомощное, высушенное болезнью («Кто время целовал в измученное темя...»\ уже в пределах строфы осмысляется как что-то чудовищное: сближение слов-омонимов «век» и «веки» подключает к тексту образ гоголевского Вия («Кто веку поднимал болезненные веки...») — верховного существа в мире нечисти, способного переступить черту, которая обеспечивает безопасность человека. Век-отец обладает гибельной силой. Во второй строфе даётся своего рода «портрет» Века-человека: «Два сонных яблока у века-властелина / И глиняный прекрасный рот...». Следует отметить взятое из анатомической сферы слово «яблоко» (глазное яблоко): использование его вместо слова «глаз», а также выбор эпитета «глиняный» (неоднократно говорилось о его связи с «колоссом на глиняных ногах» — воплощением ненадёжности и мнимой мощи; кроме того, в контексте книги «глиняный» — значит ломкий, хрупкий) продолжают формировать семантику болезни и беспомощности. Во второй части строфы мотив рта переводится в иной регистр: Я знаю, с каждым днём слабеет .жизни выдох, Ещё немного — оборвут Простую песенку о глиняных обидах И губы оловом зальют. В строфе возникает, говоря словами Ю.И. Левина, «неопределённая модальность». Действительно, чьи губы зальют оловом? О Веке или о его «стареющим» Сыне идёт речь? Третья строфа стихотворения вводит тему «потерянного слова», идущую из книги «Tristia» и устойчиво ассоциируемую с творческим процессом: Какая боль — искать потерянное слово, Больные веки поднимать, И с известью в крови для племени чужого Ночные травы собирать. Сын Века, исходя из этих строк, — поэт, и он также испытывает боль. Сын-Поэт, взявший на себя обязанность помогать Веку, страдает, поскольку чувствует «чуждость» Века, его гибельную, смертоносную сущность. Союз Поэта и Века сопряжён для первого с поиском «потерянного слова», то есть с трудностью поэтического созидания и даже с нежеланием его. Этот вывод подкрепляется интерпретацией словосочетания «известь в крови», предложенной Е.Г. Эткиндом (речь идёт о склерозе, забивающем сосуды, затрудняющем память)130, а также аллюзией на стихотворение А.С.Пушкина «...Вновь я посетил...»: ...Здравствуй, племя Младое, незнакомое! не я Увижу твой могучий, поздний возраст... 31 Лирический герой Мандельштама не хочет для «племени чужого», «незнакомого» «ночные травы собирать» — не желает делиться с ним своим тайно-действием. Коллизия «Век — Человек» трансформируется, таким образом, в коллизию «Поэт и Время». Возвращаясь ко второй строфе, отметим, что Век-властелин, Век-отец «припадает к руке [...] сына». Что это: жест благодарности? Знак мольбы? В любом случае, Человек-Поэт оказывается не менее властительным, он нужен Веку. Итак, в 1-3 строфах Век — и жертва, и палач, он молит о помощи, но он и приказывает. Человек, заботливый сын Века, помогает ему, одновременно осознавая его страшную силу. Сын-поэт ощущает, что ему придётся поступиться собой, чтобы творить во имя Века (отсюда и образ «человека, / Который потерял себя»), В четвёртой строфе образ больного сына наполняется иными коннотациями, обусловленными историческими реминисценциями. Стихотворение «1 января 1924», начатое в Киеве, было дописано в Москве после похорон Ленина. В газете «Известия» за 25 января 1924 года Мандельштам наверняка прочёл справку о результатах вскрытия тела вождя: «Основой болезни Владимира Ильича считали затвердение стенок сосудов (артериосклероз) [...] Основная артерия, которая питает, примерно, три четверти головного мозга... — «внутрен 131 няя сонная артерия», — при самом входе в череп оказалась настолько затверделой, что стенки её ... в некоторых местах настолько были пропитаны известью, что пинцетом ударяли по ним, как по кости [...] [Склероз] в мозгу пошёл ... вплоть до обызвествления сосудов».132 Вероятно, в результате поэтического осмысления появляются строчки:
Век. Известковый слой в крови больного сына Твердеет. Спит Москва, как деревянный ларь... Деревянный ларь — первый, наскоро сколоченный Мавзолей, имевший форму куба, короба. Итак, категория «Век» персонифицируется в образе больного сына века — Ленина. Эта историческая реминисценция на время «приглушается», но она ещё сыграет свою роль в смыслопорождении в дальнейшем. В этой же строфе лирический герой показан в ситуации рубежа, необходимости сделать шаг — и при этом поступить по совести:
Мне хочется бежать от моего порога... Куда? На улице темно, И, словно сыплют соль мощёною дорогой, Белеет совесть предо мной. Необходимо сказать, что «соль» в структуре книги «1921-1925» — сквозной образ, и, по мысли М.Л. Гаспарова, с которой следует согласиться, это «священная соль, очищающая жертву перед закланием» . В стихотворение вводится мотив казни, и, с нашей точки зрения, это казнь героем самого себя. В шестой строфе лирический герой совершает выбор:
«Колючая речь Араратской долины...», «Дикая кошка — армянская речь...» и «И по-звериному воет людьё...»: от пушкинской автобиографии к пушкинским сказкам
При анализе стихотворных «гнёзд» 1908-25 годов мы подчеркнули, что ключевая роль в образотворчестве принадлежит интертекстуальным перекличкам. Сохраняется ли эта функция интертекста в «гнёздах» 1930-х годов?
В настоящем параграфе мы поставили в центр внимания поэтические «гнёзда» с пушкинским интертекстом (речь идёт о «гнёздах», в которых хотя бы одно стихотворение содержит пушкинский «подтекст», и он является принципиальным с точки зрения образотворчества): это объясняется, с одной стороны, необходимостью локализации большого материала, с другой — значимостью личности и творчества А. С. Пушкина для творческой индивидуальности
Мандельштама.11 И. Сурат убеждена, что отношение Мандельштама к Пушкину есть «глубокая, интимная тайна духа».
Н.А. Петрова так объясняет притягательность личности Пушкина для поэтов начала XX века — и, в частности, для Мандельштама: «В эпоху слома мировоззренческих основ [...] главной точкой отсчёта для русской литературы остаётся Пушкин — начало начал и вершина, зачинатель-завершитель, как Данте в европейской. Необычайная притягательность его образа объяснима острой потребностью совместить разошедшиеся тенденции». Это утверждение особенно верно в связи с Мандельштамом, для которого проблема синтеза остро стояла с самого начала творческого пути: в раннем стихотворении, помнится, он говорил о необходимости сочетать в стихе «суровость Тютчева с ребячеством Верлена», «величье» с «птичьим щебетаньем»; в статьях 1910 - 20-х годов шёл к синтезу символистских и футуристических эстетических установок, а в 1930-е годы искал основания для синтеза в творчестве Данта. «Пушкин для Мандельштама, — продолжает Н. Петрова, — является абсолютным пратек-стом и метатекстом, воплощением искусства и способом коммуникации».14 По убеждению С.Н. Бройтмана, у Мандельштама было «субстанциональное, а не узко-поэтическое... понимание Пушкина, имеющее аналогии у Хлебникова, но прежде всего у Блока».1"
В данном параграфе выяснение специфики образотворческой работы Мандельштама будет сопряжено с раскрытием вопроса о назначении апелляций Мандельштама к Пушкину. «Дикая кошка - армянская речь...», « И по-звериному воет людьё...»: между «Путешествием в Арзрум» и пушкинской сказкой Первыми стихотворениями О.Э. Мандельштама после периода поэтического молчания были стихи об Армении — одноименный цикл и шесть примыкающих к нему стихотворений: «На полицейской бумаге верже...», «Как люб мне натугой живущий...», «Колючая речь Араратской долины...», «Дикая кошка — армянская речь...», «И по-звериному воет людьё...», «Не говори никому...». Эти стихи, каждое из которых восходит к отдельным строкам разных частей цикла «Армения», между собой скреплены достаточно слабо: общим является, во-первых, выдержанность в ритме трёхсложников (в основном, амфибрахий, дактиль), а во-вторых, мотив «колючести», явный в стихотворениях «Колючая речь араратской долины...», «Дикая кошка — армянская речь...» («...царапает ухо»), «На полицейской бумаге верже...» {Ночь наглоталась колючих ершей...), скрытый — в стихотворении «Не говори никому...» (образы осы и хвои). Дополнительной «скрепой» для стихотворений, указанных в заглавии раздела, являются «армянские» мотивы (армянская речь, Эрзерум).
Стихотворение «Колючая речь Араратской долины...» (1930) находится в тесной связи с циклом «Армения»: у них общая цветовая палитра {«Лазурь да глина, глина да лазурь»), образ Земли Араратской, уподобленной древней книге истории человечества, — является центральным и в цикле, и в стихотворении «Колючая речь Араратской долины...». Стихотворение пронизано мотивами армянских языка и речи, наделённых свойством «колючести», что в связи с известными фразеологизмами «уколоть словом», «правда глаза колет» воспринимается как знак правдивости, правильности, праведности:
Колючая речь Араратской долины,
Дикая кошка - армянская речь, Хищный язык городов глинобитных, Речь голодающих кирпичей... 16
В этом стихотворении создан образ прекрасной древней земли — «младшей сестры земли Иудейской», по определению Мандельштама. Однако, как и в цикле «Армения», здесь подчёркнута искалеченность, израненность этой «дикой», непокорной страны: замыкает стихотворение строчка с образом «чёрной кровью запёкшихся глин...».
Вторая строка этого стихотворения становится началом другого — «Дикая кошка — армянская речь...» (1930). Работа над ним шла долго: первые его редакции датированы октябрем 1930 года, а в Ватиканском Списке под стихотворением стоит дата «ноябрь 1930». По свидетельству жены, «О.М. думал несколько изменить последнее четверостишие... Потом от этой мысли отказал-ся». Действительно, существует вариант последней строфы, а также несколько вариантов стихотворения «И по-звериному воет людье...», находящегося с «Дикой кошкой...» в очевидном родстве.18 Итак, Мандельштам создавал это стихотворение параллельно с написанием других «армянских» текстов, работал над ним дольше, чем над другими, что определяет особую значимость стихотворения в творчестве поэта начала 1930-х годов.
Кроме общности строк в начале (ср. «Колючая речь Араратской долины — Дикая кошка — армянская речь...» и «Дикая кошка — армянская речь Мучит меня и царапает ухо...»), эти стихи связаны мотивом неблагополучия, только в «Дикой кошке...» он становится центральным и переводится в иной регистр, начиная соотноситься с образом человека с изломанной жизнью.