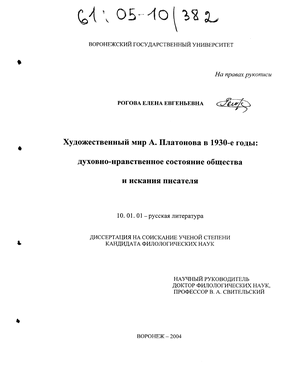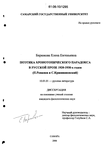Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Повесть «Джан»: судьба народа и преемственность исканий писателя 23
Глава II. Драматургия А. Платонова 1930-х гг.: между сатирой и трагедией 65
Глава III. Рассказы 1930-х гг.: от экспрессии протеста к обретению гармонии 124
Заключение 186
Примечания и сноски 191
Список литературы 214
- Повесть «Джан»: судьба народа и преемственность исканий писателя
- Драматургия А. Платонова 1930-х гг.: между сатирой и трагедией
- Рассказы 1930-х гг.: от экспрессии протеста к обретению гармонии
Введение к работе
Наиболее исследованным периодом творчества А. Платонова является период 1920-х годов - взгляды и произведения писателя в это десятилетие изучены достаточно полно и, при всей их сложности и оригинальности, все же не вызывают принципиальных разногласий в научной литературе.
Совершенно иначе обстоит дело с периодом 30-х годов, временем острейших противоречий и в жизни советского общества в целом, и в судьбе и творчестве Платонова, в частности. До сих пор этот период остается не поддающимся научным определениям при попытках истолкования тех реальных явлений и процессов, которые имели место в культуре. Если в советское время в характеристике этого периода доминировала апологетика всех сторон общественной жизни, в том числе и ее духовной сферы, то сейчас наблюдается противоположная тенденция — в сторону абсолютного неприятия эпохи и ее культурного наследия. Однако нельзя не отметить и появление пока еще немногочисленных работ, в которых авторы стремятся к объективному анализу всего литературного процесса 30-х годов: это труды М. О. Чудаковой, Г. А. Белой, В. П. Скобелева, Н. В. Корниенко, Т. А. Никоновой, М. М. Го-лубкова и др. Отсутствие системных исследований непосредственно по творчеству А. Платонова 30-х годов обусловливает актуальность предлагаемой работы.
Эпоха 1930-х годов, рассматриваемая сегодня подчас весьма схематично, несмотря на обилие исторических документов и живых свидетельств современников, была для Платонова неотъемлемой частью его реального существования. Пусть этот этап мучительно переживался писателем, не раз оказывавшимся в тупике социального одиночества, принявшим на себя шквал разгромной критики, порой болезненно ощущавшим свою вынужденную душевную раздвоенность, но и в этот период продолжались поиски Платоновым своего места в жизни и литературе. Автор «Джан» жил своим временем и его проблемами, он хотел участвовать в буднях и праздниках общества, хотел быть признанным в литературе, он страдал из-за непонимания его современниками, пытался «достучаться» до общественного сознания и отнюдь не стремился ни осесть в андеграунде, ни примириться с ярлыком «маргинала».
Напротив, 30-е годы стали для Платонова периодом, когда им сознательно и неоднократно были предприняты попытки «вернуться» в русло «разрешенной» литературы. Свидетельств этому достаточно: «покаянный вечер» 1 февраля 1932 г.; ряд публицистических и литературно-критических статей в духе времени (например, «Советский Таджикистан», «Павел Корчагин», «Агония: по поводу романа Р. Олдингтона «Сущий рай», статьи о «мнимой беллетристике» А. Грина, К. Паустовского и др.); отчасти - произведения «Высокое напряжение», «Ювенильное море», «Бессмертие», «Счастливая Москва». Но за каждой такой попыткой «переработать себя» или подать действительность в требуемом виде обнаруживается еще более сильное стремление оставаться самим собой, сохранить достоинство, что в дальнейшем будет рассмотрено нами на конкретном материале. Столь противоречивые тенденции в творческой деятельности писателя обусловили возникновение разных линий реализации художественной личности Платонова в рамках одного периода. Кроме попыток для легального существования в рамках системы, писатель находит такие формы, которые позволяют ему быть вне политики - это рассказы «Фро», «Река Потудань», «Третий сын», «Июльская гроза» и другие. Но свойственные Платонову конца 20-х годов критический взгляд на действительность и позитивный пафос не исчезают и в 30-е годы, обнаруживая себя - вольно и невольно - в повести «Джан», рассказе «Мусорный ветер», пьесах «Шарманка» и «14 Красных Избушек». Таким образом, субъективно стараясь придерживаться кода официального искусства, объективно в большинстве произведений А. Платонов находится в оппозиции к нему и вне его, что особенно усугубляется обстоятельствами общественной и литературной жизни 1930-х годов.
30-е годы XX века некоторые литературоведы и культурологи сегодня оценивают как начало периода упадка современной культуры.1 Испытывающая воздействие политических, социально-экономических, общекультурных факторов, литература этого периода в большинстве стран переживала снижение художественного уровня по отношению к началу века. Литература 30-х годов рождена временем небывалого подавления личности, тоталитарных режимов, эпохой ортодоксии, страха, экономической депрессии. Происходит почти повсеместная политизация литературы, которая, по мнению Дж. Ору-элла, привела, например, роман к упадку: «Атмосфера ортодоксальности всегда пагубна для прозы и уж совершенно нетерпима для романа - наиболее анархичной литературной формы ... . Искусство романа - это, по сути дела, протестантское искусство, оно продукт вольного ума, независимой личности. За последние полтора века ни одно десятилетие не оказалось так скудно на художественную прозу, как 30-е годы» .
Ускорение технического прогресса, кроме весьма распространенной эйфории, воспринимается одновременно как угроза самим основам человеческого существования, а ставшая в конце десятилетия неизбежностью война придала всему новую - трагическую - перспективу. В день ее начала английский поэт У. X. Оден назвал минувшее десятилетие «низким и бесчестным». «Та же горечь разочарования видна во всех характеристиках 30-х годов, данных М. Маггериджем, Дж. Оруэллом, растерянность и стыд за вчерашние иллюзии выместились в гневные обличения «лживого», «мрачного» десяти-летия» . Таким образом, 30-е годы XX века по крайней мере для европейского мира отмечены знаком катастрофы, апокалиптическими настроениями. Получилось, что Россия не была исключением из всеобщей беды, но это мы видим скорее из нашего сегодня: наряду с общими тенденциями, у нее были и весьма заметные особенности, делавшие ее явлением специфическим.
30-е годы в советской стране стали логическим продолжением революционных катаклизмов, она явила такие жестокие, антигуманные формы об щественного устройства, каких еще не знала ни русская, ни мировая история. Построение тоталитарного общества происходило неумолимо и по всем направлениям. Первая половина 30-х годов определялась советскими идеологами и историками как «время Великого перелома», что основывалось прежде всего на радикальных экономических преобразованиях. Первая пятилетка, развернувшаяся в 1929 - 1934 годы под знаком индустриализации и коллективизации, принесла, по официальным источникам информации того времени, громадные успехи в строительстве социализма, а на деле стала пиком наступления на права народа, личности, самого естества - об этом мы можем судить по документам и фактам, открывшимся сравнительно недавно. Система подавления человека в тоталитарном государстве была всеохватывающей и универсальной. Советское государство, помимо тотального террора, опиралось в своей деятельности и на тотальную ложь.
При Сталине «партия подвергается атакам врагов, но не совершает уже ни одной ошибки, советское государство - безупречно, а любовь народа к власти - безгранична. Государство, ликвидировав все без исключения инструменты общественного контроля над властью, оправдывает свою власть тем, что оно «принципиально» воплощает интересы, нужды и желания трудящихся. Легитимизация носит идеологический характер» . Особую «атмосферу» создавали «контрольные цифры пятилетнего плана», погоня за которыми во многом обусловила, с одной стороны, сверхнапряженный ритм труда миллионов (пресловутые «темпы»!), а с другой — постоянную фальсификацию результатов строительства, которая вскоре станет обязательной частью мифа о советской стране: «Вся страна уходит из мира реальности и начинает жить в мире фантазии, в мираже. Цифры перестают что-либо значить, они становятся лишь символом желания бежать вперед, как воздушный шар, они уносят страну в несуществующий мир»5.
«Наступление» государства на жизненные интересы своих граждан широким фронтом шло по всем линиям. Эпоха 1930-х годов стала временем беспрецедентного вторжения в духовно-нравственную сферу отдельного человека и общества в целом. Предполагалось, что полноценный гражданин советского государства и член социалистического коллектива в своем сознании не должен иметь ничего, кроме «правильного» мировоззрения, самых «передовых идеалов» и четко ориентированных эмоций. Подрастающим поколениям внушались чувства превосходства по отношению ко всем другим странам, еще не вставшим на путь социализма, чувство классовой исключительности и пренебрежения ко всем другим классам и социальным группам, историческое высокомерие в отношении к прошлому. В этот период проводится планомерное наступление на церковь. В журнале «Культурный фронт ЦЧО» перед началом 30-х годов приведена статистика степени религиозности населения: «Насколько крепка эта вера, видно не только из большого % верующих вообще, но и из того, что еще 51,7 % принимают священников по праздникам, 21,8 % семей учат детей молитве и 8 % посылают своих детей в церковь» . Цифра неверующих повышается, но повышается очень медленно, несмотря на то, что уже 11 лет школа отделена от церкви. Такие данные убеждают власть в крайней необходимости антирелигиозного воспитания детей в школе: «Наш лозунг — активное антирелигиозное воспитание в школе, борьба за ученика-атеиста, истинного проводника пролетарской культуры» . По воронежским воспоминаниям С. П. Климентова, «до 1929 г. все русские о люди ходили в церковь» . В 1932 году объявляется «антирелигиозная пятилетка». Согласно плану, к «1 мая 1937 года на всей территории СССР не должно было больше остаться ни одного молитвенного дома, и само понятие Бога должно быть изгнано, как пережиток средневековья, как орудие угнетения рабочих масс» .
Претерпевает реформы советская школа. С 1931 - 1932 учебного года вводится 7-летний всеобуч. Отмечая огромную культурную отсталость, отсутствие школ на селе, партия прибегает к жесткому планированию и в этой области: «План ОБОНО по ликвидации неграмотности предусматривает обу чение в 29 - 30 году 551.000 неграмотных ... . Но следует стремиться к большему, к тому, чтобы обучить в текущем году до 800.000 неграмотных...» На школу также распространяются идиомы эпохи: повсюду звучат требования классового подхода в деле образования и воспитания кадров, основные направления школьного существования определяются такими лозунгами, как «Отделы народного образования должны стать штабами культурной революции», «За сплошную ликвидацию неграмотности», «На борьбу за коммунистический учебник» и т.д. Новый «коммунистический учебник», появившийся в одно время со сталинской «демократической» конституцией, - «Замечания» Сталина на учебник Истории СССР, означал «национализацию гражданской истории», «национализацию памяти»11.
В конце 1920-х годов началась так называемая «культурная революция», охватившая и все виды искусства. Одним из наиболее важных участков идеологического фронта была объявлена литература. Все чаще декларировалась необходимость разработки особого творческого метода новой литературы - как «достаточно жестко определяемой совокупности норм, зафиксированных в четкой дефиниции и составляющих своеобразный «рецепт» творчества»12. При этом соединялись критерии эстетического и чисто идеологического порядка, что находило отражение в терминах типа «пролетарский реализм», «тенденциозный реализм», «пролетарский гуманизм», «социалистический реализм».
Первый съезд советских писателей стал новой точкой отсчета в истории отечественной литературы советского периода и важным событием 1930-х годов. На нем были определены «магистральные» линии развития литературы, на которую возлагалась миссия активного участия в строительстве небывалой, социалистической действительности. Литература становилась р полном смысле «колесиком» и «винтиком» единого тоталитарного механизма. Именно в 30-е годы постепенно, но неумолимо достигается «тотальная подчиненность литературы партийно-государственному управлению» .
30-е годы — период окончательного оформления советского государства как тоталитарной системы. «Государство становится центральной категорией не только в политической жизни, но и в эстетической деятельности, — пишет Т. А. Никонова. - Государственные интересы, государственный контроль цементируют все области человеческой деятельности, декларируя главный ее принцип - единство общего и частного в большом и малом, единый взгляд на жизнь, искусство и мир в целом».14 Можно согласиться с мыслью исследовательницы о том, что и «идеология 30-х годов существенно изменилась по сравнению с 20-ми», а также с тем, что в разрешенной, подцензурной русской советской литературе в это время произошла «смена идейного и эстетического кодов».
Литература, «лишенная свободы мысли, свободы поиска, возможности индивидуальных решений конфликтов»15, неизбежно оказывалась в тупике. Подводя итоги литературной жизни 30-х годов на открытом писательском партсобрании, прозаик П. Павленко и критик Ф. Левин вынуждены были говорить об ослаблении реализма в литературе, об уходе ее от действительных проблем современности. Психологические корни этих явлений докладчики не без оснований усматривали в тщетности соотнесения писателем собственной позиции с априорными, заданными установками, в «боязни сделать что-нибудь отрицательное, вредное, преступное ... . Автор охотно писал бы о любом конфликте, но он не отдает себе отчета, будет ли это на пользу стране и читателю или во вред, и в результате занимается смягчением конфликта и лакировкой действительности, полагая, что на этом пути ему будет гораздо легче»16. Когда на страницы произведений порой прорывалась правда, это происходило вопреки правилам поднадзорного творчества. Однако неофициальное и спорящее с официальными директивами инакомыслие либо подавлялось любыми способами, либо игнорировалось.
И тем не менее нельзя не согласиться с М. О. Чудаковой, считающей, что «литературный процесс 20 - 30-х годов не был ни однородным, ни безус ловно тяготеющим к главной магистрали» . Многие современные исследователи также отмечают, что движение литературы в этот период совершалось на разных уровнях и в несовпадающих направлениях. Например, такие литературоведы, как В. В. Эйдинова, Б. Н. Кондаков, Ю. В. Матвеева, В. В. Химии и др., видят многообразие советской литературы в сосуществовании разных стилевых течений. Этот подход был наиболее «проходим» в советское время.
Самый продуктивный путь в восприятии таких сложных периодов, как 1930-е годы, состоит ни в огульном отрицании, ни в некритическом приятии всего и вся, а в кропотливом анализе фактов литературы, в восстановлении картины историко-литературного процесса во всех его составляющих. Немаловажную часть этой необходимой работы составляет «извлечение подлин і о ных ценностей» из-под глыб «искажений, навязанных режимом» . Г. А. Белая рассматривает движение стилевых потоков под углом зрения преобладания «авторитетного» стиля . Наиболее традиционным является разделение русской литературы советского времени по факту соответствия идеологическим требованиям системы на «официальную» и «альтернативную»; последнюю М. О. Чудакова охарактеризовала как «ушедшую под землю - в русло литературы, уже не выходившей на «дневную поверхность» (Д. С. Лихачев) печатной жизни» .
Феномен творчества А. Платонова в 30-е гг. не укладывается ни в однозначные стилевые характеристики, ни в элементарное соответствие / несоответствие официальному идеологическому канону. Достаточно спорно и определение тех признаков, которые надо считать самыми показательными для писателя в исследуемый период. Об этом свидетельствует история как прижизненного восприятия его произведений, так и последующее изучение. Л. А. Иванова, рассматривавшая творчество А. Платонова в оценке советской критики 20 - 30-х годов, отметила, например, что «серьезность и самобыт-ность писателя, за редким исключением, не подвергаются сомнению» . Од нако тон в полемике вокруг платоновских произведений задавали рапповцы, «неистовые ревнители», и в первую очередь - Л. Авербах, А. Фадеев, А. Се-ливановский, Р. Мессер, В. Ермилов, Д. Ханин, П. Березов, И. Макарьев, В. Стрельникова, И. Майзель, чуть позднее - выразитель того же идеологического подхода А. Гурвич. «Отстаивавшие» Платонова Е. Усиевич, А. Дроздов, Г. Лукач, П. Громов оказывались в меньшинстве. Даже созвучные оценки товарищей по писательскому цеху М. Горького, Л. Леонова, Вс. Иванова, М. Шолохова не меняли картины в целом.
Научное изучение творчества А. Платонова по сути начинается лишь на рубеже 60 - 70-х годов, когда, по выражению Л. А. Шубина, произведения писателя переживают «второе рождение» . Оно начинается прежде всего с новаторской статьи самого Л. А. Шубина, критика, литературоведа, мыслителя, опубликованной в журнале «Вопросы литературы» в 1967 г. (№ 6). Его же статья в Краткой литературной энциклопедии (Т. 5, 1968) окончательно «прописывает» Платонова в истории отечественной литературы.
Однако долгое время многие характеристики суммарны, отыскиваются лишь самые первые ключи к художественному миру писателя, нет четкого представления о его эволюции. Периоду 1930-х гг. еще не может быть дана в полной мере объективная характеристика. Если в статье о писателе 1934 г., помещенной в Литературной энциклопедии, после весьма жестких оценок произведений рубежа 20 - 30-х гг. тем не менее констатировалось, что «писатель ищет надлежащий творческий путь» , то в 60 — 70-е гг. этот путь объявлялся найденным именно в 30-е гг. Существенным накоплением 60 - 80-х годов в изучении наследия А. Платонова стало проникновение в его поэтику и эстетику. Здесь в первую очередь надо назвать работу С. Г. Бочарова «Be-щество существования», появившуюся в 1968 г. В зарубежной печати публикуются глубокие статьи Е. Толстой-Сегал. Так осваивается самобытный язык А. Платонова-художника.
Но настоящее возвращение писателя в нашу культуру совершилось только в новую эпоху, с публикацией «Чевенгура» и «Котлована» и со снятием всех запретов с его творчества. В конце 80-х - первой половине 90-х годов возникает своего рода платоновский «бум». Этому можно найти несколько причин: первая - публикация «задержанных» ранее произведений. Вторая -созвучность мыслей А. Платонова нашему времени, когда судьба революции и идея социализма потерпели крах, обнаруживший «наяву» множество совпадений с прогнозами Платонова конца 20-х - начала 30-х годов. Третья причина — возможность нового, более глубокого прочтения платоновских текстов благодаря кардинальным обретениям современной научной мысли и расширению нашего культурно-эстетического кругозора.
Интересно, что и на Западе в этот же момент появляется новая волна внимания к писателю, хотя там «Чевенгур» и «Котлован» стали раньше известны читателям и исследователям. Примером может служить Франция. Два издания сочинений А. Платонова на французском языке - в этой стране и в Швейцарии - подкрепили этот интерес. Последовало много откликов в печати.27 Приведем некоторые из них.
Тем, «кто желает найти к этому писателю подход попроще», Д. Фернандес предлагает прочитать сначала «Счастливую Москву», которую он считает сочинением более доступным для восприятия. Определяя это произведение как «роман о любви», он не склонен упрощать его содержания. Критик предупреждает, что этот роман несет еще одну отчаянную пародию: любовь на острове коммунистического идеала расценивается как раритет, а точнее - как пережиток ушедшей в прошлое эпохи, еще один «опиум для народа». Завершается статья риторическим вопросом о том, можно ли считать счастливой жизнь, если в ней нет места любви, если «невозможно обменять весь шум мира на шепот единственного...» .
Однозначнее трактует роман «Счастливая Москва» Эдгар Рейхманн в статье «Черный рай Андрея Платонова» : «Рай Москвы Честновой так же мрачен, как и в «Чевенгуре». Она знает, что диктатура пролетариата - это не любовь...». Этот автор рассматривает творчество писателя, преломляя его сквозь призму культурно-философских интенций Н. Федорова, Кафки, Сервантеса, Достоевского...
В эмоциональном ключе написана статья Андре Клавеля «Кровавая книга А. Платонова» . Этот отклик логически продолжает размышления предыдущего автора. Обращаясь к «Чевенгуру», критик отмечает, что Платонов выступил в своем романе против «многоголовой гидры» - системы, которая вскоре приведет страну к миллионам жертв. Героев «Чевенгура» А. Клавель называет «матадорами ужаса», фанатичными рыцарями, блуждающими по России в поисках земли обетованной... В романе Платонова автор увидел прежде всего «гениальную карикатуру на советского человека». В том же духе рассмотрена и «Счастливая Москва»: в облике и истории Москвы Честновой, по мнению критика, воплощена искалеченная Россия.
Еще одним откликом на перевод платоновских романов явилась об о 1 стоятельная статья Кристиан Муз «Платонов - большой писатель» . В романе «Счастливая Москва» критик слышит прежде всего «философскую озабоченность» А. Платонова, выявляет прямые переклички между текстом «Счастливой Москвы» и раздумьями философа Н. Федорова. Видно, что писатель ищет ответа, как освободиться от пустоты и потерянности, поселившихся между людьми в последнее время. Путь к этому у Платонова лежит не через благополучие и изобилие, а через лишения и страдания. Это положено в основу духовности героев, - считает критик.
Наконец, в статье «Андрей Платонов, уничтоженный утопист» известный исследователь и переводчик Пьер Дэкс обращается к фактам биографии Платонова и его отдельным произведениям - роману «Чевенгур» и повести «Джан». Называя Платонова «одним из наиболее русских писателей», автор подчеркивает сокрушительную роль его прозы для социалистической системы: «Гений его будет разрушать при помощи антиутопий все разновидности революционных утопий, которые узаконивали режим» . Статья основывает ся не только на анализе произведений, но и на новейших материалах, найденных В. Шенталинским в архивах КГБ. Дэкс вступает в своеобразный диалог с работами М. Геллера, соглашаясь с ним в том, что «Джан» является своеобразным продолжением «Чевенгура» на уровне сюжета и отдельных образов. Вслед за М. Геллером, рассматривавшим «Джан» как «историю ду-ховной трансформации пророка и народа» , Дэкс подчеркивает христианскую содержательность образа Назара Чагатаева, обращая внимание на имя героя, воскрешающее имя Назарянина.
Вместе с тем интересны конкретные наблюдения автора. Особый интерес представляет анализ двух встреч Чагатаева со стариком Суфьяном. Второй из этих диалогов, опубликованный лишь в полном издании повести, критик находит более жестким. Здесь Суфьян рассуждает о судьбе народа джан, которому Назар пытался невероятными усилиями вернуть вкус к жизни: «Он (народ джан - Е. Р.) выдумал себе единственную жизнь, которая ему была нужна. Ты не мог дать ему большего счастья...». Критик называет повесть «Джан» «потрясающим путешествием на край утопического ада». Но в самом жалком, ничтожном народе Платонов предполагал самые высокие возможности. По мнению П. Дэкса, Чагатаев убеждается, что единственно верный путь отдельного человека к человечеству - в его собственном участии в общей жизни («только его помощь способствует тому, чтобы другие стали человечеством»). Платоновские герои - «завоеватели неосуществимого счастья», «идиоты» - почти по Достоевскому, «обделенные, невинные жертвы жажды абсолюта». Но при этом ни один из писателей советской поры не был так одержим тревожным вопросом о цене человека в осуществляемой утопии, как Платонов, и это было требовательное, грозное вопрошание, рискованное для вопрошателя, - заканчивает свою статью П. Дэкс.
Кроме проанализированных откликов, нельзя не вспомнить о вполне реальном вкладе в познание Платонова таких авторитетных французских исследователей и переводчиков, как М. Геллер, Л. Мартинез, Ж. Нива, А. Эпельбо ин, М. Любушкина-Кох, А. Колдефи-Фокар, А. Мишель... Как справедливо отмечает Ж.-П. Тибода, «мы находимся только на заре переоценки Платонова». Но главное, что эта переоценка, достойная рубежа веков, уже началась. Научная и литературно-критическая мысль - в движении к многозначной сути А. Платонова - писателя и мыслителя.
Последнее десятилетие в изучении наследия писателя было весьма продуктивным. Сформировались научные центры по исследованию творчества А. Платонова: прежде всего это платоновская группа в ИМЛИ им. А. М. Горького РАН во главе с Н. В. Корниенко - плодом ее деятельности явились пять выпусков научного сборника «Страна философов», ею готовится академическое собрание сочинений писателя, и первый том уже увидел свет. В Институте русской литературы (Пушкинском доме) РАН (Санкт-Петербург), где хранится часть платоновского архива, также проводится большая работа по изучению текстов произведений создателя «Котлована». Выпущен выверенный и прокомментированный текст этой повести, вышли два сборника. Третьим центром стал Воронежский государственный университет. Сборники «Творчество Платонова: статьи и сообщения» (1970), «Андрей Платонов. Исследования и материалы» (1993), «Андрей Платонов: Проблемы интерпретации» (1995), «Осуществленная возможность: А. Платонов и XX век. По материалам III Международных Платоновских чтений» (2001), вышедший сборник о «Чевенгуре», регулярные Платоновские чтения и три номера «Платоновского вестника» свидетельствуют об этом.
Вместе с тем многие проблемы еще ждут своего решения. До сих пор нет канонического издания текстов хотя бы основных произведений писателя, что затрудняет даже элементарное цитирование произведений. Есть немало «белых пятен» в биографии и творческом пути А. Платонова. Лишь выясняются основные составляющие мировоззрения художника-мыслителя. Много спорных моментов в истолковании сочинений писателя. Только началось рассмотрение платоновского творчества в контексте отечественной литера туры его эпохи.
К насущным проблемам современной науки относится и раскрытие логики проявления и эволюции А. Платонова в период 1930-х годов. Новизна диссертации обусловлена в первую очередь обращением к этому предельно сложному и пока полностью не объясненному периоду в творчестве писателя, системным подходом к его разноречивым фактам.
Отдельные наблюдения о переходе А. Платонова к новому периоду творчества - от 20-х к 30-м годам - можно обнаружить в трудах Л. А. Шубина, Н. В. Корниенко, В. А. Свительского, М. О. Чудаковой и некоторых других исследователей. Большинство из них констатирует факт качественных изменений художественного мира А. Платонова в этот момент, но одновременно и продолжение логичного развития тех идей писателя, эстетических и философских воззрений, которые сформировались в его раннем творчестве. Так, например, Л. Шубин характеризовал 30-е годы в деятельности писателя как «отступление», но не полную капитуляцию: «Писатель жертвовал произведениями, но пытался сохранить дорогие ему мысли»34. Кроме того, он же заметил, что в 30-е годы «намечается переход от вопросов ... онтологических к вопросам этики и гносеологии»; «вместо прежнего: «человек и мир» главным становится «человек в мире»35. В. Васильев, присоединяясь к этой точке зрения, считает, что «вера А. Платонова в социальную справедливость, вера в человека, особенно на рубеже 20 - 30-х годов была очень сильно поколеблена», что нашло выражение в «непреодолимой горечи» его трагических произведений «Котлован», «14 Красных Избушек», «Мусорный ветер» и других.36
К трактовкам ушедшего советского времени можно отнести тезис Н. Г. Полтавцевой из ее книги 1981 г. о том, что основными принципами эстетики Платонова в 30-е годы является «действенность и гармония. Он как бы дви-гался от смутного сознания к социалистическому» . Есть и другое мнение: «Ничем не смягченный трагизм существования в его (Платонова - Е. Р.) творчестве 30-х годов, - пишет Е. Толстая, — взывает к неутомимому интел то лектуальному и духовному усилию» .
Противоположность двух точек зрения отчасти снимается в концепции Е. Яблокова: «В платоновской прозе середины 20-х - начала 30-х годов никакие гармонические (или близкие) состояния персонажа не могут отменить, снять универсального «метаконфликта» сознания и бытия, пронизывающего всю эстетическую систему... Его герой призван нести в природу активное, преобразующее начало, однако на этом пути его всегда подстерегает опасность утопизма». И далее: «Дихотомия «безобразно-живого» и «бесчувственно-прекрасного» снимается лишь эстетически - путем констатации трагического разрыва. К началу 30-х годов - это, пожалуй, максимум «разрешенное™» проблем у Платонова. К середине 30-х годов у писателя начинаются поиски путей примирения, синтеза крайностей в творчестве отдельного человека, общества, цивилизации»39. Б. В. Аверин доказывает новизну этической концепции человека в статьях А. Платонова 30-х годов. °
В. А. Свительский определяет принципиальные отличия платоновской поэтики этого времени от других периодов его творчества: «Приметы «нового пути» достаточно определенны: «...Сущностью, сухою струею, прямым путем надо писать», «Писать надо не талантом, а «человечностью» - прямым чувством жизни»... А. Платонов хочет полностью убрать все средостения между жизнью и литературой, хочет жить в слове, говоря о самом главном» .
Таким образом, большинство исследователей творчества А. Платонова утверждают, что в художественной системе писателя в 1930-е годы выявился ряд значительных изменений, и она приобрела новое качество. Но общие, порой беглые замечания об эволюции платоновского творчества или даже анализ отдельных произведений не могут раскрыть в полной мере специфику и многогранность художественного мира А. Платонова в драматический, противоречивый исторический период. Творчество писателя в исследуемый период наиболее многосложно, в нем несколько больше, чем ранее, составляющих. Даже в жанрово-родовом отношении оно пестрее. Конечно, усложняется и авторская позиция Платонова, его художественное сознание. Требуется определить, в какой мере он пересекается с возобладавшей идеологической системой, и насколько выпадает из нее. Например, нет сомнений, что Платонов принимал коммунистический идеал, но как он его понимал? В «Джан» или «Шарманке», например, возникает модель социалистической системы, которую, однако, автор каждый раз трактует по-своему. Остаются нерешенными вопросы о месте писателя в русской литературе советского периода, об особенностях эволюции его мировоззрения и художественного мира в 1930-е годы, а также о значимости тех или иных произведений в творчестве А. Платонова на этом этапе.
Совсем недавно наибольший интерес вызывала «возвращенная литература», причем это касалось не только платоновского творчества. Ставшие фактором современной литературы, эти произведения оказывались более созвучными постперестроечному времени, чем далекой эпохе утверждения так называемого социализма. В силу этого в центре общественного мнения оказались те сочинения писателя, которые являются в той или иной мере «прогностическими»: «Чевенгур», «Котлован». Между тем остались недостаточно изученными пьесы Платонова, которые тоже можно причислить к этому ряду: «Шарманка» и особенно «14 Красных Избушек». До сих пор, на наш взгляд, не прояснены как следует смысл и место «Высокого напряжения», пьесы, которую можно отнести к «производственному» жанру, только не утруждая себя внимательным прочтением. Но в какой мере это прочтение адекватно авторскому замыслу? Опубликованный в 1991 г. неоконченный роман «Счастливая Москва» сегодня известен лучше, чем не менее важная в исканиях А. Платонова философская повесть «Джан», знакомая читателям в отрывках еще с 1938 г.
А уж «малая проза» 30-х годов и вовсе остается сегодня на периферии исследовательского внимания, хотя рассказы этого периода, несомненно, содержат богатейший материал для осознания динамики платоновского творчества. «Река Потудань», «В прекрасном и яростном мире», «Июльская гроза» не только имеют право именоваться «шедеврами» - более необходимым нам представляется рассмотреть эти произведения именно в контексте эпохи и в ключе эстетики и поэтики Платонова. Появление в творчестве писателя, озабоченного чуть ли не с первых сочинений судьбой человека в истории, произведений, в которых история отходит на второй и третий план и человек остается наедине с собой или с другим человеком, или с природой, является весьма показательным для характеристики живой, постоянно менявшейся и выходившей на качественно иной уровень художественной системы. В раскрытии ее динамики мы видим один из аспектов научной новизны предпринятого исследования.
Другим аспектом новизны можно считать попытку системного анализа творчества А. Платонова в отдельный период. Его многочисленные произведения связаны между собой обстоятельствами одной исторической эпохи 30-х годов и рассматриваются нами через призму духовно нравственного состояния общества. Эта позиция обусловливает структуру нашей работы. Необходимо было охватить разнородный в жанровом отношении материал так, чтобы не была нарушена логика идейно-художественной эволюции А. Платонова.
Сегодня, когда стали известны варианты повести «Джан» и такие произведения, как «Ювенильное море» и «Счастливая Москва», «Шарманка» и «14 Красных Избушек», можно определить рамки и объемы творческой продукции писателя на этом этапе. Она достаточно обильна, несмотря на двухгодичный период трагического молчания писателя в печати - после решающего рубежа 20 - 30-х годов; именно с этой паузы и начинается период 30-х годов в творчестве писателя. Объектом и материалом исследования стало все творчество А. Платонова 1930-х годов (это не только художественная проза, но и драматургия, и киносценарии, и литературно-критические статьи и рецензии). Но два обстоятельства заставили нас пойти на ограничение и отбор анализируемого материала. Во-первых, с публикацией «Счастливой Москвы» и «Ювенильного моря» эти произведения вызвали целый шквал откликов и трактовок. Достаточно сказать, что «Счастливой Москве» посвящена значительная часть 3 и 4 томов выпуска сборника «Страна философов».4 Можно уже написать большую работу, посвященную только разборам этого незавершенного романа А. Платонова. Многоаспектно освещено и «Ювенильное море». Во-вторых, в целом массив творчества писателя 30-х годов огромен, и нельзя объять необъятное. Поэтому мы пошли по пути ограничения и отбора произведений для подробного анализа, руководствуясь в первую очередь предметом нашего исследования - духовно-нравственным содержанием творчества писателя на сложнейшем этапе его литературной биографии , неотрывной от истории страны.
Методология исследования. Абстрактные культурологические схемы, представляющие наиболее общие тенденции развития культуры и литературы в связи с русской историей, оказываются не очень приложимыми к творчеству такого непростого и значительного художника, как А. Платонов. Культурно-исторический и историко-биографический подходы также далеко не все объясняют в его творчестве. Необходимо сочетание различных методов научного анализа — историко-культурного, сравнительно-типологического, структурного и системно-целостного - для наиболее адекватного понимания своеобразия платоновского творчества в тесной связи с конкретно-историческим временем и пространством. Методологическим подспорьем исследования послужили философские и литературоведческие работы, в которых рассматривается специфика литературного творчества в 1930-е годы (Г. Белая, М. Чудакова, Е. Скороспелова, В. Скобелев, М. Геллер, В. Днеп-ров, Т. Никонова, А. Удодов, В. Перхин); труды по теории литературы (М. Бахтин, В. Жирмунский, Ю. Тынянов, В. Шкловский, Б. Эйхенбаум, Ю. Лот ман, Д. Лихачев, Б. Корман, Е. Мелетинский, В. Топоров, Г. Гачев); исследования, посвященные поэтике платоновской прозы (Е. Мущенко, Е. Толстая, О. Меерсон, М. Дмитровская, В. Свительский, Т. Сейфрид, Л. Фоменко, К. Баршт, В. Вьюгин, Ю. Пастушенко, Н. Хрящева, Е. Яблоков и др.).
Цель диссертационного исследования состоит в выяснении, какое отражение нашли стержневые духовно-нравственные проблемы общества 1930-х годов в творчестве А. Платонова и как писатель откликался на них, пытаясь повлиять на облик эпохи и часто опережая свое время. В соответствии с поставленной целью в работе формулируются и решаются следующие задачи:
1) выявить в произведениях писателя 1930-х годов основные духовно-нравственные проблемы, волновавшие советское общество в этот период и нашедшие отражение в произведениях писателя;
2) определить особенности отношения А. Платонова-художника к духовно-нравственному аспекту существования социума и отдельного человека;
3) рассмотреть важнейшие стилеобразующие и жанровые черты платоновского творчества на обозначенном этапе;
4) проследить логику и динамику эволюции писателя на протяжении периода 1930-х годов.
Кроме введения, диссертация состоит из 3 глав и Заключения. Ссылочный материал содержится в разделе «Примечания и ссылки». Завершает работу Список литературы. Первая глава посвящена философско-этическому содержанию и поэтике повести «Джан». Во второй главе рассматривается драматургия Платонова 30-х годов. В третьей главе дается анализ платоновских рассказов 30-х годов. В Заключении делаются обобщающие выводы по рассмотренным проблемам.
Теоретическая значимость работы заключается в осознании вариантности эволюции творчества писателя в зависимости от личностной органики и общественных условий, в осмыслении характера взаимосвязи индивидуальной поэтики художника и духовно-нравственного содержания жизни современников.
Материалы диссертации и результаты работы могут быть использованы в курсе русской литературы XX века в вузах и средней школе, в спецкурсах, спецсеминарах по вопросам изучения русской литературы 1930-х годов, в дальнейшем исследовании творчества А. Платонова. Этим определяется практическая значимость данного исследования.
Повесть «Джан»: судьба народа и преемственность исканий писателя
Конец 1920-х - начало 1930-х годов стали для Андрея Платонова временем трагического разлада и с обществом, и с самим собой: «Вера А. Платонова в социальную справедливость, вера в человека, особенно на рубеже 20- 30-х годов, была очень сильно поколеблена» . Однако, несмотря на сложные взаимоотношения писателя с властью и цензурой, несмотря на мучительные переживания собственного одиночества, «отторженности» от читателя и практического дела, он настойчиво продолжал в своем творчестве поиски возможных путей достижения человечеством и народами счастья. И если в драматургии первой половины 1930-х годов платоновское трагическое мироощущение, проявившееся еще в «Епифанских шлюзах», «Чевенгуре» и «Котловане», все более усиливалось, то художественный эксперимент, предпринятый прозаиком в середине 1930-х годов в повести «Джан», позволяет говорить о том, что писателя все-таки не покидало представление о позитивных возможностях развития общества и воплощения социалистических идеалов, надежда на их практическое выражение.
В. Васильев рассматривает момент появления «Джан» А. Платонова как выход из творческого кризиса. Исследователь отмечает не только обогащение идейно-тематического состава платоновской прозы, но и значительные изменения в поэтике: «Произведения прозаика обретают мускулистость, сюжетность, лишаются композиционной вялости и рыхлости, из прозы совершенно уходят ироническая подкраска письма, стиль становится строгим и мыслительно емким, фраза разветвляется, захватывая в единое переживание и человека, и природу, и историю»2. Парадокс, однако, заключается в том, что историческая действительность 1930-х годов не давала почвы для решительного возрождения у писателя иллюзий о возможности достижения всеобщего счастья посредством социалистических преобразований. Целый ряд произведений - начиная с «Чевенгура» и заканчивая «Счастливой Москвой» - свидетельствовал о том, что писатель остро переживает несовпадение идеальных представлений о социализме и их реального воплощения в жизнь. И все же именно в годы обострившегося тоталитарного давления он опять пытается найти пути обновления общества, осуществляя несбывшиеся ожидания уже преимущественно в рамках художественного творчества.
Вынашивая в какой-то мере идеальные представления о построении новой жизни, Платонов далек от идеализации той реальности, которая его окружает и в которой существуют его персонажи. В отличие от пропагандистской литературы, создающей благостный миф о советской действительности, А. Платонов обращается к древним мифам, переосмысляя их и трансформируя с целью сообщения своему произведению уникальной смысловой глубины и временной перспективы.3 Согласно его концепции мира и человека, «люди, природа и история - вообще весь вещественный, ощутимый мир и дух человеческий, его объемлющий, вся биология действительности» находятся в постоянном движении и сложном внутреннем взаимодействии. Поэтому писателя интересуют не мнимые победы социализма на политическом фронте, в экономике и сознании людей, а истинные достижения человека и народа, сумевших ценой неимоверных усилий преодолеть энтропию существования, пройти реальный и символический путь к новой жизни.
Повесть «Джан» была задумана А. Платоновым в результате его поездки в группе писателей в Туркмению в 1934 году.5 В 1933 - 34 гг. многие писатели и критики отмечали отставание литературы от жизни.6 С целью восполнения пробелов в освоении современной действительности комиссией оргкомитета Союза писателей по изучению туркменской литературы была сформирована бригада писателей, в которую вошли Вс. Иванов, В. Лугов-ской, Г. Санников, А. Платонов, Л. Леонов, Н. Тихонов и другие. Бригаду командировали в Среднюю Азию, где писатели приняли участие в подготовке и проведении туркменского съезда писателей в мае 1934 года. Но главное, как писала «Литературная газета», каждый из ее участников «взял себе определенную тему и, направившись в район, собрал нужный ему материал...»7 По итогам работы бригады писателей должно было выйти специальное издание, приуроченное к 10-летнему юбилею республики, так называемая «коллективная книга».
По словам В. Васильева, А. Платонов побывал в Ашхабаде, Красново-дске, Нефтедаге, в горах Копет-Дага, в Мерве, Чартжуе, Ташаузе, Керках, Байрам-Али, Иолотани, Куня-Ургенче. Однако более всего его привлекли центральные Каракумы, которые он почитал «не менее Сахары». Пустыня произвела на него огромное впечатление, дала богатый материал для творчества. По его размышлениям, природные условия Средней Азии очень благодатны для жизни - не случайно возникли здесь древние поселения человека и очаги развитой оседло-земледельческой культуры, датируемой V - IV тысячелетиями до нашей эры. «Кладбище городов» напоминает о торжестве культур, теперь поникших в «глиняных развалинах», и задача людей - помочь вернуть этот запущенный край его народам.
Путешествуя по Каракумам, А. Платонов думал и о хозяйственном освоении песчаных пространств, и о судьбе людей, живущих в пустыне, на перекрестке истории, в одной из колыбелей современного человечества... Вновь актуализируется дорогая сердцу мысль о подлинном историческом творчестве народа и великой жизнестойкости трудового человека. Написанные Платоновым в 1934 - 1935 гг. рассказ «Мусорный ветер», с одной стороны, «Такыр» и «Джан», с другой, - «произведения о путях развития человечества и судьбах цивилизации в современном мире» .
Пьесы составляют существенную часть наследия А. Платонова, но до сих пор, как мы уже говорили во Введении, даже не собраны в отдельном издании. Изучение их оживилось, особенно «Шарманки», но редактор-составитель 5-го выпуска «Страны философов» имела основания констатировать: «Практически не сдвинулось с места ... изучение драматургии и киносценариев второй половины 1930 - 1940-х гг»1. Не поставлены в системный контекст и пьесы первой половины 30-х гг.
Драматические произведения писателя, являясь органической частью единого «метатекста» его творчества, представляют собой все же явление специфическое. Они требуют внимания и к своему драматургическому языку, и к содержанию, которое только и могло быть выражено на этом языке. Проблемы исторического времени в какой-то мере заставили писателя обратиться к языку драмы, но в пьесах предстала широкая амплитуда духовно-нравственных и эстетических исканий автора. Драматургия А. Платонова 1930-х годов приоткрывает два полюса этих исканий, характеризуемых понятиями сатиры и трагедии.
Развитие сатиры в эти годы происходило особенно болезненно: с одной стороны, эпоха решительной социальной ломки представляла исключительный материал для сатиры; с другой - всякая критика в адрес нового общества трактовалась как выпад против существующего государственного устройства, что в условиях утверждения тоталитарной системы беспощадно пресекалось.
Отношение к сатирическим видам искусства стремительно меняется. В конце 1920-х - начале 1930-х годов, казалось бы, были провозглашены новые принципы литературного творчества (и, в частности, драматургии), согласно которым «нужно творить, а не стряпать»: «для смелой и правдивой постановки ... вопросов потребуется от общественности отказаться от многих предрассудков и сомнений»; драматургию «нельзя уложить в Прокрустово ложе мелких сомнений и мелочных требований»; «как воздух, нужна самокритика», «нам нужны дерзания ... иначе мы, наша драматургия, не выйдем из полосы халтуры, кустарничества, схематизма, трафарета, казенщины и скуки» .
Однако все эти требования нового содержания и новых форм в творчестве оставались, к сожалению, либо благими намерениями, либо частным случаем все той же всеобщей лжи, за которой стояли лишь идеологические интересы государства. Особенно усердствовали в нападках на сатирические произведения критики рапповского толка. Во второй половине 20-х годов с сатирой и сатириками велась ожесточенная борьба, которая носила, по выражению советского историка, даже «не теоретический, а чисто административный характер»3. «Оттенки смеха в искусстве диктуются не только качественной определенностью осмеиваемых явлений, их масштабом и местом в общественной жизни, но и отношением художника к ним, содержанием идеала, с высоты которого он судит эти явления»4. Идеалы, лежащие в основе мировоззрения и А. Платонова, и М. Булгакова, и Н. Эрдмана, и В. Маяковского были слишком высоки для того времени, в котором они жили и творили. И они приходили в конфликтное противоречие с тем, что требовала официальная идеология.
В 30-е годы противоречивость и непоследовательность агитпроповской политики в области искусства получили крайнюю степень своего выражения. Так, в 1930-м году на страницах литературной периодики и в стенах политехнического музея развернулся диспут о сатире. Он свелся к ожесточенной полемике между «отрицателями» сатиры, утверждавшими, что подлинной сатиры в советской стране нет и быть не может (В. Блюм), и теми, кто отстаивал необходимость сохранения и развития сатирического жанра в русской литературе советского периода (М. Кольцов, В. Маяковский).5 Были и такие противники сатиры, кто требовал от нее особых качеств: они выступали за «разрешенную» сатиру, в основе которой «должна лежать, прежде всего, целеустремленность» . И, несмотря на то, что итоги дискуссии оставляли сатире право на существование, условий для ее реальной практики в обществе «победителей», «ударников» и прочих успешных борцов за новую жизнь по-прежнему не было.
Например, В. Кирпотин в статье «Успехи советской драматургии» в 1934 г. писал, что драматургия советского времени должна выражать «диалектические картины классовой борьбы»: «Ее тематика - тематика коллективного труда и коллективной борьбы за социализм», «это преимущественно тематика социальная, тематика классовой борьбы, гражданской войны, социалистической индустриализации, коллективизации сельского хозяйства, роли интеллигенции в революции»7. Только с классовой точки зрения можно рассматривать «правдивость» нового искусства. Декларировалось: «Совет-екая драматургия ... не боится правды, учится ее показывать» . Однако в обстановке несоответствия официальной оценки жизни советского общества фактам реальной действительности происходит мифологизация всех сторон жизни. Литературе суждено сыграть в этом колоссальную роль - заданная ей роль во многом предопределяла ее функции. Так, в статьях того времени можно обнаружить конкретные установки на оптимистическое воспроизведение действительности: «Советская драматургия ... уже определилась как драматургия, утверждающая и жизнелюбивая, драматургия героической борьбы, оптимистического отношения к жизни, драматургия, помогающая осуществлению идеалов рабочего класса»9. В связи с таким пониманием в середине 30-х годов возникла теория «положительной» сатиры, «сатиры якобы свободной от критического пафоса и чувства негодования, пронизанной безоблачно-светлым лиризмом»10.
Рассказы 1930-х гг.: от экспрессии протеста к обретению гармонии
Отошедшие сегодня на второй план по сравнению с «Чевенгуром» и «Котлованом» рассказы исследуемого периода, на наш взгляд, не потеряли своего значения и требуют к себе более пристального внимания. В контексте исканий писателя-мыслителя они предстают как заметная, во многом итоговая веха в непростой реализации А. Платонова-художника.
Думается, отсчет в их анализе можно вести с антифашистских рассказов «Мусорный ветер» и «По небу полуночи». Рассказ «Мусорный ветер» (1933) писался Платоновым одновременно с романом «Счастливая Москва», повестью «Джан» и рассказом «Такыр». В связи с этими произведениями рассматривают «Мусорный ветер» В. Васильев, Н. Корниенко, М. Геллер. Н. В. Корниенко упомянула этот рассказ, анализируя варианты «Счастливой Москвы». Ученый пишет, что третий вариант романа «по-своему трансформируется в первые строки рассказа «Мусорный ветер»», и называет рассказ «своеобразным социокультурным двойником лирической и технократической идеи «Счастливой Москвы»». В. Васильев усматривает тематическое единство «восточной» прозы писателя и рассказа «Мусорный ветер»: для него это «произведения о путях развития человечества и судьбах цивилизации в современном мире, о технических возможностях социализма и буржуазного общества, о двух непримиримых идеологиях в борьбе за умы и сердца народов»2. К сожалению, приведенная характеристика отдает устаревшими схе мами - противопоставлениями. Другое дело, что можно согласиться с мнением исследователя по поводу технократической идеи в рассказе Платонова. В. Васильев отмечает, что «...картина одичания и вырождения народа посреди великолепной техники и организованной точной науки предстает в рас-сказе А. Платонова в отталкивающих, гипертрофированных образах» . Однако следует уточнить, что проблема взаимодействия человека и цивилизации не рассматривалась писателем в политическом аспекте, он и здесь остается философом по преимуществу, его интересуют бытийные законы, во многом вечные конфликты и противоречия.
Начиная с фантастических повестей 1920-х годов, Платонов проявлял пристальный интерес к роли науки и техники в жизни человеческого общества, но его внимание было сконцентрировано скорее на вопросах онтологического и нравственного порядка (соотношение разума и чувства, целесообразность тех или иных преобразований, нравственный смысл научных открытий и их реализации и т. д.). Он раскрывал эти проблемы, исходя из представлений о месте и роли науки в жизни человечества, а не конкретных стран. Существенным фактом, поясняющим такой подход писателя к проблемам глобальным, является его интерес к «космической философии» К. Э. Циолковского, В. И. Вернадского, А. Л. Чижевского. Их идеи «восхождения сознания в мире», неизбежности перехода биосферы в новое состояние - ноосферы, при котором постепенно образуется единая система «Человек - производство - природа» и выработается «счастливый маршрут жизни» человечества, объединенного общим делом, отразились не только в научной фантастике молодого Платонова, но и в более поздних произведениях.
В «Высоком напряжении» и «Ювенильном море» для автора представляют особую значимость технические достижения молодой советской республики в связи с объявленной эпохой великого строительства. Но в рассказе «Мусорный ветер», повествующем о фашизме, технические усовершенствования служат против человека, обслуживают бесчеловечную систему, поощряют ослепление толпы. И произведение вряд ли было создано Платоновым с целью противопоставления двух политических систем. Философско-символический уровень повествования в рассказе позволяет увидеть не раз-ницу, а сходство между двумя тоталитарными государствами, гитлеровским и сталинским.
М. Геллер приводит убедительные доказательства того, что разоблачение «мифологического сознания» в рассказе Платонова распространяется не только на фашистскую Германию, но и на Советский Союз. Несмотря на отдельные детали, определяющие образ Германии 1933 года, Платонов сознательно отказывается от достоверного изображения реалий немецкой жизни: «Платонов отвергает реальность, ибо он пишет рассказ о «царстве мнимости»» . Удивительным образом соединяются в платоновском тексте конкретные факты изображаемой действительности и философская обобщенность. Платонов указывает конкретную дату происходящих в рассказе событий: 16 июля 1933 года, место событий - южно-германская провинция. Автор воспроизводит дух времени в его ключевых понятиях: Гитлер, фашизм, вождь, культ вождя. Он посвящает рассказ «товарищу Цахову, германскому безработному, свидетелю на Лейпцигском процессе, заключенному в концлагере Гитлера».
Однако точное определение хронотопа не делает рассказ реалистическим. Писатель создает такой мощный второй план, который не позволяет усомниться в том, что перед нами аллегорическое повествование о сущности тоталитарного государства как такового, а не о происках «империалистической буржуазии» на примере германской истории, как считает В. Васильев.
«Рассказ свидетельствует о потрясении, испытанном писателем, увидевшим, как Запад падает жертвой той же болезни, какая поразила Восток», -пишет М. Геллер5. «Это чудовищное родство» исследователь обнаруживает уже в том, что своему герою, ученому Альберту Лихтенбергу, символизирующему западное сознание, традиционный рационализм (имя взято у А. Эйнштейна, фамилия в переводе - гора света - у знаменитого немецкого просветителя: «это тот, кто бунтует, кто не отступает перед тьмою, тот, кто способен честно судить о заблуждении своей нации, - поясняет один из ис следователей значение имен платоновских героев» ),