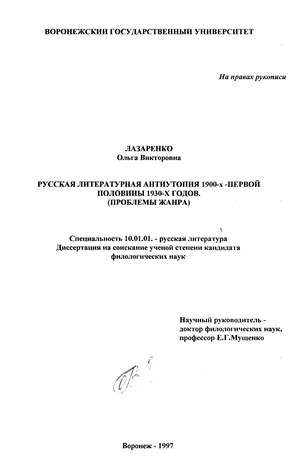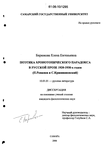Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. Жанровая структура антиутопии
1. Антиутопия и миф 19
2 Двоемирие как конституирующий принцип жанровой структуры антиутопии 39
3. Система персонажей и типология сюжета в антиутопии 63
ГЛАВА II. Формирование жанровой традиции антиутопии в русской литературе
1. Зарождение антиутопической традиции в русской литературе 89
2. Жанр антиутопии в русской литературе постреволюционной эпохи 119
3. Жанровая тенденция антиутопии в русской литературе второй половины 1920-х-начала 1930-х годов 159
Заключение 188
Ссылки и примечания 196
Библиографический список 209
- Антиутопия и миф
- Двоемирие как конституирующий принцип жанровой структуры антиутопии
- Зарождение антиутопической традиции в русской литературе
- Жанр антиутопии в русской литературе постреволюционной эпохи
Введение к работе
Антиутопия - специфическая художественная форма XX вещ. Органичная вписанность в культурный контекст столетия обусловила способность антиутопии целостно представлять эпоху, раскрывая сущностное и закономерное в ее эстетических и философских поисках. Острый интерес к миромоделирующим возможностям антиутопии связан со стоящей перед исследователями гуманитарного профиля задачей обозначить общие тенденции развития современного искусства, выражающие сокровенное и актуальное в XX веке знание о человеке и мире.
В серьезной степени этот интерес "подпитывается" мощным всплеском антиутопических настроений в сегодняшней литературе, что составляет устойчивый показатель вновь возникшей ситуации на "рубеже веков". Пристальное внимание к эстетике и поэтике антиутопического жанра, характеризующее современные художественные устремления (творчество Ю.Алешковского, В.Аксенова, В.Войновича, А.Гладилина, А.Зиновьева, А.Кабакова, В.Маканина, Д.Савицкого, А. и Б.Стругацких), в культурной ретроспективе соответствует третьей волне подъема интереса к антиутопии (первая волна пришлась на 1900-1920-е годы, вторая, достаточно кратковременная, на 1960-е годы).
Повышенная восприимчивость художников к жанровому языку антиутопии, сосредоточенной -на постижении судьбы личности в катастрофическом XX столетии и обнаружившей на протяжении своего существования глубинную со-природность многим идейно-эстетическим исканиям как отечественного, так и западного искусства, делает обращение к феномену антиутопии важным и актуальным.
К настоящему времени отечественное и зарубежное литературоведение накопило немалый опыт интерпретации различных аспектов теории и истории антиутопии. Сегодня известен ряд работ, предлагающих универсальную трактовку жанра. К их числу могут быть отнесены исследования Л.Геллера, выделившего герметизм в качестве основной составляющей антиутопической парадигмы, Б.Ланина, раскрывшего антиутопический мир как мир псевдокарнавала, Ю.Латыниной, представившей антиутопию в виде знакового мира ритуальных форм, Г.Морсона, указавшего на феномен антижанровости антиутопии, В.Чаликовой, исходящей из того, что в антиутопии в трагических тонах изображаются последствия преодоления утопизма.
Среди работ, сосредоточенных на отдельных особенностях поэтики и эстетики антиутопии, выделим исследования Н.Арсентьевой, описавшей на материале ранней антиутопии структуру антиутопического героя, Р.Гальцевой и И.Роднянской, типологизировавших жанровые ситуации и мотивы, А.Зверева, одним из первых проанализировавшего антиутопическую проблематику, А.Любимовой, охарактеризовавшей специфику антиутопического хронотопа.
Названные исследования составляют каркас современной научной мысли в теории антиутопии. Однако до сих пор остается нерешенным ряд важных вопросов. Их можно сгруппировать вокруг одной фундаментальной проблемы, связанной с определением жанровой природы антиутопии. Эта проблема включает в себя три основных аспекта: а)имеет ли антиутопия жанровую природу или это внежанровое образование; б) какова степень зависимости антиутопии от утопии; в) каков жанровый статус антиутопии. Прокомментируем суть каждого аспекта.
Относительно представления о жанровой природе антиутопии в современной отечественной науке существуют две точки зрения. Согласно первой, антиутопия, как, впрочем, и утопия, принадлежит к разряду внежанровых образований. По мысли Э.Баталова, "наиболее распространенная форма воплощения утопического идеала - художественная литература: роман, повесть, поэма, путевые заметки, дневники и тому подобное. При этом очень часто идеал, вернее, утопический "сюжет" оказывается как бы встроенным в неутопический контекст, то есть в произведение, не относящееся в целом к утопиям"1 /67,46/. На близкой позиции стоит Л.Хабибуллина, полагающая, что антиутопия относится к категориям мировоззренческого порядка и крайняя тенденциозность не дает ей оформиться в жанр /255,15-16/. Однако, в противовес этой точке зрения, большинство ученых, в их числе Н.Арсентьева, А.Зверев, Б.Ланин, Ю.Латынина и другие, признают жанровый характер антиутопии. Автор диссертации считает эту установку более убедительной, поскольку она апеллирует не к мировоззренческой позиции, а к вопросам моделирования художественной реальности с выходом на проблему статуса антиутопии.
Вопрос о статусе антиутопии неотделим от вопроса о ее зависимости от утопии. Некоторые исследователи (О.Гурина, Ч.Кирвель, С.Сизов, Т.Чернышева) считают антиутопию разновидностью утопии. Эта позиция обусловлена историко-литературными причинами (антиутопия долгое время воспринималась в качестве иронического корректива утопии) и внешним сходством миромоделирую-щих принципов утопии и антиутопии. Последнее толкуется весьма широко: от признания близости их наиболее общих эстетических посылов (ср. замечание Ч.Кирвеля: "Детализированным, непротиворечивым и однозначным картинам идеально совершенного общества, изображаемого утопистами прошлых эпох, они (авторы антиутопий - О.Л.) противопоставили столь же однозначные и непротиворечивые картины идеально несовершенного устройства будущего 7132,171) до утверждения переимчивости антиутопией отдельных приемов утопии. Например, О.Сабинина подчеркивает, что "сюжетная схема положительной утопии в антиутопии как бы повторяется со знаком минус 7210,12/. С.Сизов указывает на использование антиутопией распространенного в утопии приема "описания мнимого путешествия в пространстве и времени"/219,64/. Как видим, восприятие антиутопии в качестве жанровой модификации утопии имеет свое обоснование, однако оно зачастую игнорирует целостное рассмотрение ан тиутопической структуры и основывается на акцентировании ее отдельных составляющих.
Противоположная точка зрения, сторонники которой настаивают на жанровой автономности антиутопии, возникла сравнительно недавно. Ученые, разделяющие эту позицию (Б.Ланин, Ю.Латынина, А.Любимовз и другие), исходят из того, что "принцип "наоборот"... не объясняет структуры антиутопии, как и самого жанра"/162,142/. Однако следует заметить, что попытки раскрыть своеобразие антиутопии в виде самостоятельного жанрового образования не всегда имели достаточную теоретическую развернутость, что не позволило до настоящего времени убедительно и аргументированно решить проблему статуса антиутопии.
Один из аспектов названной проблемы можно интерпретировать с точки зрения возможных форм воплощенности антиутопического содержания. Согласно распространенному мнению, антиутопия изначально сопряжена с романной формой. Анализируя "1984" Дж.Оруэлла, В.Чаликова замечает: "Самая яркая дистопия XX века создана в жанре, растворяющем мечту и ностальгию в иллюзии действительности. Жанр этот, конечно, роман, "свободный вымысел, вырастающий из личного опыта"2/259,92/. Авторитетная исследовательница полагает, что связь антиутопии и романа коренится в совпадении их ценностно-содержательных установок: "дистопический роман имел двойное основание стать фактом общественного сознания: как "частный эпос" своего времени и как негативная утопия - миф о будущем, архетипический образ зла, как "модель зла".
Однако однозначное соотнесение антиутопии с романом.не является общепризнанным. Н.Арсентьева, например, считает, что "антиутопическое содержание раскрывается как в рамках крупных, так и малых этических форм 764,323/. Пытаясь избежать терминологической путаницы, Г.Морсон предлагает применить к антиутопии определение "комбинированный жанр"/182,236/, что с его точки зрения, позволяет прочитать антиутопический текст в системе двух кодов, содержательно-мировоззренческом и жанровом.
Столь кардинальное различие трактовок означенной проблемы подчеркивает общую непроясненность одного из наиболее важных мест в теории антиутопии.
Итак, краткий обзор основных проблем научного освоения антиутопии дает возможность утверждать существование серьезных "белых пятен" в сфере теории жанра. Между тем решение спорных вопросов позволило бы не только уточнить специфику поэтики жанра, но и прояснить малоизученные аспекты истории антиутопии.
К настоящему моменту не исследован в полном объеме вопрос о статусе отечественной традиции антиутопии, не раскрыт характер соотношения национальной и западноевропейской жанровых традиций. Бытует мнение, согласно которому антиутопия принадлежит к исконно европейским жанрам, однако следует заметить, что сторонники этой позиции, как правило, не принимают во внимание богатый художественный опыт русской антиутопии. В этой связи подчеркнем, что зачастую основания для такого подхода дают сами отечественные исследования по данной тематике, далеко не всегда воссоздающие полноту действительной картины развития жанра в России. Например, в монографии Н.Арсентьевой "Становление антиутопического жанра в русской литературе" (1993) /64,1-135/ анализируются образцы "ранней антиутопии" (Н.Арсентьева) -романы "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский" Сервантеса и "Идиот" Достоевского. Не совсем корректное, на наш взгляд, причисление означенных произведений к "ранней антиутопии" не предполагает ориентации на реальную историю формирования жанра в отечественной литературе: характеризуя русскую антиутопию XX века, исследовательница ограничивается несколькими, достаточно произвольно выбранными текстами. Содержащая более полный и последовательный анализ русской антиутопии, монография Б.Ланина "Русская литературная антиутопия" (1993) /144,1-198/ не имела своей целью строгое следование истории процесса складывания отечественного извода жанра - наблюдения над эстетическим строем антиутопии в работе явно преобладают в сравнении с изысканиями историко-литературного порядка.
Укажем также, что практически неизученным остается начальный период становления национальной жанровой традиции, пришедшийся на 1900-1910-е годы. Отдельные замечания по данной проблеме высказывают Н.Арсентьева, Л.Геллер, Б.Ланин и некоторые другие ученые, однако в основном эти замечания (редкое исключение здесь составляют рассуждения Л.Геллера) имеют констатирующую направленность и не способствуют воссозданию динамики формирования жанра в России. Также до сих пор достаточно мало уделялось внимания судьбе антиутопии в двадцатые годы - времени исключительно плодотворном для отечественной жанровой традиции. При том, что существует ряд глубоких и оригинальных исследований, посвященных отдельным антиутопиям двадцатых годов, общая картина развития антиутопии в послереволюционную эпоху осталась вне поля исследовательского интереса (среди известных нам работ обзорно-обобщающей направленностью отличается лишь статья Б.Дубина и А.Рейтблата "Социальное воображение в научной фантастике 20-х годов") /112,13-48/. Это значительное упущение в сегодняшних представлениях об антиутопии создает серьезный пробел в истории русской литературы XX столетия, необходимость восполнения которого диктуется общими задачами современного литературоведения.
Актуальность диссертации определяется сосредоточенностью на решении наиболее спорных проблем жанровой теории и исследовании малоизученных страниц истории отечественной антиутопии XX века.
Цель диссертации - исследование процесса формирования жанровой традиции антиутопии в русской литературе 1900-х-первой половины 1930-х годов. Основное внимание в работе уделяется своеобразию отечественной антиутопии в сравнении с западноевропейской, на основе анализа различных художественных текстов раскрывается оригинальный характер национальной жанро-вой традиции.
Цель исследования диктует следующие задачи:
- обозначить основные факторы в общественной и культурной жизни России первой трети XX века, повлиявшие на зарождение и становление антиутопии в русской литературе;
- теоретически и историко-литературно выявить метажанровую природу антиутопии, на обширном литературном материале определить lee "конститутивные черты";
- проанализировать поэтический строй отечественных антиутопических текстов, созданных в период с 1900-х по первую половину 1930-х годов;
- выделить основные этапы развития национальной антиутопической традиции, раскрыть закономерности ее формирования.
В русской литературе становление антиутопической жанровой традиции приходится на период 1900-х-1935-х годов, то есть, по сути охватывает две эпохи, до - и постреволюционную. Обе эпохи, при их качественном отличии, характеризуются многообразием эстетических и философских концепций, сложным переживанием дистанции между словом и действительностью, напряженным поиском новых сочетаний изобразительного и выразительного планов. Общим для обеих эпох является также тяготение к утопизму, ставшему феноменом общественного и культурного сознания. Утопизм в данном случае понимается расширительно, в том значении, которое ему придавал К.Мангейм: как трансцендентная по отношению к наличному бытию ориентация /167,113-114/.
Однако уже в начале XX столетия возникают предпосылки для зарождения содержательно противоположного утопизму явления - речь идет об антиутопическом сознании или антиутопизме как особом мировосприятии, различные аспекты которого получили осмысление в трудах Ч.Кирвеля, О.Сабининой, С.Сизова и других ученых. Наблюдения этих исследователей убеждают, что антиутопический взгляд на действительность может быть с разной степенью полноты реализован в различных эстетических и философских концепциях. Одной из специфических форм воплощения антиутопического сознания в художественной литературе стала антиутопия.
Процесс выкристаллизовывания жанровой структуры антиутопии в русской литературе 1900-х-первой половины 1930-х годов, постепенного опредмечивания составляющих антиутопического сознания на языке жанра образует предмет настоящего исследования.
Главный материал изучения щ диссертации составили художественные тексты антиутопического жанра, представленные в русской литературе 1900-х-первой половины 1930-х годов. В работе рассматриваются не только произведения, традиционно находящиеся в орбите литературно-критической мысли (антиутопии В.Брюсова, Е.Замятина, М.Козырева), но и практически преданные забвению (антиутопии И.Морского, Ольсен, Е.Зозули, Тео Эли и др.). Следова- і ниє логике становления отечественной антиутопии позволило включить в поле анализа произведения, в которых антиутопическое начало не имеет собственно жанрового наполнения и присутствует в виде эстетической тенденции. Задача выявления основных тенденций формирования традиции жанра в России предопределила необходимость анализа неравноценных в художественном отношении текстов. Общая картина развития русской антиутопии была бы неполной без обращения к истории утопического жанра, интерпретации наиболее ярких образцов которого в диссертации отведено определенное место. Наконец, теоретические изыскания в работе проводились на обширном литературном материале, с привлечением как отечественных, так и западных антиутопий XX века.
Выделение временных границ изучаемого периода соответствует общей мысли отечественного литературоведения о том, что конец двадцатых - начало тридцатых годов завершает определенный этап в развитии русской литературы. Культурологической "поддержкой" такого подхода служат утверждения современных исследователей (В.Чаликова, М.Чудакова) о том, что утопические и антиутопические идеи в России снизили свою активность после "великого перело- ма"- 1929 года.
Антиутопический жанр эпохи первой трети XX века в русской литературе представлен романом (В.Брюсов "Семь земных соблазнов" (1911), Е.Замятин "Мы" (1920), Тео Эли "Долина новой жизни" (1922), повестью (Н.Федоров "Вечер в 2217 году" (1906), М.Козырев "Ленинград" (1925), рассказом (Е.Зозуля "Гибель Главного Города" (1918), С.Кржижановский "Боковая ветка" (1929), драмой (Л.Лунц "Город Правды" (1923-1924), притчей (В.Соловьев "Краткая повесть об Антихристе" (3900). Очевидно, что подобное разнообразие внешних форм определяет специфику отечественной традиции жанра на фоне европейской, в которой уже в начале XX века "жанровая сущность" (М.Бахтин) антиутопии достаточно прочно закрепилась за романной формой, наиболее полно ее опредмечивающей (Е.Жулавский, Э.Буажильбер, Г.Уэллс). Эта-ситуация объясняется тем, что начало формирования антиутопии в России пришлось на эпоху начала века - "переходную" эпоху, когда "разрыв" между жанровой сущностью и жанром наиболее ощутим" /188,2/. Благодаря этому в русской литературе не было столь явного, как в европейской литературе, сочленения антиутопии с романом.
Следование художественной практике русской антиутопии позволяет выдвинуть положение о принципиально метажанровой природе антиутопии. Основы теории метажанра в отечественном литературоведении были заложены М.Бахтиным. Анализируя специфику мениппеи, М.Бахтин отмечает следующую ее черту: "... уже на античной почве, в том числе и на древнехристианской, ме-ниппея проявляла исключительно "протеическую" способность менять свою внешнюю форму (сохраняя свою внутреннюю жанровую сущность)" /70,157/. Высказанная Бахтиным мысль о своеобразии бытия жанров получила теоретическое развитие в современной науке.
Творчески обобщив опыт М.Бахтина, Н.Лейдерман предложил разделить понятия метажанр и собственно жанр. Метажанр, согласно логике Лейдермана, представляет собой "принципиальную направленность содержательной формы" /150,135/, которая может быть опредмечена в различных жанрах. Отличие метажанра от жанра Лейдерман формулирует так: "Разумеется, жанр в его традиционном смысле тоже есть абстракция, но такая, которой пользуются художник в процессе создания произведения и читатель в процессе восприятия. Такая же абстракция, как метажанр, носит сугубо теоретический, исследовательский характер" /150,138/. Ученым подчеркивается наличие дистанции между "конститутивными чертами" жанра и их конкретным жанровым выражением. Благодаря этой, теоретически вычленяемой, дистанции открывается возможность в "чистом" виде рассмотреть "семантическое ядро" жанра, которое в реальной художественной практике воплощается в различных внешних формах, что и определяет свободное динамическое существование жанра.
Подобный взгляд соответствует научной мысли последних лет, разрабатывающей представление о жанровом бытии как живом динамичном процессе (В.Баевский, Н.Рымарь, В.Скобелев, Г.Белая, Е.Мущенко). В свете нового теоретического подхода к жанру высказывание М.Бахтина о том, что "сущность каждого жанра осуществляется и раскрывается во всей своей полноте только в тех разнообразных вариациях его, которые создаются на протяжении исторического развития данного жанра" /70,164/, утверждает следующее: сущность метажанра состоит в том, что его конститутивные черты по мере развития жанра получают различное внешнее воплощение.
Взгляд на отечественную антиутопию с позиций метажанра позволяет ввести в научный обиход новое понимание ее жанрового статуса, прояснить некоторые "узловые" моменты в спорах об антиутопии. При решении этих проблем за основу берется несколько положений теории жанра.
Поскольку каждому жанру присущ определенный способ миромоделиро-вания, раскрывающий его типологическую природу (эта идея активно и плодотворно разрабатывалась в трудах М.Бахтина, О.Фрейденберг), важным представляется рассмотрение особенностей структуры антиутопии, отношений между крупными синтагматическими единствами и более мелкими сюжетными единицами. В качестве "рабочего" определения структуры воспользуемся трактовкой А.Лосева: "Цельность рассматривается нами в свете составляющих ее элементов, а элементы цельности рассматриваются в свете этой цельности. Это и есть еди нораздельная цельность, то есть структура" /153,51/.
Понимание жанра как "поля ценностного восприятия мира" (М.Бахтин) дает возможность выделить ценностные приоритеты антиутопии. Акцент здесь делается на тех моментах, которые определяют своеобразие антиутопического "освоения" реальности и не обусловлены "отрицательной" связью с утопией.
Ориентация на восприятие жанра в качестве структуры, обладающей "собственным волеизъявлением" (серьезные теоретические замечания по данной проблеме высказывались Ю.Тыняновым, С.Аверинцевым), в диссертации воплощается в исследовании особой логики отношений в системе жанр - автор. Один из аспектов взаимодействия жанровой и авторской "воли", согласно Н.Леидерману, заключается в том, что жанр проверяет авторскую концепцию на мироподобие, а последняя, в свою очередь, "корректирует и обновляет ценностные критерии, окаменевшие в жанровой структуре" /150,19/. Это универсальное положение применительно к антиутопии обнаруживает свой драматичнейший характер, поскольку жанровая структура антиутопии выступает предельно независимой относительно авторского начала и жестко диктующей свои законы -создается ситуация, когда жанр "имеет свою собственную волю, и авторская воля не смеет с ней спорить" /55,4-5/. Описание механизма столь выраженного жанрового "диктата" в работе опирается на представление об общих закономерностях "жизни жанра", о динамике его функционирования (этот теоретический аспект последовательно развернут в трудах А.Потебни, М.Бахтина, Г.Поспелова). В диссертации также учитывается особое место жанра среди известных культурных универсалий (этой проблеме посвящены исследования В.Баевского, Е.Мущенко, Н.Рымаря, Ю.Шатина и других ученых).
Конкретный анализ различных уровней антиутопической структуры и жанровой поэтики в диссертации соответствует пониманию жанра как формально-содержательного единства (подобный подход к жанру представлен в трудах В.Жирмунского, Б.Томашевского, Ю.Тынянова).
Комплекс означенных положений теории жанра, разработанных в трудах отечественных литературоведов, образует методологическую основу диссертации.
В процессе анализа художественных текстов в диссертации использовались историко-литературный, сравнительно-типологический и структурно-семантический методы исследования.
Объем и специфика рассматриваемого литературного материала, а также современные подходы к изучению антиутопии потребовали прояснения вопроса о типе художественного сознания, воплощенном в антиутопии. Восприятие антиутопии в качестве жанровой модификации утопии следует стереотипному мнению, согласно которому антиутопия является "негативом утопического мышления" /219,65/. Между тем свойственные утопическому сознанию умозрительность, абстрактность, абсолютизация какого-либо одного принципа не исчерпывают художественные возможности антиутопии и не раскрывают ее жанровое содержание. При том, что отдельные элементы утопического видения мира - в качестве предмета изображения - присутствуют в антиутопии, своеобразие жанрового моделирования действительности в антиутопии во многом определено ориентацией на миф.4
Рассмотрение жанра в рамках мифопоэтики способствует, по замечанию Е.Мелетинского, "выявлению и анализу "коллективного" слоя в творчестве писателя" /175,160/, то есть дает возможность обозначить некие устойчивые доминанты в процессе собственно жанрового пересотворения действительности. Исследование антиутопии в свете указанного подхода в диссертации основано на ряде общепринятых в отечественной и западной науке положений о роли мифа в искусстве XX столетия.
Мощная тенденция к "ремифологизации" искусства, проявившаяся на рубеже веков и не утихавшая на протяжении всего столетия, обусловлена особым восприятием мифа и вниманием к его моделирующим возможностям. В современную эпоху было "заново" обнаружено свойство мифа выступать в качестве языка описания вечных моделей личностного и общественного бытия, неких сущностных законов социального и природного космоса" - "мифологизм" является характерным явлением литературы XX века и как прием, и как стоящее за этим приемом мироощущение" /175,295/.
"і Присущая мифу способность обобщать в литературе оборачивается его тяготением к типичным ситуациям, что подмечено еще Т.Манном. Писатель полагал, что "в типичном всегда есть много мифического, мифического в том смысле, что типичное, как и всякий миф, - это изначальный образец, изначальная форма жизни, вневременная схема, издревле заданная формула, в которую укладывается осознающая себя жизнь" /171,175/. С универсализирующей функцией мифа сопряжено его восприятие в качестве "рамы" (Р.Вагнер) или "решетки" (Е.Мелетинский), "наложение" которых на историческую действительность выявляет праосновы человеческого и природного бытия. Упорядочивающая направленность мифа сочетается с тем, что предметом изображения, как правило, оказывается нечто становящееся, не обретшее законченности (по Юнгу, миф "дает заглянуть в непостижимые глубины становящегося и еще не ставшего" /280,106/).
Таковы наиболее общие принципы обращения к мифу в современном искусстве.
Мифологическое в искусстве XX века имеет специфические формы воплощения. Сохраняя традиционный подход к мифу (использование мифологических имен, образов, сюжетов), новейшая литература возрождает миф в качестве структурной основы поэтики художественного произведения. В теории неоми-фологизма подчеркивается усиление личностного начала в современном мифотворчестве (не случайно неомифологические концепции ориентированы на психологию личности), делается акцент на том, что мифологическое видение мира становится объектом индивидуальной авторской рефлексии. В некоторых случаях, выражая индивидуальное авторское мироощущение, мифологические архетипы лишаются ценностной нейтральности и определенным образом аксиологи зируются (ср.: "...архетип сам по себе не морален и не имморален, не прекрасен и не безобразен, не осмыслен и не враждебен смыслу, но в нем заложены открытые возможности для предельных проявлений добра и зла" /54,126/).
Другой важный момент состоит в том, что иррациональное, исконная сфера мифического, выступает предметом изображениями сознательно воспроизводится как некая точка зрения на действительность: "будучи на самом деле продуктом изощренной субъективной рефлексии, современная мифологема хорошо знает о своей предумышленности" /94,10/.
Сказанное свидетельствует о серьезной трансформации мифологического сознания в XX веке, однако литературоведение последних лет исходит из того, что миф в современную эпоху сохраняет свою субстанциальную природу и является мощным источником генерирования поэтического смысла.5 Полагая, что в искусстве "мифологичны какие-то изначальные схемы представлений, которые ложатся в основы самых сложных художественных структур", С.Аверинцев видит задачу исследователя в том, чтобы "возможно более адекватным образом выявить повторяющиеся схемы и систематизировать их" /54,116/. Подобный подход, в частности, был применен к различным литературным жанрам: роману, мелодраме, притче (см./225;199;58/), что свидетельствует об апробированности современным литературоведением методики изучения жанра в его соотнесенности с мифом как формой художественного мышления. Системный анализ антиутопии в русле мифопоэтики в настоящей диссертации предпринимается впервые.
Таким образом, научная новизна диссертации заключается в следующем:
1. Впервые формирование антиутопии в русской литературе первой трети XX века исследуется как процесс становления национальной жанровой традиции.
2. В научный обиход вводятся и анализируются новые художественные тексты.
3. Впервые предпринимается целостное исследование антиутопии с позиций ме-тажанра.
4. Впервые антиутопия системно рассматривается в соотнесенности с мифом, что позволяет не только уточнить структуру жанра, но и выявить недостаточность традиционной интерпретации некоторых черт ее поэтики.
Цели и задачи диссертации определили ее структуру. Диссертация состоит из Введения, двух глав и Заключения. Во Введении обосновывается актуальность темы диссертации, определяются цели и задачи исследования и излагаются общие методологические и теоретические установки автора.
Первая глава диссертации "Жанровая структура антиутопии" включает в себя три части. В первой части главы "Антиутопия и миф " на конкретном литературном материале (отечественные и зарубежные антиутопии) описываются мифологические структуры в их жанровом преломлении, выясняется свойственная им роль в качестве художественно значимых элементов построения антиутопических текстов.
Во второй части "Двоемырие как конституирующий принцип антиутопии " определяется содержание феномена антиутопического двоемирия и доказывается правомерность признания его стержневым началом жанровой структуры.
В третьей части первой главы "Система персонажей и типология сюжета в антиутопии " раскрываются принципы, лежащие в основе построения системы персонажей антиутопии, дается характеристика антиутопического мета-сюжета и очерчиваются основные аспекты жанрового видения проблемы личности в современную эпоху.
Вторая глава диссертации "Формирование жанровой традиции антиутопии в русской литературе 1900-х-первой половины 1930-х годов" состоит из трех частей. В первой части "Зарождение антиутопической традиции в русской литературе" исследуется начальная стадия истории отечественной антиутопии, охватывающая период 1900-х-1910-х годов. В этой части выделяются факторы в общественном и культурном сознании дореволюционной эпохи, по влиявшие на процесс становления антиутопии в русской литературе, анализируются произведения В.Брюсова, И.Морского, Н.Федорова и других писателей.
Во второй части главы "Жанр антиутопии е русской литературе постреволюционной эпохи " исследуется динамика развития отечественной антиутопии і период с 1917 по 1925 годы, на фоне кардинальным образом изменившейся исторической ситуации изучается специфика антиутопии в контексте существующей жанровой системы, рассматриваются особенности жанровой поэтики в антиутопиях Е.Замятина, Тео Эли, Л.Лунца, М.Козырева и других художников.
В третьей части второй главы "Жанровая тенденция антиутопии в русской литературе второй половины 1920-х-первой половины 1930-х годов" исследуется судьба национальной антиутопической традиции в эпоху становления общественной и эстетической нормативности, определяются значение и функции антиутопического начала в произведениях А.Платонова, С.Кржижановского, А.Адалис и И.Сергеева, А.Палея.
В Заключении диссертации делаются итоговые выводы, обобщающие рассуждения по затронутым в работе проблемам теоретического и историко-литературного порядка.
Общий объем диссертации составил 245 страниц.
Библиография по теме диссертации включает 288 наименований.
Антиутопия и миф
В современной науке неоднократно указывалось на связь антиутопии и мифологического сознания /97,55; 112,47; 159,52/. Предлагаемая попытка ее системного анализа обусловлена представлением, согласно которому жанровое моделирование действительности осуществляется на основе "трудноотклеиваемых от этой формы элементов мышления" (Е.Мелетинский) - в таком качестве в антиутопии выступает миф.
В научном толковании миф имеет несколько смыслов. Значительное разнообразие суждений о мифе можно свести к следующим моментам. Во-первых, миф может пониматься в качестве универсального феномена сознания, характеризуемого синкретичностью, преобладанием предметно-образного начала, особой парадигматикой составляющих его элементов. Во-вторых, под мифом можно иметь в виду тип художественного сознания, которому свойственны определенные принципы видения мира (здесь актуальны представления о целостности сущего, об антиномии части и целого, об универсализации законов бытия внешнего и внутреннего, духовного и материального). В-третьих, можно говорить о мифе как специфическом повествовательном тексте, обладающем определенной сюжетной организацией. Эта форма существования мифа обусловлена структурным воплощением принципов мифологического видения мира, значимых в той или иной культурной традиции. Отметим, что в научной практике изучение отдельных текстов в рамках мифопоэтики предполагает совмещение различных подходов к мифу. В предлагаемой работе исследование антиутопии ориентировано главным образом на понимание мифа как типа художественного сознания.
Реконструирование мифологической праосновы антиутопического жанра имеет целью описать его "смыслопорождающее устройство". Это оправданно, поскольку исходные установки антиутопии получают опредмечивание на языке мифа, обретающем в жанровом контексте универсальные функции. Так, глубоко мифологична экспозиционная антиутопическая ситуация невыделенное личности из социума, наиболее распространенная интерпретация которой в понятиях социального кода (диктат государства над личностью, подчинение индивидуального коллективному и тому подобное) не отменяет ее метафизического аспекта: жанровая сосредоточенность на отдельной судьбе подспудно проявляет взаимное тяготение личного и общего. Постижение их драматической неслиянности восходит к учению Аристотеля, поскольку "уже Аристотель сознал как безысходную задачу антологии - противоречие между родом и индивидом. В действительности один не может без другого; но в то же время и тот, и другой претендуют на исключительную действительность"/ 242,77/. Антиутопия исследует различные уровни взаимодействия частного и общего, личностного и коллективного, закрепленного в пределах жанра за социальным, и на основе мифа выявляет сложную систему эквивалентностей в их существовании.
В антиутопической трактовке бытие личности и социума подчинено действию единых законов, смысл которых заключается в борьбе хаотического и космического начал. Их столкновение составляет инвариантный уровень жанрового конфликта: "неуправляемый" мир личности оказывается главным камнем преткновения на пути социума, стремящегося к абсолютной упорядоченности. Постепенно в это противостояние втягивается весь окружающий мир - происходит центростремительная динамизация антиутопического текста, на различных уровнях которого в тех или иных формах манифестируется указанный конфликт. По В.Топорову, описание кризисной ситуации, когда предсказуемому, "космическому" началу угрожает превращение в непредсказуемое, "хаотическое", лежит в основе универсальных мифопоэтических схем, при этом "схемы такого рода отражаются и в архаичных космологических текстах и в карнавале, и в ряде произведений художественной литературы" /238,92/. Воплощение в антиутопии основного космогонического конфликта имеет особую специфику. Согласно жанровой интерпретации, в большей степени действию хаотических сил подвержено личностное бытие. Такое восприятие коррелирует с представлением, согласно которому "человек как таковой - один из крайних ипостасных элементов космологической схемы, ее завершение и одновременно начало нового ряда, уже не вмещающегося в космологические рамки" /237,12/. Тенденция принимать те или иные проявления личностного существования как хаотические достаточно отчетливо прослеживается в антиутопии. Отсюда столь пристальное внимание жанра к внесоциальным аспектам человеческой жизни, сфере сокровенно-интимного, психического, бессознательного. В этой связи значительная распространенность мотива сна в антиутопии может быть объяснена тем, что "сон имеет своей сферой действия пространство и время, еще до конца не определенные, где отсутствует божественный порядок" /116,45/.
В антиутопии герой лишь в процессе противостояния обществу узнает о "священном тайнике", сокрытом в нем. Глубоко символично наделение именем невидимого и неподвластного разуму начала, обнаруживаемого в себе героем антиутопии А.Кестлера "Слепящая тьма": "Рубашову ... жить оставалось совсем недолго, и он спешил логически осмыслить внутреннюю сущность нового Я. Но когда оживал немой собеседник, умирала способность логически мыслить" / 21,70/.
Двоемирие как конституирующий принцип жанровой структуры антиутопии
В современной науке достаточно прочно утвердилась мысль о двуча-стности утопии и антиутопии, обусловливающей их внешнее сходство. Согласно распространенному мнению, "... двучастной структуре утопического романа соответствует ряд однотипных оппозиций: факт и вымысел, возможное и невероятное, реальное и фантастическое, бодрствование и сновидение, здравомысленное и безумное, историческое и поэтическое..." /206,67-68/. Построение утопии, таким образом, определяется через принцип двоемирия: "Утопия как бы удваивает мир, надстраивая над реальным материальным миром ирреальный мир мечты" /68,28/. Между тем нам кажется принципиально важным разделять двучастность утопии и двоемирие, которое является жанровым признаком антиутопии. Это различие убедительно проясняется в трактовке утопией и антиутопией реальности как категории, означающей особое, сориентированное на наличное бытие, видение мира.
Утопия, согласно позиции Г.Морсона, с помощью различных средств утверждает, будто вымышленный мир более реален, нежели социальный факт, - реальность и идеал утопии сливаются /182.246/. Заострив суждение исследователей, выскажем предположение, что категория реальности в утопии выступает в двойственной функции: с одной стороны, реальное находится в оппозиции с вымышленным, идеальным1 , с другой же стороны, реальное парадоксальным образом сопрягается с идеальным, тем самым раскрывая его претензии на истинную действительность. Очевидно, что представление о реальности в утопии не имеет самодовлеющего смысла, скорее оно призвано выявить качество того или иного явления в его отношении к сфере идеала", и потому применительно к утопии корректнее говорить о доминирующей оппозиции идеальное-безидеальное.
В антиутопии принципиально иная ситуация: в качестве структурирующей здесь выступает оппозиция реальное-идеальное J . Так возникает жанровое явление двоемирия. На фоне культурной традиции двоемирия, заложенной Платоном и наиболее полное воплощение получившей в искусстве романтизма, антиутопическое двоемирие выглядит своеобразным гротеском, "перевертышем" устоявшейся схемы. Действительно, сознание греховности и богооставленности сущего, породившее новоевропейскую традицию двое-мирия, в пределах жанр а подвергается резкой поляризации: с одной стороны, страдание и несправедливость оказываются за рамками "совершенного" алгоритмического мира, а с другой, именно за ними закрепляется качество неотъемлемых характеристик реальности. "Идеальное" же, лишенное этих качеств и, следовательно, лишенное онтологии, сведенное к выхолощенной модели действительности, мыслится как антиценностное начало. Отсюда очевидно, что именно реальное в антиутопии становится концептуальным и сюжетным центром, стягивающим повествование и изнутри "взрывающим" " идеальный" социум . В связи с этим особую актуальность обретает проблема представления реальности в антиутопии, определения ее форм и статуса.
Наиболее часто реальное в антиутопии сопряжено с природным, чувственно-телесным началом. Характерные качества "природной" реальности -стихийность, иррациональность, противоречивость и непредсказуемость. Соответственно в отношении к человеку реальность может оказываться несправедливой и безнравственной, способной пробуждать низменные инстинкты. В контексте такой концепции реальности окружающее человека обретает значимость настолько, насколько пробуждает и обостряет в нем непосредственное чувственное восприятие. Необычные цветовые гаммы ("А затем секунда - и среди юниф, совершенно отчетливо и просто: вороные, рыжие, золотистые, караковые, чалые, белые люди..." / 15,410/ (Замятин "Мы"), неслышанные ранее звуки ("Села, заиграла. Дикое, судорожное, пестрое, как вся тогдашняя их (предков - О.Л.) жизнь, - ни тени разумной механичности" /15, 318/ (Замятин "Мы"), особые запахи ("Запах уже наполнил комнату, густой и теплый; повеяло ранним детством, хотя и теперь случалось этот запах слышать: то в проулке им потянет до того, как захлопнулась дверь, то таинственно расплывется он вдруг в уличной толпе и тут же рассеется"/36,103/ (Оруэлл "1984"), новые вкусовые ("Нестерпимо - сладкие губы (я полагаю - это был вкус "ликера"), - и в меня влит глоток жгучего яда - и еще - и еще ... "/15,344/ (Замятин "Мы") и осязательные ощущения ("... а я -прикован, я не могу ни шагу - потому что под ногами не плоскость - понимаете, не плоскость - а что-то отвратительно-мягкое, податливое, живое, зеленое, упругое"/15,409/ (Замятин "Мы") в неожиданном ракурсе раскрывают перед человеком мир, который предстает насыщенным различными возможностями, неиспользованными валентностями, поддающимся творческому моделированию. Чувственное, телесное начало может быть переведено в иное смысловое измерение. Интересный вариант подобного перехода дан в антиутопии Э.Берджесса "Заводной апельсин". У героя романа, подростка Алекса, выражено особое пристрастие к музыкальной классике, однако любимая музыка является для него лишь одним из видов эмоционально-агрессивного наслаждения. Взрослея и размягчаясь, герой начинает слушать простенькие лирические песенки, и тихие тоскливые "зонги" усмиряют агрессивность подростка, окультуривают его чувства. Чувственному миру присуще сложное разноообразие форм, и его постижение позволяет человеку ощутить объемность и бесконечность переживаемой действительности. Такая трактовка лежит в основе природной концепции реальности в антиутопии.
Зарождение антиутопической традиции в русской литературе
Искусство начала века характеризуется столь уникальным многообразием эстетических и философских течений, школ, концепций, что говорить здесь о каких-то магистральных, векторных направлениях можно лишь с большой долей условности. Д.Мережковский, считая, что в культурном сознании эпохи рубежа уживаются крайний идеализм и крайний материализм /178,170/, определил поле взаимного притяжения и отталкивания тех явлений, сложное взаимодействие которых обусловило причудливую мозаичную картину искусства начала XX столетия. К этим крайним формам тяготеют факторы в общественной и культурной жизни эпохи, способствовашие зарождению антиутопического жанра в русской литературе.
В самом историческом бытии этого времени были заложены предпосылки для возникновения в общественном сознании утопического и антиутопического мировидения, получивших различное художественное преломление. Ряд важных научных достижений (изобретение радио, создание новой ядерной модели атома, проникновение в тайны светового луча и живой клетки, разработка теории относительности, серьезные географические открытия), развитие новых для России экономических отношений создавали иллюзию овладения ходом истории, вызывали ощущение подвластности окружающего воле человека, его знаниям и энергии. Однако социальный кризис, вызванный японской войной и наступившей вослед революцией, значительно откорректировал эти взгляды. Поскольку "всякая революция есть смута"/252,208/, русская революция 1905 года, содержавшая сильный элемент хаотического и неконтролируемого, продемонстрировала непредсказуемость общего хода истории, его принципиальную несводимость к теоретическим размышлениям. Своеобразная двойственность в восприятии истории нашла отражение в искусстве 1900-1910-х годов.
Одна из тенденций в художественной и философской мысли рубежа веков соотносилась с представлением о том, что некоторые области человеческого духа, обладая предельной автономностью, способны воздействовать на окружающий мир. В искусстве это проявилось в особой системе интерпретации действительности, по-разному воплощаемой прежде всего двумя поэтическим направлениями: символизмом и футуризмом. При внешнем различии символизма и футуризма в их художественной практике есть нечто общее, связанное с осознанием творящей природы поэтического слова. Одна из основных задач символизма состояла в том, чтобы утвердить понимание слова в качестве субстанции, онтологически равноправной другим формам бытия. Теоретик символизма А.Белый писал: "Плоть должна иметь дар речи. Слово должно стать плотью. Слово, ставшее плотью, - и символ творчества, и подлинная природа вещей" /73,338/. Пристальное внимание к слову характеризует и эстетические поиски футуристов. Однако если в символизме интерес к скрытым возможностям слова был связан с его восприятием в качестве проводника от мира види-мостей к миру сущностей, то футуризм стремился обнаружить животворящую силу самого языка, что соответствовало общеэстетическому пафосу искусства будущего.
При таком подходе поэт выступал творцом принципиально новой бытий-ности - отсюда идущая от В.Соловьева идея теургии в символизме и пафосное отрицание всей предшествующей культуры в футуризме. Моделирующие возможности искусства осознавались многими художниками практически беспредельными: действительность не только могла быть "без остатка" переведена на язык искусства - в эстетическом преломлении она обретала свою подлинность. Как подчеркивал А.Белый, "окружающая жизнь есть бледное отражение борбы человеческих сил с роком. Символизм углубляет либо мрак, либо свет: возможности превращает он в подлинности, наделяя их бытием" /73,256/.
Тенденция к пересотворению видимой действительности ярко обозначилась в живописи, главным образом, в явлении супрематизма (творчество Малевича, Богуславской, Чашника и др.). Наиболее признанным художником этого направления стал Малевич, в "беспредметных" картинах которого "исчезло представление о "верхе" и "низе", о "левом" и "правом". Это означало такую степень "автономности" в организации структуры произведения,, при которой рвется связь с направлениями, диктуемыми земным тяготением 7226,12/.
Способность искусства к созданию новой бытийности6 становилась предметом философского осмысления. В философской системе Бердяева представление об автономности творчества предельно заотряется и выливается в утверждение проективного характера искусства. В книге "Опыт эсхатологической метафизики (Творчество и объективация)" Бердяев писал: "Творчество в своем первоисточнике ... есть конец этого мира, хочет конца этого мира ...и есть начало иного мира"( цит. по /95,58/). Такое понимание творчества ракры-вало одну из магистральных тенденций искусства начала века, суть которой можно определить как эстетический утопизм.
Эстетический утопизм - явление уникальное. Утопизм как феномен сознания сориентирован на трансцендентные по отношению к наличному бытию факторы, на идеальное в широком смысле. В поэтических системах, связанных с утопическим видением мира, эстетическое становится всеобщим и универсальным мерилом(подробно об этом см. /211,1-136/). Однако модернизм, как, впрочем, и другие направления в искусстве начала века, сочетал в себе разные, подчас взаимоисключающие, трактовки внешнего мира. Подтверждением последнему служит укорененность в культурном сознании 1900-1910-х годов эстетической универсалии "живая жизнь". Эта универсалия, выступая аналогом незавершенности, безмерности, самодостаточности жизни, сложно преломляла в себе представление о нормативности в искусстве, идейно-содержательной и эстетической /185,41-49/. Присутствующая в искусстве и философии эпохи рубежа и начала века ориентация на сферу идеального и на живое, вечно изменяющееся бытие, создавала тот культурный фон, который способствовал возникновению русской антиутопической традиции.
Зарождающийся жанр своеобразно актуализировал художественные и интеллектуальные поиски эпохи, что наглядно проявилось в жанровой трактовке исторического времени. Категория времени для начала века была одной из важнейших. Обращение к ней диктовалось стремлением художника дать собственную модель мироустройства, что находило выражение в ценностном переосмыслении троичной структуры понятия. Соответствующая внутренней логике реальности троичность времени (его делимость на прошлое, настоящее и будущее)1 оказывалась предметом поэтической и философской рефлексии. Время перестало восприниматься как объективное, историческое, это способствовало определенной свободе передвижения в пределах традиционной вре-менной структуры . При этом очевидно, что жизнетворческая направленность искусства обусловливала особую значимость категории будущего. В художественной практике модернизма будущее означало не собственно время, а сферу эстетически невостребованных возможностей ( об этом см. /141,78-88/). В.Соловьев в трактате "Общий смысл искусства", подчеркнув, что "всякое ощутительное изображение какого бы то ни было предмета и явления с точки зрения его окончательного состояния, или в свете будущего мира, есть художественное произведение 7229,79/, определил устремленность в будущее как один из критериев художественности.
Жанр антиутопии в русской литературе постреволюционной эпохи
Послереволюционный период занимает в русской культуре и истории совершенно особое место. Колоссальный по мощности и последствиям социальный катаклизм не только потряс фундаментальные основы сложившейся государственности, но и вызвал сумятицу в сознании отдельного человека, разрушив ясность бытийных ориентиров. Все пришло в движение, возникла ситуация, когда "пересекаются две эпохи, две культуры и две религии.., когда целое поколение оказывается между двумя эпохами, между двумя укладами жизни в такой степени, что утрачивает всякую естественность, всякую преемственность в обычаях, всякую защищенность и непорочность"(цит. по /68,23/). Такая историческая ситуация является, по мнению Гессе, оптимальной для распространения утопического сознания, проникновения утопизма во все сферы духовной и социальной жизни.
Утопическое сознание эпохи конца 1910 - начала 1920-х годов обладало своими особенностями: индивидуальный утопизм сменился общественным, эстетический - социальным. Вернее было бы сказать, что социальное в постреволюционный период обрело эстетическое измерение, и именно это в конечном итоге определило тотальную утопичность эпохи. "Мир, который обещала построить установившаяся в России после Октябрьской революции власть, должен был стать не только более справедливым или гарантировать человеку большую экономическую обеспеченность - он, может быть даже в большей степени, должен был стать прекрасным. Неупорядоченная, хаотичная жизнь прошлых эпох должна была смениться жизнью гармонической, организованной по единому художественному плану" /105,111/.
Общей посылкой для различных революционно-авангардных течений в искусстве стал отказ от представления о внеположности идеала действительности, утратилось ощущение его изначальной трансцендентности. Идеал переместился в "плоскость исторической эмпирии" (выражение Г.Флоровского). Тонко чувствовавший современные веяния в искусстве А.Воронский писал в 1923 году: художник "действительность сегодняшнего начинает рассматривать сквозь призму идеального "завтра" /90,367/. Эстетическое и ценностное восприятие "идеального завтра" во многом предопределило сложную мозаику литературной жизни первой половины 1920-х годов.
Уже в первые послереволюционные годы в искусстве наметились разные подходы к складывающейся концепции личности (см. об этом /101,112-114/). Революционные события способствовали рождению нового героя - человека массы.1 В центре внимания оказывался, как правило, не рефлексирующий, сомневающийся герой, а один из многих, носитель массового сознания - интимное и сокровенное утратило первостепенную важность. Новому герою полагалось быть человеком разума, воли и действия. Это четко выразил М.Горький: "Революция уничтожила человека, пассивно ожидающего счастья, заменяя его постепенно человеком, который пытается достичь счастливой жизни усилиями своей личной воли 7152,563/. Рождение нового героя в искусстве сопровождалось активными спорами о сущности формирующегося человека, при этом, как подчеркивает Г.Белая, в среде писателей и критиков ясно осознавалось, что основной конфликт составляет здесь "борьба нового пролетарского мироощущения, нового строя чувств и "навыков" внутри человека с "ветхим Адамом" традиционных привычек, настроений, вкусов" /72,139/. Отношение к "ветхому Адаму" - неизменному, изначальному в человеке - разделило мастеров слова по различным лагерям и, в определенном смысле, явилось краеугольным камнем литературы 1920-х годов. Многочисленные литературные группы ("Перевал", "Серапионовы братья", "Кузница", "Октябрь", "ЛЕФ" и др.) отличались не только декларируемыми эстетическими пристрастиями, но и по гуманистическим критериям, по отношению к человеку. "Перевальцам" и "серапионам" было свойственно традиционно гуманистическое восприятие человека изнутри его собственного бытия". В то же время сторонники радикальных методов перестройки искусства настаивали на том, что цель литературы - воспитание коммунистического человека.
Во второй половине 1920-х годов споры о будущем человеке вылились в полемику "рационалистов" и "интуитивистов", одним из основных дискуссионных моментов которой стал вопрос о необходимости и возможности переделки человека. Конкретной работой в этом направлении был занят организованный в начале 1920-х годов ЦИТ, руководимый А.Гастевым. Отметим также расцвет евгеники, пришедшийся на это время. J Как видно, складывающаяся в послереволюционном искусстве концепция личности явилась своеобразной равнодействующей собственно художественных и социальных тенденций эпохи.
Эта концепция предполагала определенный ракурс эстетического видения, требовала специфических форм интерпретации действительности. Пожалуй, наиболее адекватное, предметно-зримое воплощение она получила в "героическом эпосе,"орнаментальной прозе"и героико-романтической струе в поэзии. Всем названным явлениям, в момент возникновения принесшим в литературу ряд открытий (поэтическое воссоздание образа массы, придание особой значимости категории стиля и др.), было свойственно некоторое "укрупнение" художественного видения, которое в перспективном отношении не могло быть эстетически плодотворным. В писательской среде достаточно рано возникло недоверие к подобному подходу к реальности, сомнение в его моделирующих возможностях. Использование "укрупненного" плана, стремление к панорамности и пафосности -принципы литературные по преимуществу - подспудно коррелировали с тенденциями нелитературного порядка. В отклике на резолюцию ЦК РКП(б) 1925 года "О политике партии в области художественной литературы" Б.Пастернак писал о "новом" литературном стиле: "Он (стиль - О.Л.) уже найден, и, как средняя статистическая, он призрачного и нулевого достоинства... Иначе и быть не могло, такова логика больших чисел. Вместо обобщений в эпохе, которые предоставлялось бы делать потомству, мы самой эпохе вменили в обязанность жить в виде воплощенного обобщенья" /194,260/.