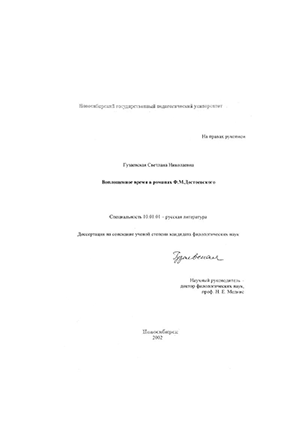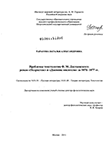Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Овеществленное время: часы 13
Глава 2. Время, воплощенное в вещах, или Воплощенная память 48
Глава 3. Темпоральные аспекты телесного 78
Глава 4. Метафоры времени в романах Достоевского 131
Заключение 149
Библиография 1
- Овеществленное время: часы
- Время, воплощенное в вещах, или Воплощенная память
- Темпоральные аспекты телесного
- Метафоры времени в романах Достоевского
Овеществленное время: часы
Из всего мира вещей, окружающих человека, часы настолько прочно связываются в нашем сознании с идеей времени, что порой время представляется нам в виде часов. Однако оно не может сводиться к прибору, служащему его измерению. Создавая вещь — механические часы — человек стремится к утилизации идеи времени. Дискретность, присущая времени часового механизма, изначально дружественна человеческой природе. Она призвана структурировать нераздельное бытие, т. е. служить космосу, а не хаосу. Но часы, подобно еврейскому Голему, начинают собственную жизнь, выходят из под контроля. Они подчиняют человека своему ритму, разрывая континуум, воплощенный в круге, описываемом стрелкой, на множество моментов. М. Ямпольский по этому поводу замечает: "Время часового механизма только кажется нам включенным в континуум. В действительности оно прерывисто. И эта прерывистость выявляет связь с остановкой, отмечая отсутствие потока, направленного в будущее" . Бытие субъекта лежит вне точки, в которой фиксируется время, т. к. бытие принципиально непрерывно и неостанавливаемо.
Дискретность деструктивна в том случае, когда она вырывает момент из онтологической цельности, разрушая естественные связи между предметами и явлениями. Сущность процесса воплощения времени такова, что дискретность возникает как следствие затормаживания, фиксирования времени в вещи, которая всегда является лишь фрагментом космоса. Ей присуща пространственная и временная ограниченность. Выделенность вещи из пространственно - временного континуума вычленяет из него и промежуток времени, с ней связанный.
В часах идея дискретности преобладает над континуальностью, так как в основном они предназначены для выделения момента из потока темпоральности. В итоге дискретность оказывается связана с конечностью, поскольку процесс членения подразумевает обнаружение начала и конца. Вместе с тем существенно замечание Аврелия Августина, который писал: "В тебе, душа моя, измеряю я время... Впечатление от проходящего мимо остается в тебе, и его-то, сейчас существующее, я измеряю, а не то, что прошло и его оставило. Вот его я измеряю, измеряя время. Вот где, следовательно, время, или же времени я не измеряю"1. Августин не отделяет переживание ("впечатление") времени от его измерения, т. к. предлагает измерять его в душе, которая сама с ним связана: "... кажется, что время есть не что иное, как растяжение, но чего9 Не знаю; может быть, самой души?" Он предлагает постигать время через него самое. Однако отстранение от "растяжения... души" не способствует измерению времени, поэтому о часах нельзя с полной уверенностью сказать, что они его действительно измеряют. Часы указывают на цифру, условно принятую за момент настоящего.
Настоящее, отображаемое часами, не есть настоящее переживаемого времени. Истинное настоящее, по Августину, "тот момент во времени, который невозможно разделить хотя бы на мельчайшие части, но он так стремительно уносится из будущего в прошлое! Длительности в нем нет"3. В отличие от него момент, отмеченный стрелкой часов, может дробиться на бесконечно малые части: час -— на минуты, минута -— на секунды, секунда — на доли секунды. Членимость обусловлена пространственным представлением времени в сознании человека. Цифра не отличается целостностью, которой обладает переживание времени, определяемое как бытие в "Здесь и Теперь". Целостность времени, понимаемого как длительность, отмечает и А. Бергсон Следуя его мысли, можно считать настоящим одно из "состояний сознания, когда оно не устанавливает различия между наличными состояниями и теми, что им предшествовали"1. Часы опосредуют время, проецируя его в пространство и уничтожая то, что Бергсон называет "длительностью". Субъект, доверяющий измерение времени часам, совершает неравноценную замену одного другим, ибо прибор, находящийся вне субъекта и его сознания (души), находится и вне переживаемого времени.
Наше утверждение об отсутствии переживания настоящего вступает в кажущееся противоречие с мыслью М. Бахтина о том, что "каждый поступок героя [Достоевского. — СТ.] весь в настоящем и в этом отношении не предопределен"2. Бахтин в данном случае понимает под настоящим не столько присутствие субъекта в "Здесь и Теперь", сколько разрез времени, в котором все связи представлены как одновременные. Это момент, не связанный с прошлым, но направленный в будущее: "Эта особенность проявляется в эсхатологизме Достоевского — политическом и религиозном, в его тенденции приближать концы, нащупывать их уже в настоящем, угадывать будущее как уже наличное, в борьбе сосуществующих сил"3. Обращение к будущему "как уже наличному" заставляет видеть настоящее в качестве точки ветвления, "пучка потенциальных возможностей" (Ю.М. Лотман4). В этом смысле "дурная бесконечность внутреннего диалога" есть длительная ситуация выбора героем одного из возможных будущих, то есть опять-таки не бытие в целостном настоящем. Целостность в данном случае понималась бы как монологизация, невозможная и желанная для героя Достоевского. Лишь момент ее обретения становится моментом настоящего. Это секунды наивысшей гармонии, испытываемые в начале эпилептического припадка князем Мышкиным, Кирилловым и самим Достоевским. "Есть секунды, их всего зараз приходит пять или шесть, и вы вдруг чувствуете присутствие вечной гармонии, совершенно достигнутой
Время, воплощенное в вещах, или Воплощенная память
Не будучи в состоянии заглянуть в память своего подозреваемого, Порфирий создает интерпретацию, логически выводимую из настоящего. Он не учитывает произвольности выбранного Раскольниковым знака, который обозначает не только муку сидения за запертой дверью, но и муку принятия решения. Колокольчик остается знаком, принадлежащим системе памяти только одного героя, и трансляция данного образа без потери информации оказывается невозможна.
Еще более замкнуты в автокоммуникативной системе отмеченные определенными предметами образы мест, которые запечатлевают то или иное состояние души героя. Запоминание, хотя оно и не всегда дается в тексте как сознательно организованный героем процесс, так или иначе, фигурирует в припоминании. Уже после убийства, проходя К-м бульваром, Раскольников обращает внимание на скамейку, которая заставляет его мысли переключиться на другой предмет: «Показалось ему вдруг тоже, что ужасно ему теперь отвратительно проходить мимо той скамейки, на которой он тогда, по уходе девочки, сидел и раздумывал, и ужасно тоже будет тяжело встретить того усача, которому он тогда дал двугривенный» [курсив наш. - С.Г. ] [VI; 86]. В этот момент время героя очень четко делится на тогда и теперь. При этом запоминание связано для героя с забвением: «Он присел на оставленную скамью. Мысли его были рассеяны... Да и вообще тяжело ему было думать в эту минуту о чем бы то ни было. Он бы хотел совсем забыться, все забыть, потом проснуться и начать совсем сызнова» [VI; 43]. Разница между тогда и теперь, порождающая в душе герое злобу, состоит в том, что в настоящем уже невозможно забыться, а потом «начать совсем сызнова». Достоевский изображает переход Раскольникова к новому состоянию, в котором прежнее состояние существует только как память, зафиксированная в материальном предмете. Однако поскольку под памятью, следуя за Бахтиным, следует понимать прошлое, актуальное для настоящего героя; прошлое, не исчезающее в бездне забвения, мы можем утверждать, что герой здесь еще сохраняет связь со своим прошлым, хотя предметы, воплощающие его, теперь наполнены новым смыслом.
Отделенность от допорогового «я» Раскольников ощущает только спустя некоторое время, когда глядит с моста на пейзаж, который был значим для него и раньше. Герой переосмысливает недавно произошедшие события и все последнее время. Место, где он находится, прежде служило ему точкой субъективной переорганизации пространства - это та великолепная панорама над Невой, которая прежде занимала его воображение. Данный образ хранит спроецированные на него мысли героя; не случайно Достоевский подчеркивает неоднократность остановок Раскольникова на этом месте: «Это место было ему особенно знакомо. Когда он ходил в университет, то обыкновенно, — чаще всего, возвращаясь домой, — случалось ему, может быть, раз сто останавливаться именно на этом же самом месте» [VI; 90]. Таким образом, место хранит множество наслоенных друг на друга состояний героя, и само имеет некоторую власть над ним, поскольку всякий раз пробуждает в нем одни и те же ощущения. Постоянство места рождает в сознании героя догадку о внутреннем изменении: «Дивился он каждый раз своему угрюмому и загадочному впечатлению и откладывал разгадку его, не доверяя себе, в будущее. Теперь вдруг резко он вспомнил про те прежние свои вопросы и недоумения, и показалось ему, что не нечаянно он вспомнил теперь про них. Уж одно то показалось ему дико и чудно, что он на том же самом месте остановился, как прежде, как будто и действительно вообразил, что может о том же самом мыслить теперь, как и прежде, и такими же прежними темами и картинами интересоваться, какими интересовался...еще так недавно» [курсив во всех случаях наш. — С.Г.] [VI; 90]. Актуализация запоминания прежнего состояния «я» героя указывает на наличие непреодолимой бездны между двумя его идентичностями, настоящей и прошлой. Настоящее героя не совпадает с тем предполагавшимся когда-то будущим, в котором он собирался найти ответы на свои вопросы. Это future in the past отменено длящимся настоящим. Поэтому герой и удивлен, что в незапрограммированном в момент запоминания, в ином будущем он оказался в месте, соответствующем прежнему пространству памяти. Таким образом, Раскольников обладает памятью, вписанной в городское пространство, и неслучайно автор заставляет его проходить по одним и тем же местам - до и после убийства. Это способ актуализации памяти, ее нарративизации, при которой сознание субъекта находится в тесной связи с пространственным текстом.
Особенно показателен в этом отношении эпизод из романа «Идиот». Ипполит Терентьев говорит о своем взаимодействии со стеной противоположного дома, в ходе которого его память, мысли оказываются вписаны в стену, а стена буквально обращается в его внутреннее пространство: «Да, это Мейерова стена может много пересказать! Много я на ней записал. Не было пятна на этой грязной стене, которого бы я не заучил» [VIII; 326]. «Заученные» героем пятна превращаются в рассказ о его жизни, но этот рассказ может прочесть только записавший его. Образ Мейеровой стены преследует Ипполита, почти становясь его идентичностью. Именно поэтому герой говорит: «Если б еще два месяца тому назад мне пришлось, как теперь, оставлять мою комнату и проститься с Мейеровой стеной, то я уверен, мне было бы грустно» [VIII; 322]. Место, в котором находится герой, смотрящий на стену, как ему кажется, одно способно сохранить его целостность. Покинув это пространство и заменив его Павловском с «павловскими деревьями», Ипполит чувствует себя лишенным самого необходимого: памяти о смерти, воплощенной в Мейеровой стене. «Неужели им непонятно, что чем более я забудусь, чем более отдамся этому последнему призраку жизни и любви, которым они хотят заслонить от меня мою Мейерову стену и все, что на ней так откровенно и простодушно написано, тем несчастнее они меня сделают?» [VIII; 325] - вопрошает герой. Течение жизни, т.е. движение времени, которому подчиняется герой, способно, по его ощущению, заслонить от его внутреннего взгляда смерть.
Темпоральные аспекты телесного
«Детское» выражение лица, манера поведения есть моментальное воспроизведение телом состояния, присущего невинной душе, которой обладают у Достоевского Лизавета и Соня, героини романа «Преступление и наказание». Детской Достоевский называет мимику Лизаветы, которая смотрит на Раскольникова, замахнувшегося на нее топором: «Губы ее перекосились так жалобно, как у очень маленьких детей, когда они начинают чего-нибудь пугаться» [VI; 65]. Позже то же выражение Раскольников видит в лице и теле Сони: «Он ярко запомнил выражение лица Лизаветы, когда он приближался к ней с топором, а она отходила от него к стене, выставив вперед руку, с совершенно детским испугом в лице, точь-в-точь как маленькие дети, когда они вдруг начинают чего-нибудь пугаться, смотрят неподвижно и беспокойно на пугающий их предмет, отстраняются назад и, протягивая вперед ручонку, готовятся заплакать. Почти то же самое случилось теперь и с Соней» [VI; 315]. Тела Лизаветы и Сони возвращаются к состоянию детской беззащитности, и потому уподобляются детским телам. Раскольников, делая признание в убийстве, так же чувствует себя беззащитным и переживает состояние, сходное с Сониным: «Ужас ее вдруг сообщился и ему: точно такой же испуг показался и в его лице, точно также и он стал смотреть на нее, и почти даже с той же детскою улыбкой» [курсив автора. — С.Г.] [VI; 315]. Тело, превратившееся в «детское», диалогически открывается, поэтому энергия ужаса и беззащитности переходит от одного героя к другому. Тело обнаруживает это состояние в экстремальной, то есть пороговой ситуации, когда временные границы смещаются. При этом детская незащищенность связана еще и с явно недостаточной функциональностью тела.
Выражение лица, однако, не всегда соответствует душевному состоянию. Так, описывая Грушеньку («Братья Карамазовы»), повествователь замечает: «Она глядела как дитя, радовалась чему-то как дитя, она именно подошла к столу «радуясь» и как бы сейчас чего-то ожидая с самым детским нетерпеливым и доверчивым любопытством» [XIV; 137]. Такое определение противоречит описанию тела Грушеньки, мощного и обильного, ее плавной речи. Алешу больше всего поразило «в этом лице его детское, простодушное выражение» [XIV; 137], которое в данном случае может считаться нарочитым, выделанным, как и все поведение героини в этом фрагменте. Между тем, именно детское простодушие Грушеньки привлекает Катерину Ивановну, обманывает ее и обещает возможность диалога.
Слово «ребенок» употребляется Достоевским чаще для описания внешности, манеры поведения, степени развития, но не духовного состояния. В ребенке всегда заметно «невзрослое», то, что не позволяет ему быть частью взрослого мира. Ребенок всегда немного недовоплощен. Внешнее сходство с ребенком замечает Раскольников в Соне («Преступление и наказание»): «Не смотря на свои восемнадцать лет, она казалась почти еще девочкой, гораздо моложе своих лет, совсем почти ребенком, и это иногда даже смешно проявлялось в некоторых ее движениях» [VI; 183]. Сходным образом в романе «Подросток» ребенком называет Лизу ее брат Аркадий: «Какая ты сегодня красавица, Лиза. А впрочем, ты ужасный ребенок» [XIII; 160]. В обоих случаях подчеркивается, что героиня не может быть оценена «как взрослая». Сам Аркадий, сравнивая себя с Васиным, чувствует себя «недостойным ребенком». Он ощущает это состояние как внутреннюю незрелость. «Ребенок» у Достоевского - одна из стадий временного развития, в отличие от вневременного состояния «дитя». Поэтому к стадии «ребенка» возможно регрессивное возвращение. Аркадий говорит о себе: «Я вдруг закрыл лицо обеими руками и горько, навзрыд заплакал. Само так вышло! В молодом человеке сказался вдруг маленький ребенок» [XIII; 236]. Нахлынувшие эмоции заставляют тело вспомнить прежнее состояние. Точно так же Митя Карамазов («Братья Карамазовы»), не имея во внешности ничего детского, «вдруг залился слезами, как малый ребенок. Он шел и в забытьи вытирал кулаком слезы» [XIV; 351]. Ребенок появляется в герое тогда, когда исчезает взрослый.
Телесная недовошющенность актуализируется при сравнении с ребенком умершего Нила Алексеевича («Идиот») из рассказа Лебедева: «Из колясочки упали после обеда [...], височком о тумбочку, и, как ребеночек, как ребеночек, тут же и отошли. Семьдесят три года по формуляру значилось; красненький, седенький, весь духами опрысканный, и все, бывало, улыбались, все улыбались, словно ребеночек» [VIII; 168]. Описание нелепой смерти Нила Алексеевича противоречит его определению в предыдущем абзаце как «вельможи» и «высокопревосходительства». Лебедев сводит его телесную функциональность к улыбке ребенка, а тело оказывается беспомощным. Также беспомощен и недовоплощен старый князь Сокольский в романе «Подросток». Аркадий видит, что «из старика [...] сделали какую-то мумию, какого-то совершенного ребенка, пугливого и недоверчивого» [XIII; 423]; и далее: «Бедный старик был похож на жалкого, слабого, испуганного ребенка, которого выкрали из родного гнезда какие-то цыгане и увели к чужим людям» [XIII; 426]. Сравнение с мумией, то есть с высохшим покойником, задает абсолютную пассивность старого князя. Его тело в одно и то же время стремится к двум состояниям — ребенка и мертвого. Но в любом случае, «пугливый и недоверчивый» ребенок так же закрыт от мира и спрятан внутрь своего тела, как и покойник. Герой выделен из мира и телесная реальность остается для него единственной, поэтому больше всего он боится быть убитым, то есть лишенным тела.
Состояние «младенца» в романах Достоевского можно понимать как максимальную несамостоятельность, беспомощность, но вместе с этим -открытость. Этим словом Аркадий («Подросток») называет Макара Ивановича во время болезни; он сравнивает с младенцем и князя Сережу: «Как скоро падала и разбивалась его мнительность, то он уже отдавался окончательно, в нем сказывались черты почти младенческой ласковости, доверчивости и любви» [XIII; 244]. Младенец всегда зависим от окружающих. Его тело отдано им. Возвращение в состояние «младенца» влечет за собой зависимость. Так Федор Павлович Карамазов («Братья Карамазовы»), влюбленный в Грушеньку, узнав от Смердякова о ее мнимом приходе, «вздрогнул весь, как младенец». В этот момент герой полностью лишается прикрепленности к точке реального времени. Его тело забывает о моменте настоящего и переходит к прошлому состоянию, что обусловлено непосредственностью его желания, крайней степени зависимости и нетерпения.
Метафоры времени в романах Достоевского
Однако зачастую в мире Достоевского событие связывается по ассоциации еще и с некоторым материальным предметом, который начинает в этом случае функционировать как мнемонический знак в автокоммуникативной системе героя. Совокупность таких знаков, служащих отображениями событий, образуют память. При этом время воплощается в вещи таким образом, что процесс припоминания событий всегда непосредственно связывается с процессом запоминания: вновь переживая событие, герой соединяет в своем сознании два момента «настоящего». Таким образом, время, воплощенное в вещи, превратившейся в мнемонический знак, не может вполне стать прошлым для героя. Достоевский чаще использует в качестве мнемонических знаков «случайные» (с точки зрения героя) предметы, говорит о незапланированной заранее проекции памяти на вещь, нежели о сознательном использовании вещи в качестве средства запоминания того или иного события. Думается, это объясняется спецификой понимания механизма памяти самим автором, который преобладающую роль отводит «случайным» впечатлениям.
Понимание времени героем Достоевского как настоящего связано с воплощением его в теле. Такое воплощение имеет две стороны. С одной стороны, тело выступает как форма земного присутствия человека, воплощенное настоящее. В этом случае временное тело противопоставляется у Достоевского вневременному телу воскресения. С другой стороны, тело движется в потоке темпоральности к пределу земного бытия, деформируется временем. Изнутри такое движение понимается процессуально, причем усиление временных переживаний происходит у героя Достоевского по мере приближения к границе между бытием и небытием. Вблизи границы время характеризуется уплотненностью и дробностью.
Воспринимая тело «другого», замечая его изменения под воздействием времени, субъект фиксирует ряд моментов в «образе тела». Конфликт между образами тела-прошлого и тела-настоящего порождает видимость вписывания
Достоевский говорит именно о слиянии со всем, а не со всеми, то есть не только с одушевленным, живым, но и вообще со всем миром.
В художественных текстах эта проблема нигде не сформулирована в таком виде, а разведена диалогически: одни герои говорят о физическом перевоплощении человека в воскресении (Кириллов в романе «Бесы»), другие большее внимание уделяют осуществлению рая на земле (князь Мышкин -роман «Идиот», старец Зосима - «Братья Карамазовы»). Однако и в том, и в другом случае идея о слиянии Я со всем сохраняется. Если о физическом изменении мы уже говорили в предыдущей главе, то сейчас нас больше интересуют проблемы земного рая. Старец Зосима представляет его так: «Воистину всякий перед всеми за всех виноват, не знают только этого люди, а если бы узнали - сейчас был бы рай» [X; 270]. В этом фрагменте особенно заметно, что райское существование как осознание причастности единичного Я - всему - не влечет за собой уничтожение времени, рай наступит «сейчас», в момент перехода от прошлого к будущему через настоящее, через движение времени. Метафоры, которую использует Достоевский для обозначения связи земного мира с миром иным и, следовательно, времени с вечностью, — «корни», «живая связь», то есть опять-таки нити: «Даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высшим, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных»; и далее: «Взращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным мирам иным» [XIV; 290]. То есть, по мысли Достоевского, видимое человеку, являющееся ему на земле, существует благодаря тому, что невидимо, принадлежит горним мирам. Следовательно, время земного бытия существует и движется исключительно благодаря существованию вечности. Время растет из семян вечности.
Итак, в структуре романов Достоевского мы обнаружили и рассмотрели ряд метафор времени, раскрывающих глубинную сущность отношения писателя к проблеме связи времени и вещи, то есть, к проблеме воплощенного времени. Подводя итоги, можно утверждать, что время не только не преходит, но, по мысли Достоевского, скрытым образом постоянно присутствует «во всей полноте». Достоевский использует в своих романах метафоры времени прежде всего для того, чтобы подчеркнуть причастность временного — вечному; индивидуальной человеческой жизни — бытию Вселенной. Очевидно, именно поэтому автор чаще всего использует те метафоры, которые в культуре обозначают, с одной стороны, время человеческой жизни, а с другой стороны — Вселенную и вечность.