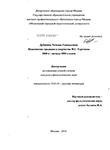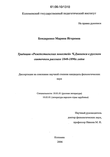Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Логика реалистического становления в прозе А.С. Пушкина 34
1. Проблема художественной целостности произведения в прозе А.С. Пушкина 34
2. «Событийный» мир в пушкинской прозе 42
3. Повествовательная структура и стиль прозы поэта: движение к полистилистике 63
4. Становление прозаического «не-героя»у Пушкина 72
Глава 2. Раннереалистические искания в русском романе середины сороковых годов и поэтика пушкинской прозы 83
1. Место пушкинского наследия в истории развития русского романа 1840-х гг 83
2. Поэтика полижанровости А.С. Пушкина и художественное конструирование'мира героя в
первых романах И.А. Гончарова, А.И. Герцена, Ф.М. Достоевского 91
3. Пушкинские принципы сюжетосложения и сюжетоостранение в романах середины 1840-х гг 105
4. Полистилистическая техника в романах И.А. Гончарова, А.И Герцена, Ф.М. Достоевского 40-х гг. XIX века 124
5. Поиск «нового героя» в прозе А.С. Пушкина и типология персонажей романов середины
1840-х гг 142
Заключение 166
Библиография 171
- Проблема художественной целостности произведения в прозе А.С. Пушкина
- Повествовательная структура и стиль прозы поэта: движение к полистилистике
- Место пушкинского наследия в истории развития русского романа 1840-х гг
- Пушкинские принципы сюжетосложения и сюжетоостранение в романах середины 1840-х гг
Введение к работе
Новаторская роль Пушкина в русской словесности была высоко оценена ещё при его жизни В.А. Жуковским, П.А. Вяземским, В.Ф. Одоевским, Н.В. Гоголем. Был поставлен вопрос о присутствии и фактическом освоении пушкинской традиции в отечественном историко-литературном процессе (В.Г. Белинский, А.А Григорьев, А.В. Дружинин, И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Н.Н. Страхов, Н.Г. Чернышевский, М.Е. Салтыков). Позже, в историко-литературных штудиях П.В. Анненкова, А.Н. Пыпина, С.А. Венгерова, представителей русского «формального метода» установилось мнение об А.С. Пушкине как родоначальнике всей русской классической литературы. Последнее представление определило направленность специальных исследований ряда современных учёных (А.В. Чичерина, Д.Д. Благого, Ю.М. Лотмана, В. Шмида, Н.Д. Тамарченко и др.). Критическая и научная литература, посвященная вопросу рецепции пушкинского творчества писателями-потомками, позволила выявить проблему многоаспектности и неочевидности представлений о передаче и проявлении самой пушкинской традиции.
Да и сам феномен пушкинского наследия рассматривался неоднозначно. Если Н.Г. Чернышевский постулировал неактуальность пушкинского наследия для литературы реализма второй половины XIX века, то В.М. Жирмунский и Б.В. То-машевский, связывающие творчество А.С. Пушкина с риторической эпохой, определили его место как завершителя эпохи эйдетической поэтики. Вместе с тем, уже следующий, послепушкинский период в русской литературе был объявлен «гоголевским» (В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, В.В. Виноградов, В.И. Кулешов).
Указанное противоречие ставит проблему определения истинного места, занимаемого творчеством А.С. Пушкина как на переломе между двумя художественными эпохами, так и конкретно в литературном процессе 1830-1840-х гг.
В настоящее время существует несколько точек зрения на способ разрешения данного противоречия: исходить из факта разных стадий единого литературного развития в России - «пушкинской» и «гоголевской»; определять их как две параллельные линии литературной традиции; воспринять этот процесс одновременно в масштабах смены «больших эпох» и текущего литературного процесса, в этом случае с гением А.С. Пушкина связывается общая логика и формы становления литературы «неканонического» типа, которые продолжают становление и развитие в творчестве следующих за ним писателей.
Последняя трактовка ставит вопрос о понимании того, что считать собственно пушкинской традицией: эстетику и художественную мысль, данные А.С. Пушкиным (СМ. Бонди, Д.Д. Благой, В.Д. Сквозников и др.); символы, мотивы, темы, открытые поэтом (З.Г. Минц, М.В. Литовченко, С.Г. Шепель и др.) или новые принципы литературного письма (М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман, Н.Д. Тамарченко и др.).
Разрешение указанного вопроса возможно лишь через историко-теоретическое осмысление трактовки понятия традиции в литературоведении, основные положения процесса осмысления которого даны во введении.
Если в эпоху канонической культуры традиция понимается как завещанная система образцов, то в эпоху Возрождения этот феномен стал предметом авторефлексии культуры.
В XIX веке В.Г. Белинский приходит к воззрению на традицию как влияние, «единство или близость идейно-эстетических принципов» (А.С. Бушмин), подчинённое общей телеологии развития мирового духа. К такому пониманию присоединились критики-демократы, а позже взяли на вооружение представители европейской и отечественной «культурно-исторической и «духовно-исторической» школ. К ней же обратились исследователи марксисткой ориентации.
Параллельно развивалась иная версия понимания литературной традиции как накопления в историческом процессе формально-художественных достижений, встречающаяся и у В.Г. Белинского. На подобном понимании традиции строится методология целого ряда научных направлений XIX века. В XX веке мысль о «роли предания в процессе творчества» развивали русские формалисты, представление об автономности литературной формы разделял М.М. Бахтин, мысль о последовательной художественной трансформации литературного материала, высказанная романтиками, лежит в основе историко-литературных взглядов Г.А. Гу-ковского, Е.Н. Купреяновой и др.
В русле этого направления в изучении литературной традиции был поднят вопрос об осмысления самих «механизмов» литературной трансформации. На материале архаической словесности и литературы он рассматривался О.М. Фрей-денберг, представляющей литературную эволюцию как круговорот двух противоположных фаз, который заключается в переходе факторов в факты и наоборот. Г.А. Гуковский полагал в качестве объекта изучения литературной эволюции конкретные компоненты - стиль и метод. Развивая эту мысль, Е.Н. Купреянова предложила «пошаговое» описание «развития» художественных форм. У Ю.Н. Тынянова эволюционные процессы в литературе предстали в виде всеохватывающей динамики речевых конструкций: отдельных функций, конституирующих литературные факты; конструктивного принципа, задающего системное единство речевой конструкции; конструктивного фактора, выступающего определяющим условием самотождественности литературных явлений в их изменчивости.
Тем самым, рассматриваемое представление о литературной «традиции» ведет к двоякому взгляду на данное понятие: с одной стороны, при обращении к нему возникает необходимость в описании конкретного «механизма» новационной трансформации прежнего литературного материала, который был предложен Пушкиным и, как предполагается, был усвоен его наследниками, а с другой стороны, в уяснении художественной природы речевой конструкции, обеспечивающей определенный способ художественной репрезентации действительности. В таком понимании литературной эволюции диссертация корреспондируется с учениями А.Н Веселовского, М.М. Бахтина, И.П. Смирнова.
Очерченный круг наблюдений и суждений, высказанных в литературе, позволяет представить интересующую нас научную проблему следующим образом: что представляют собой те художественные новации, которые были выработаны в пушкинской прозе, какова их эстетическая природа и историко-литературная функция, являются ли они совокупностью частных литературных приемов или свидетельством системных исканий писателя, могли ли они оказаться восприня-
тыми следующим поколением русских прозаиков и если да, то в какой форме и с какой художественной целью.
Если взглянуть на прозаическое новаторство Пушкина с точки зрения исторической поэтики, то он явит собой узловой момент перехода от эйдетической поэтики к поэтике художественной модальности, переключение с однонаправленности риторики на эстетику многозначности художественного высказывания.
Обобщив сказанное, можно увидеть, что традиция как часть историко-литературного развития может быть представлена в виде разноуровневого процесса: перехода от одной художественной эпохи к другой; смены исторически-конкретных художественных систем; взаимодействия творческих индивидуальностей; воздействия друг на друга конкретных литературных произведений.
Наиболее актуальными в работе признаются отношения третьего уровня, подчиняющие себе отношения уровня «текст-текст», а в перспективе тяготеющие к интерпретации процессов уровня «больших эпох» и литературных исторических стилей. В связи с этим в диссертации, имеющей в виду общую логику становления поэтики художественной модальности в русской прозе (на конкретном литературном материале), в известной мере элиминируются, например, проблема романного жанра и проблема формирования реализма как представляющиеся в данном случае более специальными.
Вследствие рассмотрения литературного процесса как ступенчатого процесса, в работе предпринято рассмотрение переходных явлений - постромантических и предреалистических.
В итоге традиция пушкинской прозы будет пониматься в данной работе, во-первых, как эволюционная система, которая даёт представление о пошаговом движении русской повествовательной словесности к «прозе романного типа» (прозе эпохи «художественной модальности» - не обязательно представленной собственно жанром романа), от пародийного осмысления романтического канона к предреалистическому остранению художественной формы; во-вторых, как целостная индивидуальная творческая система, представляющая «определённость» художественного видения вещей, самобытное осмысление и творческое воплощение универсума; в-третьих, как совокупность особых «механизмов» репрезентации и трансформации литературного материала, актуального для последующих поколений художников слова. В центре нашей работы будут находиться категории жанра, стиля, повествования, сюжета, персонажа, оказывающиеся в центре процесса перестройки художественного метода.
Избрание в данной работе в качестве наследников традиции пушкинской прозы трех крупнейших писателей «натуральной» школы, так же как и их первых крупных произведений, продиктовано как раз и кажущейся проблематичностью их отношения к данной традиции, и их местом в историческом становлении форм новой повествовательной прозы в русской литературе. Это решение представляется тем более оправданным, что центральные романы 1840-х гг. в течение последних десятилетий не вызывали пристального интереса у исследователей.
Приведенный материал свидетельствует о том, что важная историко-литературная задача изучения воздействия поэтики пушкинской прозы на дальнейшее развитие повествовательной словесности, и, конкретно, на романы середи-
ны 1840-х гг. не решена. Из этого прямо вытекает актуальность данного диссертационного исследования.
Объектом исследования выступают ключевые закономерности историко-литературного процесса 1830-1840-х гг., находящие свое выражение в конкретных формах связи пушкинской прозы и романов середины 1840-х гг.
Предметом исследования являются принципы трансформации жанровых форм, сюжета, повествовательных стратегий и типология литературного персонажа в прозе Пушкина и наследующих ей первых романах А.И. Герцена, Ф.М. Достоевского и И. А. Гончарова.
Материалом исследования стали законченные прозаические произведения А.С. Пушкина: «Повести покойного И.П. Белкина», «Пиковая дама» и «Капитанская дочка», романы Ф.М. Достоевского «Бедные люди», А.И. Герцена «Кто виноват?» и И. А. Гончарова «Обыкновенная история».
Рассмотрение материала исследования на основе конкретно-исторического метода обусловило выборочное привлечение и ряда других материалов художественной словесности 1830-1840-х гг.
Цель диссертационного исследования заключается в определении сущности феномена традиции пушкинской прозы как «механизма» трансформации литературного материала в художественном произведении и в выявлении основных аспектов восприятия и художественной модификации традиции пушкинской прозы в романах А.И. Герцена, И.А. Гончарова, Ф.М. Достоевского 1840-х гг.
Достижению этой цели служат следующие задачи исследования:
описать основные аспекты реформирования Пушкиным техники создания художественной прозы в области поэтики жанра, сюжетики, повествования и системы персонажей;
выявить значение прозаического наследия Пушкина для романов середины 1840-х гг. на фоне актуальных для того периода иных литературных традиций, эксплицировав векторы влияния последних и охарактеризовав принципы и формы их сосуществования в художественной практике А.И. Герцена, И.А, Гончарова, Ф.М. Достоевского;
определить характер влияния пушкинской традиции на романы середины 1840-х гг. в русле разработанных предшественником текстовых «механизмов»;
осмыслить особенности индивидуального восприятия и художественной адаптации поэтики прозы Пушкина А.И. Герценом, И.А. Гончаровым, Ф.М. Достоевским.
Теоретико-методологическое обоснование работы. Для осмысления историко-литературного процесса как целостного явления в рамках исторической поэтики оптимально использование вариативного и динамичного исследовательского инструментария, комплексного сочетания разнообразных методов и стратегий исследования, актуализируемых самим материалом. Непосредственно мы опираемся на работы в области исторической поэтики и историко-литературного процесса А.Н. Веселовского, Ю.Н. Тынянова, Е.Н. Куприяновой, С.Н. Бройтмана; на исследования генезиса и эволюции жанра романа Д.Е. Тамарченко, Н.Д. Тамар-ченко, В.Г. Одинокова, авторов коллективного исследования «История реалистического романа», «Развитие реализма в русской литературе» и др.
При имманентном исследовании произведений были востребованы методологические принципы таких исследователей жанра, стиля, сюжета и персонажа художественного произведения, как М.М. Бахтин, Л.Я. Гинзбург, М.М. Гиршман, Ж. Женетт, В.М. Жирмунский, Д.С. Лихачёв, Ю.М. Лотман, Ю.В. Манна, Е.М. Мелетинский, В.Г. Одиноков, X. Ортега-и-Гассет, Н.Д. Тамарченко, В.Н. Турбин, М. Яворник.
Основополагающим для нашего исследования стал структурно -функциональный метод и формально-эволюционный подход к тексту.
Гипотеза исследования состоит в том, что:
в прозе Пушкина формируются оригинальные «механизмы» трансформации литературного материала, послужившие сложению в русской литературе новаторских, «художественно-модальных» форм повествовательной прозы и собственно реалистического художественного метода, основывающиеся на принципиально новых техниках работы с жанрово-стилевой природой текста, сюжетосло-жением, повествованием и литературным персонажем;
на этапе перехода русской литературы к новой художественной парадигме оказываются востребованными не только принципы поэтики, связываемые историками литературы с именем Н.В. Гоголя, но и «механизмы» трансформации прозаического материала, разработанные А.С. Пушкиным, что нашло непосредственное отражение на структурном уровне в романах Ф.М. Достоевского «Бедные люди», А.И. Герцена «Кто виноват?» и И. А. Гончарова «Обыкновенная история»;
каждый из названных писателей 1840-х гг. индивидуально разрабатывал заимствованные у А.С. Пушкина принципы поэтики повествовательной прозы, создавая прецеденты для формирования позднейшего реалистического романа в русской литературе.
Научная новизна работы состоит:
в определении разработанной в прозе Пушкина системы механизмов трансформации литературного материала, нашедших системное выражение в полистилистическом повествовании, полижанровом принципе устройства художественной целостности, полифункциональном сюжете, нарушающем единство заданного событийного движения, и типе «не-героя» как особой разновидности персонажа;
в истолковании новаций, разработанных Пушкиным в области художественной прозы как системы качественно новых принципов построения художественного текста, способа преодоления жанрово-стилевого типа художественного мышления в пользу «объективации» литературой представлений об универсуме, получающего ключевое значение в рамках процесса перехода от эйдетической эпохи к эпохе художественной модальности и обусловливающего становление новой русской повествовательной словесности XIX века;
в доказательстве того, что первые романы И.А. Гончарова, А.И. Герцена и Ф.М. Достоевского последовательно основываются и прямо продолжают разработку тех художественных принципов, которые были разработаны в прозе А.С. Пушкина: отказа от жанрового канона, преодоления стилевой иерархии, диссоциации сюжета и персонажа;
в определении линий модификации художественных принципов, предложенных А.С. Пушкиным, у романистов 1840-х годов: применения их с целью соз-
дания внериторической «объективности» мира в романе «Обыкновенная история» И.А. Гончарова, переосмысления типа героя в романе «Кто виноват?» А.И. Герцена, создания психологического романа как личного повествования в «Бедных людях» Ф.М. Достоевского.
Теоретическая значимость исследования определяется дифференциацией бытующих в истории литературы представлений о литературной традиции и увязыванием их с системой категорий исторической поэтики; комплексно-функциональным способом интерпретации исследуемого материала как вариативного продуцирования литературного текста; уточнением базовых элементов и собственно «механизма» передачи поэтологического наследия; осмыслением конкретных стадий динамики перехода от канонической к художественно-модальной и, в частности, от романтической к реалистической поэтике; определением художественных принципов не с точки зрения стилевой или содержательной конвенции, а с точки зрения способа репрезентации действительности.
Практическая значимость достигнутых результатов исследования вытекает из возможности создания на основе данной работы аналогичных исследований в области историко-литературного процесса; кроме того, полученные результаты могут быть включены в учебные курсы средней и высшей школы.
Положения, выносимые на защиту:
в пушкинской прозе посредством пародийных и пародических механизмов происходит переосмысление традиционных жанровых моделей, создание по-листилистически организованного повествования, разработка типа сюжета «неудачи» и персонажа не-героического типа, благодаря чему писатель приобретает возможность конструировать репрезентативный художественный мир, отражающий сложную модель бытия и связей человека с ним, что свидетельствует о движении А.С. Пушкина к поэтике художественно-модального типа в его реалистическом варианте;
ни один из актуальных художественных подходов не отвечал формальным исканиям романистов середины 1840-х гг., работающих над созданием нового типа повествовательной прозы, каждая из них оказывала преимущественно идейно-тематическое влияние, но не предложила (за исключением характерологии и композиции) комплексной системы конструктивных принципов романной поэтики;
в рамках смены «больших эпох» в истории литературы на русской почве именно творчество А.С. Пушкина стало определяющим в развитии прозаического типа письма, ни социологизм и предметность детализации Н.В. Гоголя, ни психологизм прозы романтизма и М.Ю. Лермонтова (за исключением характерологии и композиции), не стали определяющими принципами при создании нового повествования в его конкретно-историческом варианте;
романы середины 1840-х гг., которые традиционно соотносились в литературоведении прежде всего с гоголевской традицией, на поэтологическом уровне обнаруживают свою зависимость от пушкинской прозы и активно осваивают разработанные предшественником принципы полижанровости, полистилистики, новые способы организации повествования, строящиеся на дистанцировании повествователя от мира героя, сложный нелинейный сюжет, «не-героя» как тип центрального персонажа;
преодолевая пародийность постромантических произведений А.С. Пушкина, каждый из рассмотренных в диссертации авторов романов 1840-х годов показывает индивидуальные подходы к формированию поэтики зарождающегося реализма, используя пушкинские «механизмы» трансформации текстовых структур в их пародической функции;
в романе «Обыкновенная история» И.А. Гончарова посредством принципа полижанровости выстраивается амбивалентный по своей природе художественный мир, эксплицирующий дисгармоничность связи персонажа и бытия, которая компенсируется лишь на уровне повествователя, выявляющего относительность всех его (персонажа) устремлений;
А.И. Герцен в романе «Кто виноват?», используя пушкинские механизмы трансформации литературного материала, не только исключает сам факт присутствия «героического» в романе, дезавуировав претензию персонажа на роль «резонёра», но подвергает сомнению художественный дискурс как симуляцию действительности;
в «Бедных людях» Ф.М. Достоевский прибегает к разработанной Пушкиным сложной нарративной структуре и дискурсивному диалогу с целью вскрытия иллюзорного устройства внутреннего мира самого «не-героя» как мира словесных иллюзий, бегства от действительности и собственной ответственности и, тем самым, разрабатывает сюжет «неудачи» как «самоослепления», используя полистилистический принцип для задач социопсихологического анализа.
Апробация работы. Результаты исследования представлены в 13-ти публикациях. Основные положения работы прошли апробацию в ходе конференций «Чтения Ушинского», «Ярославский край. Наше общество в третьем тысячелетии», Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов», «Герценовских чтениях», Михайловских Пушкинских чтениях, «Актуальные проблемы филологии» и др. Материалы диссертации были опубликованы в Ярославском педагогическом вестнике, сборниках научных статей Рубцовского института, студенческого научного общества ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. Результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры русской литературы ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. Одна из статей опубликована в «Вестнике Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова», рекомендованном ВАК РФ.
Структура работы состоит из введения, трёх глав, заключения и библиографии, включающей 279 источников.
Проблема художественной целостности произведения в прозе А.С. Пушкина
В «Повестях Белкина» поэт решает проблему преодоления диктата жанра и создания единства художественного мира с помощью пародийно-выворачивающих (в понимании Д.С. Лихачёва) средств, что отмечали почти все исследователи.
Начиная с пародийной установки на создание романтической прозы в предисловии от издателя А.П., А.С. Пушкин предлагает читателю различные варианты пародий на известные им жанры. Так повесть «Выстрел» становится бретёрской повестью, герой которой — «не сделанный выстрел по человеку» [252; 153]; «Метель» разрушает сюжет «романтической свадьбы с похищением», переворачивая любовную повесть и ставя на место романтического героя (Владимира), не менее романтического трикстера (Бурмина); «Гробовщик» - фантастическая повесть, оборачивающаяся пересказом пьяного сна, заканчивающаяся «ничем», по меткому замечанию Б.М. Эйхенбаума; «Станционный смотритель», которого долгое время читали как повесть с социальной проблематикой, на поверку — насмешка над сентиментальной повестью, о неравной любви, впрочем, завершающаяся назидательной историей о вреде пьянства; «Барышня-крестьянка» занимает особое место в истории литературы и культуры, до сих пор прочитывающаяся как собственно сентиментальная повесть, о чём говорят театральные и кинопостановки, она последовательно и тщательно разрушает все сентименталистские построения, обнажая их наивность и бессилие в попытке адекватно отразить жизнь и человека, которые врываются в пушкинские повести.
Последнее объясняет, почему некоторые исследователи находили в пародии на цикл повестей по-настоящему эпическое содержание. Н.Я. Берковский так и называет повести: «...реальный эпос народной России...» [37; 355], который при пристальном внимании обращается в «тосканскую новеллу» [252; 64] Нового времени. П. Подковыркин полагает цикл повестей как подступ к роману, который А.С. Пушкин так и не написал. В.Е. Хализев и СВ. Шешунова говорят, что повести Белкина — это «веское и серьёзное слово Пушкина о современной ему русской жизни, об её ценностях и противоречиях» [233; 6]. В.Ш. Кривонос полагает, что «Белкину не надо было ничего «сочинять», потому что сама действительность уже «придумала» эти истории» [118; 16] В итоге пародия перерастает в «правду», изменяется конструктивный принцип целостности художественного текста: смех становится средством объективации действительности — «объективным юмором» [181; 321]. Разбивая жанровую предопределённость, писатель, избегает формульности характеров и разрушает горизонты ожидания читателя, которому приходится перестраиваться в ходе чтения или принять их за «побасенки». Собственно пародийность теряет функцию комизма и обращается в серьезно-пародический способ репрезентации действительности. Определённо, что в «Повестях И.П. Белкина» писатель находит способ совмещения в одном произведении различных жанровых форм (вместо целостного романного сюжета, он использует популярный в то время «цикл повестей»), что делает художественный мир разнообразным и более гибким. Остраняя жанровые формы, Пушкин преодолевает и сюжетоцентризм, и нравоучительность, и односторонность дидактической сентиментальной повести (упомянуть хотя бы «Колина и Лизу» неизвестного автора и прочие, последовавшие за ней); серьёзность, мистику и абсолютизацию героя романтической повести (а этот жанр будет популярен вплоть до 50-х гг., представленный в творчестве А.А. Бестужева-Марлинского, А. Погорельского, О.М. Сомова, А.Ф. Вельтмана). Полижанровая природа новеллы «Пиковая дама»: преодоление одномодальности Преодоление жанровой модели продолжается в «Пиковой даме», произведении, которое до сих пор характеризуется историками литературы как проблемное. Его исследователи уже останавливали своё внимание на особенностях жанровой структуры. Так, В. Шмид [251] объясняет сложность прочтения новеллы пересечением в её тексте нескольких дискурсов, которые, функционируя в тексте, составляют сложную референциальную систему. Опираясь на наличие волшебных мотивов в новелле, Н.Н. Петрунина [168] и П.Ф. Подковыркин [172] рассматривают её как сказку с «обратным знаком», в которой сказочная структура повторяется с точностью до наоборот (герой — баба-яга - помощь дочерей — свадьба (по Н.Н. Петруниной)), с полным отсутствием положительного сказочного персонажа. А.Н. Архангельский видит в каждом эпизоде повести «флёр иронии и двусмысленности» [17; 158], а П. Дебрецени пишет, что повесть «прежде всего пародия на ставшего литературным клише героя» [85; 200].
Кроме отмеченных жанров в текст повести вплетены различные жанровые формы, аллюзивно присутствующие в тексте и составляющие его смысловое ядро, о чём говорил В. Шмид [251]. Так, исследователь говорит о присутствии в жанровой структуре повести романа ужасов, эротического романа, сентиментального романа, эпистолярного жанра, авантюрного романа, анекдота, реалистического романа, волшебной сказки. Но ни один жанр не становится основополагающим, текст «Пиковой дамы» строится на «обломках» жанровой системы: в её сюжете могут быть найдены и «ужасные» явления призраков, и любовная история, не лишённая эротических подробностей, письма, авантюра. Особенность пушкинского «механизма» трансформации жанра заключается в сталкивании разноприродных элементов, что в результате приводит к неоднозначности литературного поля, ведущей к высокому семантическому потенциалу любого события или сообщения, к специальному рассмотрению этого вопроса мы обратимся в 2.
Повествовательная структура и стиль прозы поэта: движение к полистилистике
В «Повестях покойного И.ГТ. Белкина», используя сложную нарративную структуру, А.С. Пушкин добивается эпического звучания, которое принадлежит всем и никому. История превращается в истории из эпиграфа, взятого у Фонвизина, а написанная картина представляет почти всю читающую и пишущую Россию [40, 60, 85]. В последнее время исследователи склоняются к тому, что дополнительные повествователи необходимы в повестях не как непосредственные рассказчики, а как характеристики различных слоев, которым писатель даёт голос в своём произведении [221, 252]. Но если различные точки зрения и стилевые манеры в «Повестях Белкина» представлены отдельно друг от друга, то в «Пиковой даме» они становятся повествовательным единством, сочетающим в себе различные повествовательные манеры, помогающие создать художественное единство.
Сложная жанровая структура «Пиковой дамы», которая совмещает в себе различные жанровые образования и предполагает целый ряд контекстуальных значений каждого из элементов текста, требовала особого способа подачи материала, позволяющего сохранить единство этой сложной конструкции.
Кроме тех дискурсов, которые разрабатывал В. Шмид [251] (а именно: дискурс карточной игры, эротический, фантастический и др.), можно отметить присутствие в тексте карнавального дискурса, который свойствен и для предыдущего произведения, что убедительно доказал В.И. Тюпа [221]. Карнавальность, как отмечал М.М. Бахтин [23], является характерной для пушкинских текстов. В «Пиковой даме» она играет первостепенную роль, так как все ранее выделенные исследователями дискурсы размещены в системе ценностей карнавала. В. Шмид, говоря об эпиграфах к главам новеллы, оставляет за ними традиционную функцию, которая состоит «в предвосхищении чего-то существенного для следующего за ними рассказа» [251; 117]. В то же время при анализе соотношения эпиграфа и следующего за ним текста можно заметить, что «зияние смысла», которое они создают, является основополагающим элементом повествования в новелле (на это обращалось внимание в предыдущем параграфе). Карнавальная амбивалентность, создаваемая эпиграфами, поддерживается на сюжетном уровне в сценах пира после игры, убийства старухи и пр.
Текст обращается в игру, бриколаж, элементами которого выступают повествовательные манеры, всё время переходящие одна в другую. Например, встреча с графиней происходит под знаком карнавальной игры, внесённой Германном в упорядоченное пространство старухи, здесь реализуется первый вариант функции Германна в тексте, отмеченный Ю.М. Лотманом [131]. Если прибегнуть к мифопоэтическому анализу, а его, безусловно, требует новелла, строящаяся на пересечение различных дискурсов, среди которых существен «мифологический», можно выстроить тот контекст, в который себя помещает сам персонаж, гонящийся за тайной.
Полумрак, характеризующий начало инициационного пространства, отсылает к полумраку храма, сакрального пространства: «...комната опять осветилась одною лампадою» [11; 203]. Но сама старуха профанирует подвиг героя-добытчика, говоря о тайне, то есть о своём могуществе, как об анекдоте («это была шутка»). Складывающийся в тексте «культ» старой графини можно рассматривать как профанацию священного, что является одним из признаков карнавала, а функции, взятые на себя персонажами, — карнавальные маски. Это отвечает замечанию В.В. Виноградова [57] о двойственности образа графини, который совмещает в себе противоположные характеристики: романтику и мертвенность, быт и двор.
На протяжении всего рассказа смешиваются таинственные и пародийные мотивы, помещая читателя в бивалентную сферу, противореча любому ожиданию. Художественный мир «Пиковой дамы», строящийся на разностилевых элементах, маневрирует между смеховым и серьёзным, не допуская одновалентности каждого из элементов. «Объективность», приписываемая Пушкину, и, судя по его поэтическому наследию, вполне отвечающая мировоззрению поэта, получает адекватные механизмы для своего воплощения в прозе. Новелла демонстрирует это, показывая, насколько поэт уходит от своей «монологической» эпохи, основной её принцип сводится к тому, чтобы не позволять читателю окончательно остановится на выборе конвенции.
Соединяет различные манеры, социальные стили, разножанровые элементы - голос повествователя, который, как отмечали Н.К. Гей [162] и Н.Н. Петрунина [169], свободно перемещается из одной сферы в другую, от романтического Германна к светскому Томскому или сентиментальной Лизе.
Вследствие этого повествователь становится более свободным по отношению к художественному миру, проникая в него, он способен свободно конструировать сложный мир, не опираясь на избранную стилистическую модель (как это было в «Арапе Петра Великого»), включать в текст различные дискурсивные практики (как это было в «Повестях Белкина), в то же время добиваясь повествовательной целостности (что ещё не было достигнуто в «Арапе Петра Великого»).
Место пушкинского наследия в истории развития русского романа 1840-х гг
«Вторым поколением русских "реалистов"» называет авторов романов 1840-х гг. Н.Н. Пайков: «Это те писатели, кто навыки литературного мышления и письма осваивал в романтическую эпоху» [166; 69]. Констатируя наличие романтической «школы» в ранних произведениях каждого из этих писателей, трудно отрицать тот факт, что романтизм внёс значительную лепту в процесс становления их «реалистического» письма.
Но стоит также отметить, что собственно поэтологические «механизмы» создания произведения романтиками остаются традиционными: линейный сюжет, героическая концепция персонажа, повествовательная манера, сохранившая одноголосую ситуацию рассказывания, дидактическая концепция, поверхностный психологизм (исключением может служить лишь Лермонтов, творчество которого имеет переходный характер).
Романтизм двигается по пути расширения литературного поля, вводя в художественное творчество язык общества, реабилитируя прозу, обращаясь к описанию реалий, но каждого из этих элементов было недостаточно для создания романа.
История и быт в романтическом произведении всё ещё оставались собственно семиотическими элементами, которые не имели самостоятельного значения.
Как отмечет Е.Н. Купреянова: «Романтическая страсть наполнена конкретным историческим и в принципе индивидуальным содержанием» [107; 9], - при этом конкретное в данном контексте стоит понимать не столько как конкретно-историческое, но сколько как конкретно-бытовое, «реалистичное», в смысле воспроизведения «летописных» подробностей [202], индивидуальное - как определённую направленность на раскрытие внутренних конфликтов, которые ещё не являются собственно психологическими.
Быт в романтической повести играл роль декора, придания правдоподобия повествования (М.П.Погодин «Чёрная немочь», Е.П. Ростопчина «Поединок», замковые повести А.А. Бестужева-Марлинского, волшебные повести А. Погорельского, хотя последний и уделял много внимания описанию обстановки, в которой живут его герои). Вторая его функция — экзотичность. Романтизм, отталкивающийся от быта, сделал из него сферу неизведанного, «чужого», что привлекало внимание: в итоге уже в начале 1830-х гг. появляется жанр очерка (В.И. Даль, А.А. Бестужев-Марлинский, М.Ю. Лермонтов). Но выхваченные отдельные реалии не создают целостной картины мира, которая бы включала в себя бытовую сферу, как концептуально значимое художественное пространство (примером может служить недописанная повесть М.Ю. Лермонтова «Княгиня Литовская», в которую включаются элементы «натуралистического стиля»: герой-чиновник и чиновник-тип (глава II), очерковые зарисовки «петербургских углов» (глава VII), урбанистический пейзаж (экспозиция первой главы) и пр.). Сам факт социального анализа был еще невозможен в романтизме, так как отрицалось содержательная наполненность социально-бытовой сферы [31, 187].
Мир, рисуемый романтиками, остаётся метафизическим, концепция мироздания — отвлечённо-идеалистичной, что привлекло внимание к психологии -человека, которая должна была приоткрыть тайну его существования. Но «героическая» концепция личности не позволило писателям-романтикам преодолеть ограниченности литературного персонажа, остававшегося «исключительным», а поэтому противоречащим повседневному жизненному опыту.
Поэтика социального в творчестве Н.В. Гоголя Натуральная школа, в лоне которой возникли первые русские романы реалистической направленности, позиционировала себя как преемницу гоголевских традиций. Действительно, в творчестве Н.В. Гоголя развиваются существенные элементы реалистической поэтики, важнейшим из которых стало открытие социальной жизни как основы репрезентации действительности в художественном произведении.
Критически воспринимая отвлечённый романтический идеализм, Н.В. Гоголь впервые в русской литературе показал зависимость человеческой жизни от социума, развивая темы безумия, абсурдности быта и бытия, отвергнутого человека, которые были известны романтикам. В то же время Н.В. Гоголь разрушает романтическую иерархию, отвергает романтический тип сознания, наполняя романтические образы новым содержанием. В этом ему помогает техника, используемая А.С. Пушкиным, как отмечает В.М. Маркович, «...каждый из гоголевских сюжетов — это симбиоз двух популярнейших жанров фольклора - анекдота и легенды» [148; 40]. Романтическая проза размыла жанровые границы, вплотную подойдя к роману, А.С. Пушкин пользовался жанрами, как конструктами для создания метажанра. М.Ю. Лермонтов использует разные типы романтических повестей для создания романа, не разрушая их структуру. Н.В. Гоголь переосмысляет семантический ореол жанра. Переплавляя высокое и низкое, писатель добивается снятия романтического двоемирия. Но в отличие от А.С. Пушкина, Н.В. Гоголь идёт по пути морализации действительности: каждое явление в его произведениях становится фактом этическим. В этом плане Гоголь - явление противоположное Пушкину, поиски которого были направлены на поиск объективной точки зрения на события, «самостоятельности» героя. В мире Гоголя властвует повествователь, без которого ни одна история невозможна. В.Н. Турбин очень точно сравнивает писателя с «царём». Соединив «сочинение профессионального писателя... и живое говорение» [148; 44-45], он добивается лёгкости в сочетании разнородного материала, но вследствие абсолютизации этический целей, он теряет способность «реалистической» репрезентации действительности, находясь на позициях романтического отстранения от быта.
Акцент на повествователе также мешает Н.В. Гоголю разработать единый сюжет, который при всей своей синтетичности и сложности оказывается дискретным. Кажется вполне логичным, что сюжет последнего произведения писателя — сюжет не событийный (этот план выстраивается за счёт традиционного сюжета-путешествия), а метафизический (путь души).
Пушкинские принципы сюжетосложения и сюжетоостранение в романах середины 1840-х гг
В «Обыкновенной истории» И.А. Гончаров пошёл по пути трансформации традиционного сюжета романа воспитания, который теряет свою линейную направленность (взросление героя). Характерно, что в начале романа появляется мотив «кривой дорожки», о котором говорилось в связи с сюжетом Германна из «Пиковой дамы»: «Перед ним расстилалось множество путей, и один казался лучше другого. Он не знал, на который броситься. Скрывался от глаз только прямой путь; заметь он его, так тогда, может быть, и не поехал бы» [5; 12]. Если в пушкинском произведении этот мотив имеет архетипический характер, то у Гончарова — символический: эта дорога становления, запутанный путь взросления, который пролегает через дискурсивную сеть романа, в которой суждено запутаться персонажу. Но и в том, и в другом случае, эта формулировка вполне точно определяет особенность сюжета.
Сюжетная схема «Обыкновенной истории» повторяет схемы пушкинских произведений, которые строятся на «спорадической» смене персонажем пути инициации, что является основой полифункциональности, основным принципом сюжетоостранения. Первоначальные цели «инициируемого» персонажа заявлены вполне определённо: «колоссальная страсть, которая не знает никаких преград и свершает громкие подвиги» [5; 11], сохранение первой любви: «нет, маменька, я ее никогда не забуду!» [5; 16], дружбы, совмещённых с «восторженной думой» о покорении Петербурга. Но первое же столкновение с «антагонистом» меняет цели: «с самого начала жить одному, без няньки... надо уметь и чувствовать и думать, словом, жить одному» [5; 37, 42]. Сюжет воспитательного романа остраняется, теряет идеалистический контекст, писатель заменяет «прямой путь» взросления персонажа на «искания» правды жизни. Самостоятельность связывается в первую очередь с «карьерой и фортуной», как говорит Пётр Иваныч, что, казалось бы, вполне соответствует исканиям Александра, но, главное — это рациональность, отказ от романтических идеалов, что на первых порах принимается провинциалом, который не подозревает о кроющимся за этим отказе от своего «Я», «натуры» [5; 42]: «Я постараюсь, дядюшка, приноровиться к современным понятиям» [5; 45]. Следует отметить, что вместе с новыми понятиями в Александре рождается стыд за всё, что ему было дорого. В отличие от романов воспитания персонаж обыкновенной истории, рассказанной И.А. Гончаровым, не развивается, а ломается, подчиняясь тем обстоятельствам, в которые попадает, стыдясь своей принадлежности к нестоличному миру.
Пройдя сюжет становления петербуржца: «Юноша превратился в мужчину. В глазах блистали самоуверенность и отвага ... Она узнается по стремлению к добру, к успеху, по желанию уничтожить заграждающие их препятствия...» [5; 68-69], - Александр добивается главной цели. «Кривизна» романного сюжета движется по линии нарушения гармонии (основа сюжетостроения «Пиковой дамы»), постоянно отодвигая инициацию. Так возникает первая любовная история.
«Две идеи» не могут сосуществовать в нравственной природе Александра, как и пушкинский Германн, он находится на пересечении нескольких сюжетов, что приводит к тому же результату — «неудаче». Во-первых, карьерной: «его уже обошли местом», «герой, поэт и влюблённый» превращается в сумасшедшего». Солипсизм персонажа ведёт к конфликту с внешним миром (пушкинский сюжет развенчания), который не может быть подчинён законам, навязываемым ему старшим Адуевым (ср. Владимир из «Метели»). Во-вторых, любовной: первый же соперник выводит Александра из равновесия. Отвергая «стратегию любви» [5; 117], он теряет возлюбленную и пространство «блаженства»: «не обращала уже внимания на Александра», «походил на петуха с мокрым хвостом, прячущегося от непогоды под навес» [5; 115, 116 и т.д.]. Характерно, что после притворной болезни, Александр пробирается в дом Наденьки тайком: «Александр вошел в переднюю со двора» [5; 116], единственное чувство, которое он вызывает у возлюбленной, это страх [5; 119, 120, 132].
За неудачей следует возвращение на исходные позиции, путь пройденный Александром оказывается замкнутым: «Жить полтора года такою полною жизнию и вдруг - нет ничего! пустота...» [5; 156]. Три с половиной года в Петербурге Адуев прожил зря, правота дяди подтверждается: его племянник другой, и следовало оставаться ему в деревне.
Характерно, что на этом крахе романтической личности писатель натуральной школы останавливается [146], но обыкновенная история у Гончарова продолжается. Совмещая линейный сюжет романа воспитания с пушкинским сюжетом, разрешающимся «в ничто», романист предлагает новый сюжет, но в отличие от А.С. Пушкина, использующего разные сюжетные линии, в «Обыкновенной истории» повторяется предыдущий, подчёркивающий обыкновенность и будничность происходящего, возникает эффект пародийности, который имплицирует приём сюжетоостранения.
Экзальтированная пара, Александр и Юлия, «обречены на успех», но «фальшивый взгляд на жизнь» делает невозможным сочетание «колоссальной страсти» и «обыденной» жизни: племяннику суждено познать правду дяди на собственном опыте. Жизнь Адуева превращается в иллюстрацию философии Петра Ивановича, и персонаж вновь погружается в пустоту: «Человек, обманутый во всем. — Нет, как человек, который обманывал сам себя да хотел обмануть и других...» [5; 194].