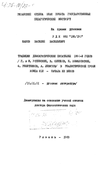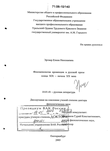Содержание к диссертации
Введение
Часть 1. Достоевский: между прошлым и будущим русской культуры .
Глава 1. «Помечтал да и сделал» («Идеи», «идеологии» и «как бы идеи» в романном творчестве Ф.М. Достоевского). 22-47
Глава 2. Роль «усадебной культуры» в формировании феномена русской классической литературы XIX века . 48-62
Глава 3. Исихазм и хилиазм: антропологическая концепция и тип апокалипсического сознания в творчестве Ф.М. Достоевского и в литературе Серебряного века. 63-90
Глава 4. «Смирись, гордый человек» (Проблема целостности и раздвоенности человеческой личности в свете христианской антропологии А.С. Пушкина и Ф.М. Достоевского). 91-110
Глава 5. «Мир станет красота Христова» (Софийный идеал в романе Ф.М. Достоевского «Бесы»). 111-144
Часть 2. Проза Серебряного века: по направлению к Достоевскому?
Глава 1. Роман Серебряного века в зеркале поэтики «идеологического романа» Ф.М. Достоевского (Д.С. Мережковский, Ф.К. Сологуб, А. Белый, З.Н. Гиппиус, Г.И. Чулков, Л.Н. Андреев, A.M. Ремизов, A.M. Горький).
145-224 Глава 2. Интеллигенция и народ в «идеологическом романе» Ф.М. Достоевского и в романе Д.С. Мережковского «Антихрист. Петр и Алексей».
225-242 Глава 3. Повесть A.M. Горького «Исповедь» в жанровых координатах «идеологического романа» Ф.М. Достоевского. 243-259
Глава 4. Спасение мира и человека в художественном сознании Ф.М. Достоевского и A.M. Ремизова («Пруд»). 260-272
Глава 5. «Кровь по совести» или «кровь для совести»? (Трансформация персонажной «идеологии» Ф.М. Достоевского в романе Л.Н. Андреева» «Сашка Жегулев»).
273-290
Глава 6. Осмысление революции в «идеологическом романе» Ф.М. Достоевского и в романной дилогии З.Н. Гиппиус («Чертова кукла» и «Роман-царевич»).
291-309 Глава 7. Карамазовы и Беспятовы, а также «право на бесчестье» в романном мире Ф.М. Достоевского («Братья Карамазовы», «Бесы») и Г.И. Чулкова («Сатана», «Метель»). 310-325
Заключение. Основные итоги исследования. 326-330
Приложение. История вопроса: обзор литературы. 331-363
Библиография 364-432
- «Помечтал да и сделал» («Идеи», «идеологии» и «как бы идеи» в романном творчестве Ф.М. Достоевского).
- Роль «усадебной культуры» в формировании феномена русской классической литературы XIX века
- Роман Серебряного века в зеркале поэтики «идеологического романа» Ф.М. Достоевского (Д.С. Мережковский, Ф.К. Сологуб, А. Белый, З.Н. Гиппиус, Г.И. Чулков, Л.Н. Андреев, A.M. Ремизов, A.M. Горький).
- Глава 2. Интеллигенция и народ в «идеологическом романе» Ф.М. Достоевского и в романе Д.С. Мережковского «Антихрист. Петр и Алексей».
Введение к работе
Эпоха рубежа XIX-XX веков названа «вторым открытием Достоевского» . Действительно, в отличие от современников великого писателя, культурным деятелям Серебряного века стало ясно, что Достоевский во многом опережал свое время и что «некие существенные черты его видения мира и его художественные открытия могло оценить по достоинству лишь новое столетие» . «Русское общество вступает в наследство, от которого так долго отказывалось», - констатировал в 1906 году С.Н. Булгаков . Как же распорядился Серебряный век «наследством» Достоевского, что взял из него как наиболее ценное, от чего отказался, мимо чего прошел не заметив? Обо всем этом и пойдет речь в диссертации.
Предпринимаемое здесь исследование (о традиции «идеологического романа» Ф.М. Достоевского в русской прозе рубежа XIX-XX веков) можно отнести к сфере исторической поэтики — науки, находящейся «на скрещении истории и теории литературы», чей предмет - «судьба художественных компонентов (жанров, сюжетов, стилистических изобразительных средств... и т.д.)»4. В ней, по мысли авторов известной работы «Категории поэтики в смене литературных эпох»5, выделяется два основных подхода: генетический и типологический. Последний, актуальный для нас, предполагает «исследование исторических типов поэтики, сопряженной со сменой эпох и направлений в литературе, исследование изменений представления о литературе и самого содержания понятия "поэтика"». Ведь именно «художественное сознание, в котором всякий раз отражены историческое содержание той или иной эпохи, ее идеологические потребности и представления, отношение литературы к действительности, определяет, совокупность принципов литературного творчества»; «иначе говоря, художественное сознание эпохи претворяется в ее поэтике»6.
Временные рамки нашего исследования располагаются внутри того типа художественного сознания, который в названной выше статье определен как «"индивидуально-творческий, или исторический" (т.е. опирающийся на принцип историзма)» и начало которого отнесено к концу ХУШ века. Таким образом, и русская классическая литература (к которой в целом принадлежит творчество Ф.М. Достоевского), и литература Серебряного века имеют некие общие «константные черты», другими словами - некий «базовый консенсус», на фундаменте которого возможен сопоставительный анализ. Помимо этого, как разные стадии эволюции «индивидуально-творческого сознания», они имеют и существенные различия.
Традиционного выделения трех стадий в истории поэтики придерживается и С.Н. Бройтман, говоря о последовательно сменяющих друг друга «поэтике эпохи синкретизма» (архаической), «эйдетической (традиционалистской) поэтике» и поэтике «художественной модальности» (индивидуально-творческой, исторической). По этой классификации, интересующие нас художественные явления относятся к разным стадиям «поэтики художественной модальности»: классической (конец XVIII в. - 1880-е годы) и неклассической (1890-е годы - XX в.).
Анализ общих и специфических для русской классической литературы и неклассической литературы Серебряного века черт «идеологического романа», созданного Достоевским, и составляет предмет нашей книги.
С самого начала следует отметить, что центральной категорией поэтики в «индивидуально-творческом» типе художественного сознания становится «автор», а не «стиль» и «жанр», как это было в предыдущих типах
художественного сознания: «архаическом» (мифопоэтическом) и «традиционалистском» (нормативном). В «индивидуально-творческом» типе художественного сознания «традиционная система жанров была разрушена и на первое место выдвигается роман, своего рода "антижанр", упраздняющий привычные жанровые требования. Понятие стиля переосмысляется: оно перестает быть нормативным и делается индивидуальным»; «поэтику... вытесняет эстетика ... : дабы извлечь общие константы поэтики [необходимо] обратиться к эстетике эпохи и обусловленному ею творческому опыту писателей»9. К тому же выводу относительно «поэтики художественной модальности» приходит и С.Н. Бройтман: «Прежде всего жанр уступает место ведущей категории поэтики - автору курсив С.Н. Бройтмана- О.Б. ... Жанровое же самоопределение художественного создания для автора теперь становится не исходной точкой (как в эйдетической поэтике - О.Б.), а итогом творческого акта. ..»ю Таким образом, ведущее положение категории «автора» мы можем считать тем «базовым консенсусом», который необходим для сопоставительного анализа поэтики романа Достоевского и прозы Серебряного века. Поэтому ключом к исследованию динамики жанра становятся для нас, с одной стороны, авторское художественное сознание, с другой — «субъектная организация»11 произведений.
Два основных направления в русской литературе XIX века: романтизм и реализм, - согласно утверждая ведущую роль автора в произведении, тем не менее по-разному понимают авторские функции. Романтический автор открыто, эксплицитно определяет мир произведения, подчиняя предметную действительность своей субъективности. Так, анализируя соотношение автора и персонажа в русской романтической прозе и драме 1820-1830-х годов, Ю.В. Манн констатирует: «Во многих произведениях автор обнаруживает себя не только как лицо, солидаризирующееся с центральным персонажем (что находит выражение в многочисленных авторских обращениях к нему - предостережении, сочувствии, возмущении и т.д.), но и как переживший или переживающий нечто аналогичное»12. Реалистический же автор как бы отодвигается на второй план перед объективной . действительностью, позволяя ей говорить собственными «голосами». «Ситуация, когда произведение складывается как полифония голосов -видимо, общий случай для реалистической литературы XIX века (начиная с "Повестей Белкина" Пушкина), и полифония в романах Достоевского — лишь частный случай этой общей ситуации» . Если принять во внимание, что русская классическая литература (в том числе, в основе своей, и творчество Достоевского) в целом реалистическая, а литература Серебряного века тяготеет к принципам романтизма, то вышеобозначенное различие приобретает серьезную методологическую ценность для будущего сравнительного анализа.
Как представитель русского классического реализма XIX века, Достоевский воплощал в своих романах его общую черту -противопоставление «разноречию социальной современности» «слова, воплощающего устойчивую, неизменную и притом единую для всех правду -некоего "общего" слова»14. «У Достоевского, - продолжает Н.Д. Тамарченко, - основной идеологический конфликт выражен в противопоставлении "нового" личного слова безличному архаическому слову народной правды. Таково соотношение "мрачного катехизиса" Раскольникова (т.е. его исповеди Соне) и готового евангельского слова как выражения правды Сони»15. Опираясь на концепцию двух основных исторических типов «идеологического слова», выдвинутую еще М.М. Бахтиным («авторитарное», слово «отцов», слово «по преданию» и «внутренне убедительное», «современное слово, рожденное в зоне контакта с незавершенной
современностью» ), исследователь утверждает: «Реалистический роман сочетает "галилеевское языковое сознание" нового времени с архаизирующими тенденциями. Расцвет художественного диалога сопровождается в нем реставрацией архаических форм авторитарного, т.е. монологического слова»1 . Здесь «художественный диалог», как правило, происходит между персонажами; «монологическое» же слово принадлежит автору.
Таким образом, структурное различие между писателями-реалистами в классической литературе можно установить по способу сочетания в их произведениях «идейности» персонажной и авторской. С этой точки зрения, своеобразие Достоевского заключается в изображении «большого диалога» героев-носителей тех или иных «идей», в который на равных правах вливается рассказчик или повествователь-носитель близкой автору «идеи». Так, по Бахтину, создается собственно полифоническая структура романа Достоевского18. .
Однако, на наш взгляд, «идейность» «первичного автора», занимающего «нежизненно активную позицию»19 за пределами романного действия, растворяется у Достоевского в сверхличном целом русского национально-религиозного «предания»20 с его полуязычески-полухристианским культом земли, семьи, общины, с его многомерным мироощущением, несводимым к рациональным проекциям, с его живым чувством Божественного присутствия. Последнее, по нашему мнению, и есть источник «положительных» «идей» персонажей и рассказчиков у Достоевского (например, «почвеннического» комплекса в «Преступлении и наказании», «иночества в миру» в «Братьях Карамазовых»), но никогда не исчерпывается ими. Более того, его ощутимое присутствие в авторском поле произведения позволяет увидеть относительность даже «правильной» на данный исторический момент «идеи», ее принципиальную ограниченность именно как «идеи», т.е. продукта «горделивого», но несовершенного человеческого ума, пусть даже и стремящегося к Богу.
В Серебряном веке, по мысли С.Н. Бройтмана, происходит, в рамках поэтики художественной модальности, возврат к ряду других черт архаического (мифопоэтического) художественного сознания, в частности к «изначально нерасчленимой интерсубъектной целостности» «я» и «другого»21, а также постепенно «преодолевается классическое представление об авторе как о самотождественном субъекте» и утверждается понимание автора «как "неопределенного" и вероятностно-множественного субъекта, который не предшествует повествованию, а порождается им»22, что влечет за собой изменения как в типе авторского и персонажного «идеологического слова», так и в «субъектной организации» прозаических произведений в целом, по сравнению с классическим реализмом XIX века.
Выделяя, вслед за Г.С. Померанцем , т.н. «надыдейный», или «надыдеологический», авторский план в «пяти великих романах» Достоевского, мы связываем его существование с погруженностью автора в духовно-душевную атмосферу русского национально-религиозного «предания», включающего в себя как языческие (по сути дела, мифологические), так и православно-христианские (собственно религиозные) элементы. Языческие элементы «предания», вошедшие в авторский менталитет русской классической литературы благодаря т.н. «усадебной культуре»24, играли определенную роль и в мировоззрении Достоевского, воплощаясь в концептах «Матери-сырой земли», «стихийной страстности», географических представлениях об аде и рае, архетипах «дома», «семьи», «народа-общины» и т.д.. Православно-христианская основа «предания» была воспринята русской классикой не только из опыта дворянско-крестьянского земледельческого симбиоза в рамках «усадебной культуры», но и из непосредственного обращения ряда ее авторов, и прежде всего самого Достоевского, к традициям Русской православной церкви, актуальным для крестьянства в течение всего XVIII и почти всего XIX веков, несмотря на отпадение от них «европеизированного» «образованного сословия». При существовавшем в «петербургский период» русской истории религиозно-нравственном и культурно-психологическом разрыве между «народом» и «образованным сословием»25 и при той ситуации, когда литературные произведения создавались, в основном, людьми из «образованного сословия», русское национально-религиозное «предание», носителем которого был «народ», могло, на наш взгляд, стать достоянием «образованного сословия» и благодаря этому войти в литературу, двумя способами: 1) через «усадебную культуру»; 2) через Православную церковь, - так как именно в этих «зонах» возникало определенное социокультурное единство двух частей нации.
В церкви. В этом аспекте уникальность роли Достоевского в русской литературе видится нам в том, что он единственный16 из больших русских писателей увидел и признательно воплотил в крупных художественных произведениях (прежде всего в романе «Братья Карамазовы») культурные потенции и антропологический идеал иснхазма — древней духовной традиции византийского и русского православия, ушедшей в подпочву русской церковной жизни в результате вытеснения иосифлянством и идеей «симфонии» Священства и Царства (т.е. «освящения», сакрализации мирской власти) в XVI веке27, но в XIX веке постепенно возрождавшейся в России, прежде всего в Оптиной пустыни. Думается, не случайно именно в указанные десятилетия происходит переход Достоевского от ориентации на языческо-христианское «предание» в целом (которое передавалось дворянству крестьянством в «усадебной культуре») к опоре на преимущественно христианскую основу «предания» (как она была представлена в той части русского народа, которая ориентировалась на исихастский идеал «обоженая»).
Понятно, что структурные особенности «идеологического романа» Достоевского, обусловленные его уникальной авторской позицией, должны существенно отличаться от поэтики произведений как современных ему писателей, так и прозаиков Серебряного века. Возможно, здесь кроется разгадка того парадокса, что созданный Достоевским романный «полифонизм» не получил сколько-нибудь заметного продолжения в русской литературе ни в XIX, ни в XX веках (за исключением творчества А.И. Солженицына, писателя, чьи религиозные взгляды близки Достоевскому).
Как видим, сам авторский «надыдеологический» план, в русской классике в целом и в творчестве Достоевского в частности, неоднозначен и подвержен динамике. Коренное же структурное отличие прозы Серебряного века от классической, на наш взгляд, в том, что в первой - авторский «надыдеологический» план практически отсутствует, по причине исторического исчезновения «усадебной культуры», с одной стороны, и отхода большинства авторов рубежа ХІХ-ХХ веков от «исторического христианства» (т.е. православной церковности) - с другой. Русская литература Серебряного века оторвана от «предания» и в языческой, и в христианско-православной его частях, так как обе вышеназванные социокультурные зоны, обеспечивавшие в той или иной степени религиозно-психологическое единство народа и «образованного сословия» в XIX веке, оказались для нее закрытыми. «Неославянофильские» попытки деятелей Серебряного века, ностальгия этой эпохи по «усадебной культуре», даже интерес к древнерусскому язычеству (народной мифологии) и современному народному сектантству, - на наш взгляд, проявления именно этой «оторванности», стремление восстановить утраченное духовное единство «образованного сословия» с народом.
В социокультурном аспекте такое положение вещей может быть осмыслено как смена дворянской и интеллигентской парадигм. Для целей нашей работы важно отметить, что русская классическая литература XIX века создавалась, в основном, дворянством, так или иначе вовлеченным в «усадебную культуру», а литература Серебряного века, в ситуации постепенного «распыления» дворянства после крестьянской реформы. 186Ъ года, — интеллигенцией с ее «идейностью» и «беспочвенностью», по известному определению Г.П. Федотова29.
Так возникает в нашей работе дискуссионный тезис о «беспочвенности» литературы Серебряного века, в которой, на наш взгляд, ясно просматриваются критикаи даже отрицание «предания» в целом и поиск иных оснований для общенациональной идентичности .
Кроме того, напрашивается вывод о том, что тенденция «беспочвенности» характерна не только для Серебряного века, но достаточно глубоко укоренена в русской культуре с древнейших времен. Достаточно вспомнить определение древнерусской христианско-православной культуры как «бинарной» (см. Часть 1, главу 2 настоящей диссертации), высказанное Ю.М. Лотманом, М.Н. Эпштейном, И.А. Есауловым. В этом смысле интересны рассуждения Вяч.И.Иванова о ключевом для русской культуры в целом концепте «земля». Так, не отрицая истинности православной догматики, названный мыслитель Серебряного века находит ее, однако, недостаточной, неполной: «Церковь не открыла людям всей истины; ее догматика минимальна». В первую очередь, эта неполнота проявилась, по его мнению, в непонимании «христианского откровения о Земле» . В докладе «Евангельский смысл слова "земля"» (1909) Иванов объясняет «заблуждение» своих современников тем, что они смешивают понятия «Мира» (т.е. посюстороннего бытия «земли», данного, наличного состояния природы и человека) и «Земли» («жены, ищущей истинного мужа», Христа, в соединении с Которым она станет «раем»)34. «Мир» следует отрицать, «Землю» - как плененную Душу Мира — спасать, утверждать. Ивановская концепция «Жены-Земли», по наблюдению Г.В. Обатнина , еще до написания статьи «Стихия и культура» нашла отклик в поэзии Блока, отразившись, в частности, в цикле «На поле Куликовом» (1908): «О, Русь моя! Жена моя! ...».
Более сложное происхождение блоковского образа «жены-земли» открывается при обращении к исследованию A.M. Панченко . Выделяя «константы» русской культуры, ученый соотносит блоковский стих с мотивом брака с «сырой землей» (означающего смерть) в произведениях древнерусской литературы, прежде всего в «Сказании о Мамаевом побоище». Это, по-видимому, придает тенденции «отрицания земли» в творчестве Блока (да и в Серебряном веке в целом) универсальный для «высокой» русской культуры характер. На этом фоне «почвенность» русской классики XIX века может восприниматься даже как отклонение от архетипической модели. Но это вопрос отдельного исследования. Заметим только, что в Древней Руси, безусловно, было амбивалентное отношение к земле: с одной стороны, языческий культ рода и земли37, с другой -христианское отрицание земли как могилы, устойчивая ассоциации стихии земли со смертью ; кроме того, сам тип древнего русского земледелия (подсечно-огневой) предполагал постоянное освоение новых земель и оставление (отрицание) прежних39.
О «недоступной черте» и даже «враждебности» между народом и интеллигенцией своей эпохи писал А.А. Блок («Народ и интеллигенция», 1908): это «люди, взаимно друг друга не понимающие в самом основном»40. О характерном для XIX века «народопоклонстве» уже не может быть и речи: «мы (т.е. интеллигенция начала XX века— О.Б.) не дикари, чтобы творить божество из неизвестного и страшного. Но если мы давно не поклоняемся народу, то мы не можем и отступиться и махнуть рукой: ибо искони тянутся туда наша любовь и наши помыслы»41. Размышляя над образом гоголевской птицы-тройки в конце первого тома «Мертвых душ», поэт восклицает: «Что, если тройка, вокруг которой "гремит и становится ветром разорванный воздух", -летит прямо на нас? Бросаясь к народу, мы бросаемся прямо под ноги бешеной тройке, на верную гибель»42. Интеллигенция, по мысли Блока, не понимает народной души, ее любовь и тяга к народу, в общем-то, безответны. Загадочное «молчание «себе на уме» и «легкая усмешка» - вот народный ответ интеллигенции. На вопрос о том, какие именно ценности хранятся в народной душе, кроме абстрактной «воли к жизни»43, Блок не может дать ответа. В статье «Стихия и культура» (1908) поэт прямо противопоставляет «отборную» (т.е. прежде всего творческую, художественную и научную) интеллигенцию как «людей культуры» и русский народ как «стихийных людей» - по признаку их отношения к «земле». Так, «всякий деятель культуры, — по его словам, — демон, проклинающий землю, измышляющий крылья, чтобы улететь от нее»44. О людях из народа сказано: «Земля с ними, и они с землей, их не различить на ее лоне, и кажется порою, что и холм живой, и дерево живое, и церковь живая, как сам мужик - живой. Только все на этой равнине еще спит, а когда двинется ... пойдет вся земля» .
В реалистической линии литературы Серебряного века (A.M. Горький и др.) также наблюдаем отход от «исторического христианства» (религия «богостроительства») при отрицании «русской земли» (т.е. традиционного крестьянского менталитета).
Можно сказать, что Серебряный век в своем обращении к народу преимущественно ориентировался, в отличие от классики, на другой, не «святой» и «оседло-земной», а «страннический», нигилистический, «апокалиптический», по выражению Н.А. Бердяева, полюс русского • национального характера. Русская литература Серебряного века с беспощадной искренностью и во многом самоубийственной (учитывая революционную катастрофу XX века) честностью отразила трагическую сущность русского национального характера конца «петербургского периода» русской истории: его так и не изжитую за два столетия культурно-психологическую раздвоенность между «простым народом» и «образованным сословием», заданную реформами Петра I, его усилившуюся полярность между «святостью» и «нигилизмом» и нарастающий крен к «нигилизму» в пространстве русской «широкости».
Последнее было замечено еще Достоевским: в «Дневнике писателя», осмысляя кощунственную попытку расстрела причастия русским крестьянским парнем, его приятеля-искусителя, тоже из крестьян, писатель называет «настоящим нигилистом деревенским, доморощенным отрицателем и мыслителем» (21, 40). «Если уж есть и такие черты даже и в народном характере (а в настоящее время все возможно предположить), да еще в нашей деревне, то это уж новое откровение, несколько даже и неожиданное. Что-то не слыхано было прежде о подобных чертах» (21, 41). Тем не менее Достоевский пока полон веры в то, что в русском народе живо «сердечное знание Христа и истинное представление о Нем» (21, 38), но тревога о духовном здоровье народа уже не оставляет писателя: «Современный Влас (образ-символ русского мужика в V главе «Дневника писателя» за 1873 год -О.Б.) быстро изменяется» (21, 41).
Возвращаясь к собственно жанровой проблематике, отметим, что «идейный» («идеологический») роман (и повесть) - одна из главных жанровых разновидностей русской прозы XIX века, создававшей преимущественно сложные, синтетические жанровые образования. Даже если «идейно»-«идеологическая» составляющая не является доминирующей в том или ином жанровом типе русской классической прозы (социально-психологической, социально-критической, национально-бытовой, социально-философской и пр.), она практически всегда присутствует как важная часть жанрового спектра произведения. Если разграничение авторских и персонажных «идейности» и «идеологизма» (в большей или меньшей степени) - определяющая особенность реалистической прозы, то в прозе Серебряного века, ориентированной на романтическое понимание авторских функций в произведении, соотношение между авторскими и персонажными «идейностью» и «идеологизмом» apriori должно быть иным. Действительно, мы уже отметили в ней такое явление, как «интерсубъектная целостность» автора и героя в «идеологическом» и психологическом планах, которую С.Н. Бройтман обоснованно связывает с усилившейся «архаизацией» художественного сознания этой эпохи47. Добавим, что мифопоэтический тип сознания возрождался в ряде своих черт именно в романтизме; оттуда, в первую очередь, и пришла «архаизация» в литературу Серебряного века.
Последнее было отчетливо осмыслено самим Достоевским: «Я... верю, что для разных форм искусства существуют и соответственные им ряды поэтических мыслей, так что одна мысль не может никогда быть выражена в другой, не соответствующей ей форме» (29/1, 225). Поэтому, по обоснованному мнению В.Н. Захарова, «отнюдь не случайно то, что новая концепция романа и новые жанры появились в поэтике Достоевского именно в 60-70-е годы: новая историческая действительность (пореформенная требовала и новых художественных форм»51. Однако если удовлетвориться только этим объяснением, то необходимо признать, что сходные жанровые находки должны были бы появиться у многих современных Достоевскому авторов, отражавших ту же самую «историческую действительность». Созданный же писателем тип романа уникален. Так что добавим, в качестве другой немаловажной причины жанротворчества Достоевского в этот период, и его изменившийся «глаз» на действительность : «старое правило: не в предмете дело, а в глазе: есть глаз — и предмет найдется, нет у вас глаза, слепы вы, - и ни в каком предмете ничего не отыщете» (23, 141). Поэтому, не менее собственно поэтики «идеологического романа» Достоевского и «идеологической» прозы Серебряного века, для нас важны те типы миросозерцания, которые определили, с одной стороны, проблематику романов Достоевского, а с другой — «идеологический» спектр прозы Серебряного века.
Итак, исследование эволюции «идеологического романа» Достоевского в прозе Серебряного века предполагает решение следующих задач. Во-первых, необходимо уяснить содержание самих концептов «идея» и «идеология». Во-вторых, дать представление об авторском «надыдейном» («надыдеологическом») плане у Достоевского, а также исследовать особенности авторского сознания Серебряного века. Далее следует раскрыть содержание персонажных «идей» и «идеологий» у Достоевского, с одной стороны, и у писателей Серебряного века - с другой. Кроме того, важно обрисовать внутриструктурное соотношение авторских «как бы идей» (или авторского «надыдейно»/«надыдеологического» плана) и персонажных «идей» и «идеологий» в романах Достоевского. И наконец, необходимо очертить внутриструктурные соотношения авторских и персонажных «идей» и «идеологий» в прозаических произведениях Серебряного века.
В работе речь пойдет только о крупных формах эпики Серебряного века (повести и романе) в их соотношении с крупной эпической формой у Достоевского (прежде всего со зрелым романом писателя, который только и может быть назван «идеологическим»). В первой части диссертации выясняются важные для нашего аспекта рассмотрения константы художественного мировоззрения и поэтики Достоевского в многовековом контексте русской культуры, выходящем далеко за пределы «петербургского периода». Часть вторая посвящена непосредственному анализу прозы Серебряного века в ее соотнесенности с проблематикой и поэтикой позднего романа Достоевского, взятого в «идеологическом» ключе. Принцип расположения глав здесь - хронологический: в начале говорится о романе Мережковского, написанном в 1905 году, в самом конце - о романе Г.И. Чулкова 1917 года. Остальные произведения, ставшие «героями» второй части, увидели свет внутри этих временных рамок.
Надеемся, что диссертация прольет свет на обозначенные проблемы.
«Помечтал да и сделал» («Идеи», «идеологии» и «как бы идеи» в романном творчестве Ф.М. Достоевского).
Еще в 1920-е годы Ф.А.Степун заметил, что одним и тем же словом «идея» Достоевский называет «не только разные, но и явно несовместимые друг с другом вещи». Отметив «двусмысленность терминологии Достоевского», мыслитель предложил различать «идеи» и «идеологии» в романистике писателя. «Идея», по мнению Степуна, это «семя потустороннего мира», «Божье семя», следование ей - «послушание Христу», такие «идеи» как «трансцендентные реальности» прорастают в личности близких автору героев: Зосимы, Алеши в «Братьях Карамазовых», в «Подростке» - Макара и Софьи Долгоруких. «Идеологии» же - это «идеи бесов и остальных героев Достоевского», это «не трансцендентные реальности, которые овладевают человеком, а созданные самим человеком теории, почти всегда утопического характера, которыми он хватается за жизнь, чтобы удержаться в ней»1. Однако в целом, в дальнейшем отечественном литературоведении, различение этих двух понятий, вынесенных нами в подзаголовок главы, принято не было. Так, совершенно обоснованно утверждая, что «новое историческое содержание текущей действительности после реформы 1861 года» обусловило открытие Достоевским в 1865 году новой формы романа, качественным отличием которой от прежнего романа того же автора стала именно «идеологичность»", В.Н. Захаров на протяжении своего анализа «жизни идей» в «позднем романе Достоевского» употребляет слова «идея» и «идеология» практически как синонимы. Хотя исследователь и вспоминает симптоматичное, с точки зрения нашей концепции, высказывание самого Достоевского из «Дневника писателя»: «Идея попала на улицу и приняла самый уличный вид» (23, 142), хотя им и отмечается происходящее в соответствующих романах писателя развитие «идей» Ивана Карамазова и Версилова в сознаниях других героев, а также говорится о «пробах» «идей», предпринимаемых Раскольниковым и Аркадием Долгоруким, тем не менее, такие персонажи Достоевского, как Свидригайлов и Раскольников, Ставрогин и Петр Верховенский, Версилов и Аркадий, Иван и Дмитрий Карамазовы, в книге В.Н. Захарова представлены как в равной степени «идеологи» . На наш взгляд, здесь возможна, и даже необходима, дифференциация. Прежде чем обосновать высказанное суждение, проясним содержание самих концептов «идея» и «идеология» в предлагаемом здесь исследовании.
Слово «идея» в культуре XIX-XX веков обычно связывалось с философскими учениями Платона и Г.В.Ф. Гегеля. Платоновская «идея» (эйдос) - это идеальная сущность, лишенная телесности и представляющая собой подлинно объективную реальность, находящуюся вне конкретных вещей и явлений; совокупность «эйдосов» составляет особый идеальный мир, противостоящий земной, эмпирической действительности. Мир сущностей и мир явлений находятся в оппозиции друг к другу; мир сущностей трансцендентен земному миру и статичен4.
В философии Гегеля центральным понятием является «Абсолютная идея», содержащая в себе три аспекта: 1) субстанциальность (соответствие платоновскому учению об «идеях» как о сущностях), 2) активность (т.е. проявление способности к самосозиданию и саморазвитию, присущей «идее» имманентно), 3) «самосознание» (т.е. возможность ее человеческой рефлексии). Гегелевский панлогизм проявляется в утверждении «Абсолютной идеи» «законом бытия не только логического, но и реального», «онтологическим принципом действительности»5. По Гегелю, «идея» обладает динамикой и активно действует в земном мире.
Достоевский отчетливо ощущал своеобразие т.н. «фаустовского»6 типа культуры, который проживала в Новое время Западная Европа и вместе с ней — в лице своего европеизированного «образованного сословия» - пыталась прожить Россия XIX века. Приоритет рационального знания, добытого любыми средствами и любой ценой, в том числе в результате пренебрежения этическими, религиозными и правовыми нормами, ради достижения практических результатов по совершенствованию земного мира - вот суть этого миропонимания . Философия Гегеля - яркое выражение «фаустовского» типа культуры; мотивы немецкой легенды о Фаусте, заключившем договор с Сатаной ради обладания знанием, с помощью которого можно изменить мир, прослеживаются в образах «людей идеи» у Достоевского, особенно явственно - Ивана Карамазова .
Безусловно, русский писатель был знаком и с кантовским определением «идеи» как «чистого понятия разума», «которому (т.е. понятию) нет соответствующего предмета в опыте»9. И. Кант, как известно, выделял всего три таких априорных «идеи»: Бога, бессмертия души и свободы воли. Именно эти кантовские «идеи» становятся фундаментом рассуждений Ивана Карамазова о Церкви и государстве, однако, будучи, по определению немецкого философа, безбытийными, легко переходят, в сознании героя, в свою противоположность. «Нет добродетели, если нет бессмертия» (14, 65), -по сути дела, перелицовка кантовского «категорического императива». Если Бог - «идея», то Он всего лишь атрибут умственной жизни человека. Недаром старец Зосима отмечает, что Иван «не верует сам ни в бессмертие [своей] души, ни даже в то, что написал о церкви и церковном вопросе» и потому - «очень несчастен», ибо наделен Творцом «сердцем высшим» (14, 65-66), жаждущим не только «мысль разрешить», но и утвердиться в бытии (Боге), другими словами — обрести онтологический статус. Полемизируя, в лице своего героя, с Кантом, Достоевский, устами Зосимы в монастырском эпизоде с госпожой Хохлаковой, говорит о возможности опытного познания Бога, несмотря на невозможность теоретического, логического доказательства Его существования (в этом писатель солидарен с Кантом): «... доказать тут нельзя ничего, убедиться же возможно .. . Опытом деятельной любви. Постарайтесь любить ваших ближних деятельно и неустанно. По мере того как будете преуспевать в любви, будете убеждаться и в бытии Бога, и в бессмертии души вашей» (14, 52). О соотношении «ума» и «сердца» в произведениях Достоевского речь пойдет чуть ниже.
Значение слова «идеология» в различных словарях и энциклопедиях сводится к преимущественной ее направленности на социально-политическую жизнь, к организации этических норм и практической реализации определенной системы идеалов и ценностей. «Как элемент культуры идеология - продукт социально-политической деятельности людей... Она создается деятельностью определенных слоев - идеологов, политиков, ученых. Народные массы, социальные общности непосредственно не создают идеологии, однако их интересы и представления - питательная почва для ее формирования»10.
Роль «усадебной культуры» в формировании феномена русской классической литературы XIX века
Русская классическая литература XIX века представляет собой «явление органического единства» (от А.С. Пушкина до А.П. Чехова), что убедительно показано Ю.М. Лотманом . Она, по выражению ученого, «тернарная» культурная система, «мир естественного человеческого существования», расположенный между «добром» и «злом», оправданный «просто своим бытием». Другая, «бинарная структура самоописания, подразумевающая деление всего мира на положительное и отрицательное, на греховное и святое, на национальное и искусственно привнесенное... характерна для русской культуры на всем ее протяжении»2. «Бинарный модус» в русской классике сложно сочетается с «тернарным», но именно последний, по мысли Ю.М. Лотмана, позволяет выделить ее как особое, целостное явление; именно «тернарность» придает ей гармоническое начало и, добавим, очевидную устойчивость, «почвенность», когда «на общую христианскую бинарность накладывается народное представление языческого типа, оправдывающее материальную действительность, мир жизни» .
Определяющую роль «мироприемлющего начала» отмечает в русской классике XIX века и В.Е. Хализев, подчеркивая то, что она привлекала внимание к «людям обыкновенным, не притязающим на амплуа избранников и на масштабные свершения», а составляющим «одухотворенную "ткань жизни", которая наследуется от поколения к поколению»: такие герои относятся к основному для русской классики «житийно-идиллическому типу»4.
Как видим, сама категория национального «предания» (как преемственности, устойчивости традиций) связана с присутствием «тернарного модуса» в культуре. Именно русское национально-религиозное «предание» как комплекс религиозно-нравственных, культурно-психологических и практически-бытовых установлений, определяющих систему ценностей народа, является основой его самобытности и национальной идентичности в течение всего исторического периода его существования. «Предание», по выражению М.Н. Дарвина5, есть коллективное-бессознательное народа. Погруженность в «предание» в вышеобозначенном смысле и есть, в нашем понимании, «почвенность».
Факты свидетельствуют о том, что большинство произведений русской классической литературы написаны дворянами, выходцами из европеизированного «образованного сословия» России ХУШ-ХГХ веков. Так, Ю.М. Лотман отмечает, что «та великая русская культура, которая стала национальной культурой и дала Фонвизина и Державина, Радищева и Новикова, Пушкина и декабристов, Лермонтова и Чаадаева и которая составила базу для Гоголя, Герцена, славянофилов, Толстого и Тютчева, была дворянской культурой»6.
Становится очевидным, что русская классика соединила в себе народное мироощущение с художественным сознанием носителей «высокой» культуры. Но возникает вопрос: почему этот синтез имел место лишь в ограниченный период времени, а не сопутствовал русской литературе на всем ее историческом пути? Ответ мы попытаемся дать ниже.
Отечественная культурологическая мысль последней трети XX века склонялась к рассмотрению русской культуры допетровской эпохи исключительно в свете бинарной оппозиции. Анализируя «взрывной», циклический характер русской истории по сравнению с поступательным в Западной Европе, Ю.М. Лотман и Б.А. Успенский приходят к выводу о том, что главная причина этого различия - конфессиональная. Так, в западном христианстве загробная жизнь тройственна: рай, чистилище, ад; в восточном — двойственна: рай и ад. В соответствии с этим земная жизнь допускает три типа поведения (безусловно греховное, безусловно святое и нейтральное) в Западной Европе; и только два типа поведения (безусловно греховное и безусловно святое) в России. «Нейтральная» сфера поведения являлась «структурным резервом развития системы завтрашнего дня», культурной преемственности. Отсутствие «нейтральной аксиологической сферы» в древнерусской культуре приводило к тому, что «новое мыслилось не как продолжение, а как эсхатологическая смена всего». По этой логике, любое изменение в России происходит как «радикальное отталкивание от предыдущего этапа»; новое формируется не в «нейтральной аксиологической зоне», а как «результат трансформации старого, выворачивания его наизнанку»8. Изложенная концепция вызывает очередной вопрос: как в России, при таком типе культуры, вообще могла сохраняться преемственность («предание» в буквальном смысле этого слова) и даже происходить постепенное наращивание культурных смыслов?
Ответ на последний вопрос, на наш взгляд, можно найти в одной из работ В.М. Живова9, в целом полемической по отношению к концепции Б.А. Успенского и Ю.М. Лотмана о тотальной «бинарности» древнерусской культуры. Напротив, В.М. Живов указывает на перманентно существовавшую в ней «нейтральную аксиологическую сферу» - а именно на общераспространенные народные обычаи как на «нейтральные элементы, не противоречащие христианству»: «смешение христианского благочестия с нечестивыми обрядами» было «социальной нормой», существовала «целая школа религиозного "безразличия", допускающая нечестивые языческие обычаи в христианский обиход». Поэтому «совершенно неправомерно, - по мысли ученого, - говорить о дуалистическом столкновении благочестия и антиповедения как парадигме религиозного сознания русского средневековья. Святочные или масленичные игры могли быть таким же не требующим рефлексии элементом традиционного быта, как и карнавал в Италии и Франции .. . модель народной духовной культуры средневековья в России и Западной Европе в целом тождественна .. . В рамках... этой культуры ни о какой принципиальной специфике восточнославянской модели говорить не приходится»10. Как видим, «нейтральная аксиологическая сфера» (а значит, среда, необходимая для трансляции «предания» как устойчивой системы ценностей последующим поколениям) присутствовала в русской народной культуре в течение столетий, что, по сути дела, и отметил Ю.М. Лотман в своей более поздней статье о «тернарном модусе» русской классики XIX века.
Проблема в том, что до XIX века она не осмыслялась на «верхних» этажах русского культурного космоса: «конститутивное различие между русским и западным культурным развитием лежит не в сфере народных верований и обычаев, не в двоеверии как специфике русской духовности, а исключительно в области книжной культуры; искомая специфика относится к верхам, а не к низам русской культуры...», - продолжает В.М. Живов11. «Бинарность» культурного самосознания русских средневековых «книжников» (а это были преимущественно представители духовенства) проистекала, как устанавливает В.М. Живов, из отрицательного отношения к античному литературному наследию, в отличие от никогда не прерывавшейся связи с ним книжной культуры западноевропейского средневековья. В России «еллинские хитрецы» (от Гомера до Аристотеля) «практически всегда выступали лишь как носители языческого безбожия и в интеллектуальный кругозор русских книжников не входили».
Роман Серебряного века в зеркале поэтики «идеологического романа» Ф.М. Достоевского (Д.С. Мережковский, Ф.К. Сологуб, А. Белый, З.Н. Гиппиус, Г.И. Чулков, Л.Н. Андреев, A.M. Ремизов, A.M. Горький).
Роман - ведущий жанр русской классической литературы XIX века, которая, по выражению Ю.М. Лотмана, является «тернарной» культурной системой, как бы вписанной в контекст «бинарности», «характерной для русской культуры на всем ее протяжении» . Именно качество «тернарности», по мысли ученого, придает русской классике целостный характер и, добавим, своеобразную «почвенность», когда «на общую христианскую бинарность накладывается народное представление языческого типа, оправдывающее материальную действительность, мир жизни»".
Кроме того, как уже говорилось выше (см. главу 2 части I), исторически русская классика тесно связана с дворянством эпохи крепостного права, а именно со «старинным» (по выражению А.С. Пушкина), поместным дворянством, которое, живя во многом общей жизнью с крестьянами в своих усадьбах, сумело соединить в мироощущении лучших своих представителей самобытную народную культуру с высотами западноевропейской образованности, то есть, другими словами, частично преодолеть тот роковой культурно-психологический и религиозно-нравственный разрыв между «народом» и «образованным сословием», который окрашивал русскую культуру на протяжении всего «петербургского периода» нашей истории.
В пореформенную эпоху (с 1870-х годов) постепенно начинает разрушаться дворянско-крестьянский культурный симбиоз, что становится одной из причин исчерпания «классического» периода русской литературы. В" культуре остается исключительно «бинарный» модус, причем «святость», положительный полюс национального характера, теперь ассоциируется с революционным гуманизмом разночинной интеллигенции, порвавшей с дворянско-крестьянским «преданием». В цикле статей «Русский Нил» В.В. Розанов отмечает, что в 1860-1870-е годы в России «заново родился совершенно новый человек, до того не бывший в русской истории», «родился, а не преобразовался из прежнего, например человека 40-х годов». Это был «натуральный человек», «освободившийся от всех традиций истории»3.
Достоевский 1860-1870-х годов, осмысляя рубеж культур, отказывается, быть романистом только в «историческомроде», наподобие Л.Н . Толстого, рисующего, по его мнению, единственно устоявшиеся в России формы жизни, дворянско-крестьянские. «Одержимый.тоской по текущему», он приспосабливает романный жанр к изображению нового героя из «случайного семейства» (13,455), новых неустоявшихся!жизненных форм. Разночинная интеллигенция становится с 1870-х годов ведущей культурной силой в России, оттесняя на задний план «наш(Высший культурный слой» (13, 453), то есть «старинное», «усадебное», дворянство. В то же время? романы Достоевского сохраняют идущее от Пушкина «тернарное» приятие жизни во всех ее разнообразных проявлениях, гармоническую просветленность в авторском плане выражения и стремление к синтезу. Об этом свидетельствует, к примеру, такая важнейшая для Достоевского-автора смысловая категория, как «живая жизнь», персонифицированная в лице некоторых персонажей: Ахмаковой из «Подростка», Грушеньки из «Братьев Карамазовых» и др.; в «Преступлении и наказании» - человеческая «натура», противостоящая «теории».
Таким образом, оставаясь «классическим» писателем, социально-историческим идеалом которого является эмпирическая, «почвенная» общность народа и «высшего культурного слоя», то есть просвещенного поместного дворянства (например, Версилов, «мама» и Макар в «Подростке»), Достоевский в то же время занимает однозначную позицию в «бинарной» конфронтации новой эпохи последней трети XIX века, критически изображая «беспочвенного» интеллигента с его радикально-категоричными и односторонними «идеями», готовыми перейти в действие (т.е. «идеологиями»). Одновременной «классичностью» и «неклассичностью» (о значении этих категорий см. «Введение») Достоевского можно объяснить тот факт, что Д.С. Мережковский в статье 1890 года выделил его из числа других «корифеев русского романа» (И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого) как «товарища в болезни», который всех «роднее, ближе нам»4.
В 1890-1900-е годы наступает новый культурный кризис, новый, более глубокий рубеж культур, когда уже ставшие «бытом» интеллигентские, позитивизм, социализм, прогрессизм и т.п. в своей однобокости были «взорваны» изнутри символистами. Об этом подробно пишет Андрей Белый в своих мемуарах «На рубеже двух столетий» (см. в этом произведении: «Введение», «Дети рубежа» из гл. 3, «Борьба за культуру» из гл. 4). «Статика, предвзятость, рутина, пошлость, ограниченность кругозора»5 - так устоялись к зрелости формы жизни молодых интеллигентов из «случайных семейств» Достоевского через 20-30 лет. А. Белый, А.А. Блок, В.Я. Брюсов и другие восстали против этих «отцов» (читавших «Надсона вместо Пушкина»6) и протянули руку «дедам», среди которых самым близким и понятным в силу своей «классичности»/«неклассичности» оказался Достоевский. Недаром с 1890-х годов — целый поток исследований о творчестве Достоевского: Розанова, Мережковского, А.Лі Волынского и многих других , противопоставлявших писателя культурной эпохе 1870-1880-х годов.
Серебряный век в своем стремлении к универсальности, целостности, синтезу, гармонии обратился к русской классической литературе как к образцу. Но если в классической литературе была «почва», то культура Серебряного века в целом создавалась детьми тех «беспочвенных» интеллигентов, которые разрушали классику, «внуками» «случайных семейств». Отсюда противоречие: попытка обрести «почву», существовавшую в дворянско-крестьянском культурном единстве, при интеллигентской «беспочвенности», когда это единство (прежде всего жизнь «дворянских гнезд») уже было исторически разрушено. В отсутствие «предания» как реальнойдуховно-культурной среды для деятелей Серебряного века и их литературных героев религия становится не , «жизнью», а «идеей», как и революция. Вспомним, к примеру, Дудкина из романа А. Белого «Петербург». Получается, что религия и революция-взаимозаменяемые и взаимопроницаемые «идеи». Это можно увидеть в творческих судьбах Мережковского («религиозная общественность») и A.M. Горького («богостроительство» и социализм); позже - у «скифов».
Стоит оговориться, что признак «почвенности» не является в данной работе оценочным. Наличие или отсутствие «почвенности» определяется здесь отношением к русской «земле» и народу, в первую очередь -крестьянству. «Почвенная» укорененность классики — это, с одной стороны, модификация «культа рода и земли», «основоположного в русском язычестве»9 и присущего патриархальному русскому сознанию (в том числе дворянско-землевладельческому) на протяжении веков; с другой - это представление о народе как носителе (пусть и бессознательном) истинных религиозно-нравственных ценностей (христианских), также восходящее ко временам Древней Руси и подкрепленное учением Ж.-Ж. Руссо о «естественном человеке» (добром, разумном и прекрасном), который ассоциировался в русской дворянско-интеллигентской культуре XIX века с крестьянином, далеким от «уродующего» влияния цивилизации. Таким образом, классическая литература XIX века «почвенна» постольку, поскольку вырастает (в целом или в большой степени) из мироощущения русского национально-религиозного «предания», с его христианско-православными и языческими архетипами, такими, как «Святая Русь» или географическое представление об аде и рае10.
Глава 2. Интеллигенция и народ в «идеологическом романе» Ф.М. Достоевского и в романе Д.С. Мережковского «Антихрист. Петр и Алексей».
В известной своей статье 1890 года Д.С. Мережковский выделил Достоевского из числа других «корифеев русского романа» (И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого) как «товарища в болезни», который всех «роднее, ближе нам»1. Этот факт можно объяснить одновременной «классичностью» и «неклассичностью» Достоевского. Что имеется в виду?
Как у «классического» писателя, у Достоевского, подобно другим представителям русской классики XIX века, в структуре его романов обнаруживается т.н. «надыдейный» (или «надыдеологический») план, с помощью которого и выражается авторская позиция. Писатели же Серебряного века, в силу особого типа выражения авторского начала в «полифоническом» романе Достоевского, по сравнению с остальной классической литературой (не в дискурсе, а с помощью сюжетно-композиционных средств2, «символической» детали, «онтологичности» слова), воспринимали его творчество в «неклассическом» ключе, отождествляя, как правило, авторскую позицию писателя с «идеями» и «идеологиями» его героев.
В своем стремлении к универсальности, целостности, синтезу, гармонии Серебряный век обратился к русской классической литературе как к образцу, что повлекло за собой неразрешимое для культурной эпохи рубежа ХГХ-ХХ веков противоречие - попытку обрести «почву», существовавшую в дворянско-крестьянском культурном и вероисповедном единстве, при интеллигентской «беспочвенности» и отходе от «исторического христианства», когда это единство (с одной стороны, жизнь «дворянских гнезд», с другой - авторитет Православной церкви в «образованном» слое и народе) уже было исторически разрушено. В отсутствие «предания» как реальной духовно-культурной среды для деятелей Серебряного века и их литературных героев4 религиозный поиск становится не «жизнью», а «идеологией», как и революция. «Новое религиозное сознание» Мережковского, В.В. Розанова, З.Н. Гиппиус и др. - самое яркое тому свидетельство.
Скептически относясь к деятельности петербургского Религиозно-философского общества, к «религиозным исканиям» русской интеллигенции, далеким, по его мнению, от настоящей «религиозной жизни народа», А.А. Блок, однако, противопоставлял Мережковского и Розанова как «художников» и как «религиозных философов»: «Между романами Мережковского, некоторыми книгами Розанова и их религиозно-философскими докладами - глубокая пропасть» . Растущее в начале XX века «грозное и огромное явление» народного духа - сектантство - абсолютно не связано, по убеждению поэта, с «новым религиозным сознанием» петербургских интеллигентов, напрасно думающих, что «простой человек» придет говорить с [ними] о Боге»6. Забегая вперед, скажем, что глубокие замечания Блока необходимо учитывать при анализе романа Мережковского «Антихрист. Петр и Алексей» (1905). Не исключено, что высказанные им в статьях 1908 года «Народ и интеллигенция» и «Стихия и культура» мысли (см. «Введение» к настоящей виссерта/цицЪо многом навеяны его чтением.
Как уже было отмечено, история символистского романа начинается с трилогии Мережковского «Христос и Антихрист» (1895-1905). Остановимся только на последней ее части - «Антихрист. Петр и Алексей» (1905). И вот почему.
Во-первых, единственный из трилогии, этот роман повествует о России. Вспомним, что изображение именно отечественной действительности - одна из черт «идеологического романа» Достоевского. Во-вторых, этот роман писался под непосредственным воздействием раздумий автора о личности и творчестве Достоевского: одновременно Мережковский работал над концептуальным литературно-критическим трудом «Л. Толстой и Достоевский» (1901-1902), где формировались и утверждались те основные идеи, которые легли в основу трилогии, и в первую очередь - ее последнего романа. Правда, речь в «Петре и Алексее» идет не о современности, это роман исторический, вернее историософский, осмысляющий с «высшей», религиозно-мистической точки зрения основные тенденции «петербургского периода» русской истории. К тому же не реалистический, а символистский: «цепь символов не столько рассказывала о прошлом, сколько пророчила будущее» . Тщетно искать в «Петре и Алексее» исторической достоверности, целью автора было выразить «культурный метаисторизм» и «апокалиптическую концепцию истории»8. Петровская эпоха, по мысли Мережковского, близкой когда-то и Достоевскому, начало «петербургского периода» русской истории, еще длящегося, хотя и завершающегося в начале XX века. Смысл его конца можно понять, обратившись к истокам.
Именно тогда зародились главные противоречия русской жизни, достигшие апогея в последующее время, в частности проблема «народ и интеллигенция», основополагающая для «идеологического романа» Достоевского. Вспомним, что героем-«идеологом» у писателя-классика был именно оторвавшийся от народной «почвы» интеллигент, воспринявший «человекобожеские» западные идеи и стремящийся провести их в действительность. Также и «центральные герои романов Мережковского -это герои-идеологи» и одновременно герои-интеллигенты, чья жизнь — практическое «служение одной, заветной идее»9.
Сам писатель назвал Петра I «первым русским интеллигентом»10. «История в изображении романиста - это история интеллигенции, история поисков человеческой мысли. Все бытовые подробности жизни героев... характеризуют их именно как интеллигентов. Они стремятся к знанию, которое дороже житейских успехов, они аскетичны в еде, в житейском обиходе, они бессребреники. Их постоянный спутник - книга»11. «Что такое Петр? Чудо или чудовище? ... Я только знаю - другого Петра не будет, он у России один; и русская интеллигенция у нее одна, другой не будет. И пока в России жив Петр Великий, жива и великая русская интеллигенция»12. Необходимо отметить, что Мережковский ни в своих художественных произведениях, ни в публицистике не проводил различия между дворянством и интеллигенцией как особыми социокультурными образованиями.