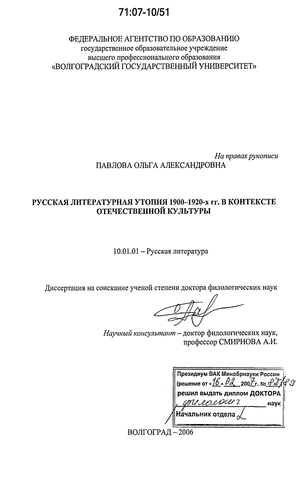Содержание к диссертации
Введение
Раздел I. Проблемы типоморфологии литературной утопии 21
Глава 1. Утопия, миф, идеал: опыт систематизации терминов 21
Глава II. Литературоведческая утопиология о проблеме корреляции утопии, антиутопии, научной фантастики 55
Глава III. Типология литературной утопии в аспекте полиструктурности 106
Раздел II. Мифологема «русского Ренессанса» в отечественной культуре 1900-1920-х гг.: взаимопроникновение социальной, мистической и эстетической утопий 146
Глава 1. Многообразие культурных дискурсов в России на рубеже ХІХ-ХХ вв. и их утопические «коррективы» 146
Глава 2. Модели театральной утопии русского модернизма 200
Глава 3. От эстетской игры индивидуалистов к идеократии «авгуров духа»: метаутопическии аспект художественного видения А.В. Чаянова 248
Раздел III. От «нового человека» к «новому миру»: варианты культурных и литературных решений 347
Глава 1. «Новый мир» глазами его «строителя» 347
Глава 2. Милленаризм и просветительские мифологемы как основа мистической утопии А.П. Платонова: эволюция аксиологии 397
Заключение 519
Примечания: 525
Список использованной литературы:
- Литературоведческая утопиология о проблеме корреляции утопии, антиутопии, научной фантастики
- Типология литературной утопии в аспекте полиструктурности
- Модели театральной утопии русского модернизма
- Милленаризм и просветительские мифологемы как основа мистической утопии А.П. Платонова: эволюция аксиологии
Введение к работе
Утопия - сложнейший феномен, способный выражаться во всех формах духовно-интеллектуального бытия человека, немыслимого вне поиска идеала. В известной мере история утопии отражает метаморфозы мышления homo sapiens а о мире и о себе от сакрального через эстетическое к неомифологическому. В целом специфика существования утопии состоит в том, что в
XVI в. она отделяется от архетипов и воплощается как в ипостаси социокультурной мифологемы, так и в литературно-художественной, а также научно-публицистической форме. Структура литературной утопии легко узнаваема, поскольку в поэтике этого специфического жанра еще с «эталонного» произведения Т. Мора наличествует комплекс константных признаков. К числу инвариантных свойств утопической поэтики принадлежит «рамочная» композиция, формируемая построением «текст в тексте», благодаря чему изо-, бражается ситуация путешествия (сна или видения) героя, которая мотивирует открытие идеального мира и усиливает иллюзию достоверности в его описании, что создает момент игры с художественной условностью. К типологи- " ческим качествам поэтики «классической» литературной утопии XVI XVII вв. необходимо также отнести «разреженную» фабулу и незначитель- • ность динамики развития действия, риторический диалог в его сюжетообра-зующей функции; особую организацию повествования, где нарратором выступает «реальный житель», рассказывающий об утопическом миропорядке.
В обрисовке идеального мира традиционно выделяют такие черты, как его пространственная изолированность, автаркия, внеисторичность и иллюзия цикличности протекания времени, достигаемая детальным воссозданием регламентации жизни в утопическом государстве. Данные качества социокультурной модели идеального мира, являющейся структурообразующей в художественной системе этого жанра, восходят к мифологическим описаниям «островов блаженных» и «золотого века». Сакральную основу имеет также модель государства негативной утопии: она базируется на архетипиче-ских ценностях мифа о «железном веке» и Апокалипсиса. Но, хотя «структу 4 pa литературной утопии мало подвержена модернизации» (Фрейденберг, 1990: 148), «утопист одновременно и визионер, и сын своей эпохи» (Polak, 1966: 334). Поэтому модель утопии, несмотря на структурно-генетическую соотнесенность с архетипом, исторически эволюционирует, и этот процесс обусловлен ментальными изменениями.
Утопия как факт художественного сознания впервые возникает в Ренессанс. Артистическое мировидение, филологическая парадигма мышления, демиургические притязания человека, самоосознающего себя Художником-Творцом, - именно эти особенности мирочувствования вызвали к жизни па-нутопический дискурс эпохи Возрождения. Их появление было предопределено ментальными изменениями Ренессанса - взаимодействием циклической и линейной моделей времени и мироздания. Основу циклизма составлял космогонический миф о «вечном возвращении» (М. Элиаде) - периодическом уничтожении / сотворении Вселенной, породивший в мировосприятии людей «закон» органической аналогии, согласно которому микрокосм уподоблялся макрокосму, т.е. идеальное государство и человек истолковывались как подобие космоса - символа гармонии и извечного, целесообразного порядка. Сакральным истоком линеаризма явилось христианство, благодаря которому была утверждена «та непреложная истина, что ключ к пониманию мира - не в естественном порядке вещей, как полагали греки и римляне, а в истории человека» (Барг, 1987: 153). Рожденные христианством идеи развития как прогресса и ценности истории человека в XVI-XVIII вв. постепенно секуляризуются, что приводит к важным последствиям для существования литературной утопии. В Ренессанс, в точке пересечения идей самоценности человеческой истории как движения-развития и восходящей к космогоническим представлениям концепции государства как «политического тела» с унифицирующим и регламентирующим подходом к человеку, - рождается классическая литературная утопия, содержащая описание пространственной модели идеального мира (uopos)1. Таковы утопические романы-путешествия XVI-XVIII вв., тяготеющие в своей поэтике к путевым записям и трактату («Утопия» Т. Мора, «Город Солнца» Т. Кампанеллы, «Христианополис» И.В. Андрее, «Новая Атлантида» Ф. Бэкона, «Путешествие в землю Офир-скую...» М. Щербатова и др.).
В парадигме хилиазма складывается мирской вариант концепции развития - понятие о «прогрессе человеческого разума» (Ж.А. Кондорсе), что в итоге приводит к апологетированию достижений цивилизации, науки, техники. Применительно к литературной утопии победа этих идей означает, что пространственную модель идеального мира сменяет ухрония (u-chronos), сущность которой составляет проект идеального государства, художественно создаваемый на «реальном» географическом пространстве, но удаленный в будущем на неопределенный промежуток времени. Так как наука в эпоху Просвещения и в XIX в. зачастую обретает статус мирской религии, в поэтике литературной утопии большую роль начинают играть элементы научной фантастики («Год 2440» Л.-С. Мерсье, «3448 год» А.Ф. Вельтмана, «4338 год», «Город без имени» В.Ф. Одоевского и др.). С другой стороны, диалектически неизбежно в XVIII-ХІХвв. возникает критика научно-технического прогресса и безоговорочного признания достижений цивилизации, зарождается индивидуализирующий подход к личности, определяющий-необходимость дифференциации человеческих возможностей и потребно-стей. Вследствие этого позитивная утопия эволюционирует в негативную . К числу первых произведений, содержащих элементы антиутопии, следует отнести «Кандида» Вольтера, «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта, «Город без имени» В.Ф. Одоевского, «Эревуон» С. Батлера, «Машина останавливается» Э.М. Форстера, «В пурпурной мгле» Дж. Конрада, «Железную пяту» Дж. Лондона и др.
Дальнейшая эволюция утопии как социокультурной модели идет по линии ее психологизации, стремительно ускоряясь в XX веке. Существует даже мнение, что в XX столетии преобладающей моделью утопии становится эуп-сихия (ey-psyche), основа которой заключается в боязни потерять личность. В эупсихии утопия локализуется на уровне человеческого сознания, в пережи 6
вании и настроении, предельно субъективируется. Доминанту эупсихии составляет идея сохранения личности как нечто самоценного в ее индивидуальности, и это определяет негативное отношение к равенству как унификации, обезличиванию, «нумеризации». Эупсихия, формирующаяся в период «бурного развития биологии и психологии» (Чаликова, 1994: 88), в художественной литературе проявляется преимущественно как антиутопия. Ибо художественная реальность «реализует» и «проверяет», гипотетически «достраивает» эволюционно-прогрессистскую модель мироздания, господствовавшую в ментальносте европейцев начиная с эпохи Ренессанса, россиян - с XVIII столетия, после периода петровских реформ, и явившуюся социокультурной основой «классической» литературной утопии XVI-XIXBB. Кроме того, всякое явление, доведенное до логического конца, согласно законам диалектики, превращается в свою противоположность. В существовании, утопии - это ее фатальная, неизбежная превращаемость в антиутопию, художественно исследованная еще Ф.М. Достоевским в романе «Бесы», где ведется критика утопии с позиций христианского гуманизма («если Бога нет, все позволено») и религиозного экзистенциализма. И в монологах героя-идеолога Шигалёва отражен этот роковой закон утопического оборотничест-ва: «Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом» (Достоевский, X: 311).
Вместе с тем утопия в XX столетии, эволюционируя по линии психологизации, источник которой - и тоталитарные кошмары, которые пережило человечество в этот период, и модернистское мирочувствование, - дает жизнь двум разновидностям негативной утопии - дистопии и какатопии. Их общими свойствами являются констатация изначальной дисгармоничности изображаемого мира, образ которого имеет прототип в реальности; тенденциозность в выражении авторской позиции, миромоделирование на основе синтеза социокультурной модели авторитарного мира с жанром психологического романа (повести). Они отличаются друг от друга тем, что в основе образа мира дистопии - модель тоталитарного общества, и автор декларирует собственную философскую позицию относительно диалектики добра и зла, тогда как социокультурную модель какатопии можно определить как абсурдный мир-хаос, ракурс ее воссоздания публицистичен, укоренен в авторской современности и его гражданской позиции. В свете этого к дистопиям могут быть отнесены, например, «1984» Дж. Оруэлла, «Слепящая тьма» А. Кёстлера, «Москва 2042» В. Войновича, а к какатопиям - «Не успеть» Вяч. Рыбакова, «Завтра в России» Э. Тополя, «Невозвращенец» А. Кабакова.
Утопия, как позитивная, так и негативная, порождается духом кризиса и борьбы, критичности, неудовлетворенности настоящим. При этом негативная утопия в обществе выполняет те же функции, что и позитивная: нормативную, социально-конструктивную (конструирование социального идеала через действие «от противного» - модель псевдоидеального мира), критическую (критика и авторской современности, и утопии), когнитивную (как социо-. культурная модель негативно отражает «наличные» общественные противоречия, чем помогает решению сложных социальных проблем методами, исследующими процессы восприятия, мышления, познания, объяснения и по-1 нимания), а также функцию предупреждения (моделирует негативные моменты существующей социально-исторической ситуации - тоталитаризму экологическая катастрофа и т.п.).
В XX веке можно обнаружить, по меньшей мере, три мощных волны негативного отношения к утопии, отражающих историческую изменчивость особенностей утопии как социокультурной модели идеального мира. Первая приходится на Первую мировую войну и Великую октябрьскую социалистическую революцию и является критикой утопии как секулярной модификации хилиастических ожиданий (С.Н. Булгаков), «этики нигилизма» (С.Л. Франк), как «злобы добра» (Н.А. Бердяев). Она наиболее полно отразилась на страницах сборников «Вехи» и «Из глубины». Вторая антиутопическая волна случилась в 1960-е гг. на Западе, причем затем закономерно перешла в мощный поток новых увлечений утопическими проектами, в которых модель «классической» утопии и ухронии претерпела существенные ис 8 торические изменения. Это выразилось в проектах «практопии» (3. Бзежинский, Д. Белл, О. Тоффлер), «сексуальной утопии» (Т. Лиери, Н. Браун, С. Эванс, Г. Маркузе), «христогенезе» Тейяра де Шардена, глобальной утопии Э. Фромма, бихевиористской утопии Скиннера, утопии «примитивов» М. Мид и др. В СССР на этот период приходится расцвет «хрущевской оттепели» и официальная утопия, обещающая построить коммунизм к 1980 году. А также параллельно возникают в андеграундных кругах антиутопические настроения, отраженные в «Острове Крым» В. Аксёнова, «Москве 2042» В. Войновича, «Зияющих высотах» А. Зиновьева. Третья волна антиутопизма происходит в 1980-1990-е годы, и не последнюю роль в этом процессе играет кризис, а затем и крушение социалистической системы в «восточном лагере». В русской литературе, наряду с публикацией в рамках «возвращенной литературы» ранее запрещенных антиутопий, появляется большое количество дистопий и какатопий .
Именно в этих условиях утверждается литературоведческий «штамп», согласно которому утопия и антиутопия трактуются как два различных жанра. Думается, происходит это потому, что истоки возникновения антиутопии видят в научно-техническом прогрессе, породившем технократическую цивилизацию и ее социально-экономические, политические противоречия. «Антиутопии, - полагает Полак, - были инспирированы первой мировой войной и русским экспериментом, затем второй мировой войной, диктатурами Муссолини, Гитлера и Сталина, атомной бомбой» (Polak, 1966: 32). М. Шефер утверждает, что литературоведческий термин «антиутопия» порожден эпохой «холодной войны». Свою позицию он аргументирует тем, что этот термин «вошел в обиход» после появления ряда подражательных произведений «О дивному новому миру» О. Хаксли и «1984» Дж. Оруэлла, которые, по его мнению, «явились реакцией на угрозу осуществления утопии» (Schafer, 1997: 15). В таком же ключе трактует антиутопию Л. Геллер, опасаясь, что «она кроет в себе опасность подмены идеологическим толкованием собственно литературного анализа» (Геллер, 1985: 13). К разграничению утопии и антиутопии как двух разных жанров примыкают также другие стереотипы литературоведческой утопиологии - такие, как трактовка антиутопии как жанра, порожденного XX веком, и рассмотрение утопии и антиутопии как жанров научной фантастики.
В противовес этим литературоведческим «штампам» мы утверждаем, что наиболее адекватное понимание утопии возможно только в аспекте полиструктурности. По нашему мнению, утопия, существующая в литературном процессе на «стыке» науки, философии и словесного творчества, может быть истолкована как «пограничное» поликомпонентное жанрообразова-ние, художественную систему которого формирует взаимодействие структурообразующей модели идеального мира и художественной реальности, оформленной по «инвариантам» жанров, наиболее востребованных в эпоху создания произведения. Так как социокультурная модель совершенного мира в утопии «испытывается» реальностью произведения, утопический вымысел подобен научному эксперименту. Поэтому его сущностной чертой является феномен «размытой» условности, достигаемый последовательно-игровым созданием-и-разрушением иллюзии достоверности. Именно эта игра в достоверность способствует тому, что «пограничный» жанр утопии может быть прочитан как «руководство» по пересотворению мироздания. В то же время с учетом полиструктурности утопия и антиутопия воспринимаются не как различные жанры, а трактуются как два диаметрально противоположных ценностных отношения к утопическому миру, «проектируемому» социокультурной моделью. Поскольку выявление аксиологической позиции автора при атрибуции утопического жанра является концептуально значимым, функциональную важность обретает исследование тех форм, в которых мировоззренческие ценности писателя наиболее открыто декларированы, т.е. его мемуарного, эпистолярного и публицистического наследия.
Столь значимое для теоретического постижения утопии представление литературного творчества и культуры как игры отражено в бахтинской концепции «первичных» и «вторичных» жанров. Согласно М.М. Бахтину, «ог 10 ромное большинство литературных жанров - это вторичные сложные жанры, состоящие из различных трансформированных первичных жанров (реплик диалога, бытовых рассказов, писем, дневников и т.п.)». «Вторичные жанры» (сфера культурного письменного общения: наука, политика, литература), подобно «первичным» жанрам (сфера жизни), представляют собой «относительно устойчивый тип высказывания», имеющий свои «тематическое содержание, стиль и композиционное построение». Конечно, «вторичные» жанры только «разыгрывают различные формы первичного общения» (Медведев, 1993: 149; Бахтин, 1986: 470, 471, 428). По аналогии с бахтинским термином «вторичные» жанры, но в то же время акцентируя факт «погранич-ности» утопии, существующей в парадигме игры художественного мира и действительности, что наглядно отображает синтез науки, философии и искусства в структуре утопии, мы предлагает ее называть «третичным» жанром. В свете этого научная новизна нашей работы состоит, во-первых, в системном анализе литературной утопии в аспекте полиструктурности, как «третичного» жанра. Во-вторых, она предопределяется попыткой систематизации направлений литературоведческой утопиологии и типологии литературной утопии.
Эпоха, «предрасположенная» к панутопизму, не только отмечена всеобщим духовно-интеллектуальным, экономическим кризисом, нередко «переросшим» в ситуацию социокультурного слома, но и характеризуется тотальной эстетизацией жизни, всеобъемлющей игрой художественно-условного и реально-достоверного. Закономерности такой взаимосвязи социальной и эстетической утопии предопределены подобностью утопического, художественного и мифологического сознания. Рубеж XIX-XX вв. в России - это период панутопизма, обусловленного как затяжным социально-экономическим кризисом, катастрофически «разрешившимся» в трех революциях, так и крушением религиозной веры, спровоцировавшим расцвет оккультизма и мистики. Происходившая в тот период смена эпистемологической парадигмы, связанная со становлением неклассической науки, специфически прело 11 милась в падении интереса к миметическим искусствам. Поскольку в России данный процесс интерферировал с панутопизмом, это обусловило тот факт, что при становлении модернизма в символизме, как его первом и наиболее мощном проявлении, в литературе Серебряного века реконструировался романтический тип творчества. Этот тип творчества характеризуется как феноменом эстетической утопии, так и поведенческой моделью «человека-артиста», проявляющейся в пристрастии писателей к жизненным (биография-миф) и литературным (манипуляции с авторством) мистификациям. На уровне словесного искусства он обнаружился в особом интересе авторов рубежа ХІХ-ХХ вв. к стилизации, пародии, утопии и эстетскому формотворчеству (как игре в «другие эпохи» и «идеальный мир»). Что касается эстетической утопии, то в ситуации формирования «квантовой» модели бытия, базировавшейся на явлениях «исчезающей» материи, представлении Вселенной как:- движения энергетических потоков и утверждении относительности пространства и времени, ее идеологическим основанием стали идеи космизма, всеединства и синтетического метазнания. Для реализации этих эпохальных мифологем и «жизнетворчества» «человека-артиста» наиболее адекватной моделью стала театральная утопия. В ситуации «богоискательства» театр, синтезировавший все виды искусства, реконструировал свои сакральные истоки и предстал как средоточие священных ценностей. Так в Серебряном веке эстетическая утопия «сомкнулась» с мистической, ибо основным условием преобразования мироздания в ней утверждалась необходимость преображения человека, трансформации его этико-онтологического статуса. В связи с этим уместно отметить факт влияния «философии общего дела» Н.Ф. Фёдорова и учений о Софии и Богочеловечестве B.C. Соловьёва на становление панутопизма рубежа ХІХ-ХХ вв. в его национальном «изводе».
Так как структурообразующая в литературной утопии гипотетическая модель идеального мира и человека, выстраивающаяся как «контр-образ» с современности утописта, претендует на масштабность и универсальность, культурный контекст является важной «составляющей» при анализе этого «пограничного» жанра в любой национально-исторической ментальное™. Однако применительно к России 1900-1920-х гг. это должно быть жестким требованием, необходимым для глубинного и более успешного анализа литературной утопии, тогда как в отношении других стран и эпох «условие» культурного контекста может быть рассмотрено всего лишь как пожелание. Это предопределено особенностями русского культурного архетипа, сущностной чертой которого был духовно-интеллектуальный раскол между народом и интеллигенцией. Поэтому в русском утопическом дискурсе параллельно существовали народная утопия, ориентированная на милленаризм и общинное общежитие, и интеллигентская утопия, обращенная в своем генезисе к западноевропейскому рационализму. В данных обстоятельствах литературная утопия нередко являлась иллюзорно-игровым способом достижения культурного единства. Такова, к примеру, специфика литературной мифологии «подпольной России», созданной народниками и «богостроителями». В этой связи характерна попытка культурной самоидентификации, предпринятая творческой интеллигенцией Серебряного века, через понятие «русский Ренессанс». Свидетельствуя о необычайном расцвете во всех сферах духовно-интеллектуального творчества, тяготеющих в своей основе к былому религиозному синкретизму, это понятие было емко выразило основополагающую, владычествовавшую в ментальносте тех лет идею обновления России через Возрождение античной культуры, репрезентированной в культовом театре Дионисова Действа. Эта социокультурная мифологема специфически преломилась в утопиях В.И. Иванова, Н.Н. Евреинова, Ф. Сологуба, А. Белого, Ф.А. Степуна и др. Если элитарный Серебряный век создал прежде всего театрально-мистическую утопию, основывающуюся на идее преображения этико-онтологического статуса человека через трансформацию его сознания в процессе приобщения к метафизическим смыслам театрального действа, то народническая и марксистская утопии базировались на социокультурных мифологемах Просвещения. Поэтому именно в литературной утопии, - ввиду специфики этого «пограничного» жанра, осложненной национальными циональными представлениями о миссии русского писателя как «гражданина» и «совести нации», - преломилось как в капле воды сложное взаимодействие социокультурных мифологем Ренессанса и Просвещения. Таково значение литературной мифологии «подпольной России», «Санина» М.П. Арцыбашева, неромантических повестей и «Путешествия моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» А.В. Чаянова, поэзии «Пролеткульта» и творчества А.П. Платонова.
В связи с вышесказанным актуальность темы нашего диссертационного исследования обусловлена особенностями современной ситуации постмодернизма, основа которого заключается в филологической парадигме восприятия мира, в сущности, гомогенной феномену литературной утопии с ее особым типом вымысла, структурированного «обнаженным» приемом игры художественной и действительной реальностями, приводящей к «размытой» условности, отображающей демиургические притязания артистически самоутверждающегося человека. Феномен «человека-артиста», чья поведенческая модель отмечена ценностной амбивалентностью, в России формируется в Серебряный век, «визитной карточкой» панутопизма которого стала театральная утопия. Другой фактор, предопределяющий актуальность нашей работы, связан с попыткой развенчания вышеуказанных стереотипов литературоведческой утопиологии (толкование утопии и антиутопии как различных жанров и жанрообразований научной [социальной] фантастики; осмысление негативной утопии как жанра, содержащего в своей структуре те или иные виды комического, а также как формы, порожденной XX в.).
Трактовка литературной утопии как «третичного» жанра позволяет выявить воздействие на ее генезис и функционирование религиозных, философских, нравственных доминант, архетипов и мифов массового сознания. Поэтому ее исследование уместнее проводить комплексным методом, синтезирующим литературоведческие, культурологические, социологические, когнитивные методики анализа. Комплексность подхода к утопии порождает в XX веке утопиологию - «новое исследовательское направление» (Кирвель, 1989: 5), «изучающее историю, теорию, психологию и психопатологию общественного сознания» (Чаликова, 1994; 97). Обусловлена приоритетность комплексного подхода к литературной утопии как «пограничным» положением этого «третичного» жанра в культурном континууме, так и интеграционными процессами в методологии литературоведения XX столетия. Ибо современное литературоведение «активно взаимодействует с семиотикой, историей, философией, политологией» (Neue Literaturtheorien..., 1997: 111). Однако, несмотря на имманентно свойственный утопиологии комплексный метод, в работах, посвященных литературной утопии, на настоящий момент можно выявить несколько подходов. Их выделение условно и может быть объяснено попыткой систематизации методик анализа литературной утопии, пользующихся популярностью в литературоведческой утопиологии.
Литературоведческая утопиология о проблеме корреляции утопии, антиутопии, научной фантастики
Западные утопиологи, подчеркивая диалектику утопии и антиутопии в едином художественном целом произведения, вполне плодотворно используют в литературоведческом анализе термин «метаутопия». Наиболее полное обоснование это понятие получило в трудах Г. Морсона, который трактовал метаутопию как жаровое образование, в котором «утопия и антиутопия вступают друг с другом в предельно бесплодный диалог» (Morson, 1981: 111). В русле данной традиции истолкования метаутопии Д. Сувин, анализируя «Мы» Е. Замятина, говорил о «диалогичности» и «метаутопичности» этого романа, отмечая в его структуре «столкновение холодной и теплой утопии» (Suvin, 1979: 25). Как метаутопию характеризовал Г. Гюнтер «роман Платонова "Чевенгур" - отчужденный, даже загадочный текст» (Гюнтер, 1991: 252). Х.А. Мараваль в работе «Утопия и антиутопия в "Дон Кихоте"», в сущности, рассуждал о метаутопичности этого произведения, не используя сам термин. Он отмечал, что утопическое и антиутопическое в романе Сервантеса неотделимо друг от друга, и утопию «золотого века» воплощают пастухи, тогда как весь мир, окружающий «невозможного рыцаря» Дон Кихота, оказывается «территорией антиутопии» (Maravall, 1976: 233).
В свете западноевропейских представлений о метаутопии вызывает интерес позиция Б.А. Панина, автора многочисленных публикаций о русской литературной антиутопии, трактуемой им как «новый жанр» XX века1. Вместе с тем, «анатомизируя» и «типологизируя» антиутопический художественный мир, он постоянно отмечает в нем «рудименты» утопии. Во-первых, -. это «"матрешечная " композиция, или утопия в структуре антиутопии». Во-вторых, дихотомичность антиутопической стилистики и поэтики («все, что. можно найти в антиутопии статичного, описательного, дидактичного - от утопии»). В-третьих, пристальное внимание антиутопии к описанию предметного мира («Из утопии тянется эта нить предметов и вещей... загромож-: денность пространства различными устройствами и приспособлениями»). Наконец, в-четвертых, «пародийно или иронично процитированные» «внели-тературные жанровые включения... как рудименты карнавальных структур», из которых произошла утопия (Ланин, 1993b: 82). Думается, такое количество подмеченных исследователем «остаточных явлений» утопии в жанровой системе антиутопии обосновывает наличие между этими феноменами более тесных отношений, чем «просто взаимодействие» разных жанров. И утопические «рудименты» в структуре антиутопии являются восходящими к сакральным архетипам, мало подверженными модернизации приемами создания социокультурной модели идеального мира, «проверяемой» художественной реальностью произведения, оформленной по «законам» того или иного жанра. Причем «позитивность» или «негативность» в оценке этой социокуль турной модели обусловлена мировоззренческой позицией автора. Важным моментом в концепции Б.А. Ланина является указание на комбинаторность, полиструктурность антиутопической жанровой системы. Но в целом ланин-ская позиция органично вписывается в контекст стереотипов отечественной литературоведческой утопиологии.
Именно в отечественном литературоведении сложилась устойчивая традиция интерпретации утопии и антиутопии как двух жанров, различающихся структурно и временем своего возникновения: утопия - порождение XVI века, антиутопия - XXстолетия. И уяснению типологических особенностей поэтики этих жанров посвящено превалирующее большинство ра-бот . Выводы по жанровой поэтике утопии и антиутопии в работах различных исследователей дублируются, превращаются в клише. Такими стереотипами стали констатации (1) социоцентричности утопии и персоналистично-, сти антиутопии; (2) статичности, бесконфликтности и описательности, бессобытийности и риторической диалогичности в развитии сюжета утопии и авантюрно-психологической динамичности как сюжетообразующего начала антиутопии. Сюда же можно отнести рассуждения (3) о локальности, замкнутости, изолированности пространства идеального мира; (4) об окостенелости социальной структуры, ее строгой иерархичности и унифицирующем подходе к членам «единого государства» как в утопии, так и в антиутопии; (5) о ритуализации жизни в художественных мирах обоих жанров. Но в антиутопии обрядная размеренность жизни обогащается динамичным личным временем героя, которое обусловливает «перипетийную» динамику развития сюжета. Как видим, большинство характеристик жанровой поэтики касается определения специфики социокультурной модели утопического мира.
В связи с этим нередко литературоведческий анализ художественного текста подменяется философско-социологическим подходом к нему. Например, О.В. Быстрова, движимая стремлением «наглядно показать отличие и сходство утопии и антиутопии», создает «сравнительную таблицу», состоящую из шести ступеней-оппозиций, первый член которой характеризует утопию, второй - антиутопию. Получается следующая схема соответствий: «в утопии не только планы идеального государства, но и прямая критика современного государства» - «антиутопия тоже форма критики, она направлена одновременно и против чрезмерных ожиданий, и против чудовищных проявлений социальности»; «рисуется мир всех для всех» - «мир дан через чувства одного обитателя»; «показано государство демократии» +- «присутствует единоличная власть»; «утопия не подавляет свободу личности» - «для свободы личности нет места»; «равенство граждан» -» «унификация»; «счастье не может надоесть» -» «счастье недостижимо». Далее указываются общие качества утопии и антиутопии как двух различных жанров. Первое относится к логике как основе любого анализа («общие методы: интуиция, экстраполяция, аналогия»), второе - к «межжанровым» взаимодействиям, которые просто утверждаются, но не анализируются («имеют много общего с мифом, с социальной сатирой, с научной фантастикой») (Быстрова, 1993: 9). Очевидно, что О.В. Быстровой утопия и антиутопия рассматриваются не с литературоведческих позиций, а как превращенная форма социального идеала, т.е. выявляются исключительно качественные особенности модели идеального мира. При этом наличествует фактическая неточность: утопическое идеальное общество - отнюдь не воплощение демократии и абсолютного равенства, вспомним хотя бы институт рабства в «Утопии» Т. Мора. Пожалуй, единственной чертой жанровой поэтики антиутопии, отмеченной в работе О.В. Быстровой, явилось указание на особый ракурс изображения идеального государства - «через чувства его единственного обитателя», однако этот тезис так и не был развит, остался на уровне констатации.
Типология литературной утопии в аспекте полиструктурности
Достаточно часто утопиологи, предпринимая попытку типологизировать жанровое своеобразие литературной утопии, используют две схемы характеристики, определяя ее как модель или как «комбинированный» («синтетический») жанр. При этом, оговаривая факт сложности интерпретации жанровой специфики утопии, литературоведы нередко обращаются к описанию ее полиструктурности. Так, П. Парриндер полагает, что в основе литературной утопии, являющейся жанровой разновидностью SF, лежит «комбинация четырех жанров - романа, эпоса, притчи и пародии» (Парриндер, 1988: 176). Л. Геллер констатирует, что структура утопии организуется жанровым синтезом «философского и социально-политического трактата», НФ и «остросюжетной историко-приключенческой схемы», почерпнутой из «романной формы» (Геллер, 1985: 11, 27). В парадигме синтеза определяет литературную утопию Н.Г. Медведева. «Разрабатывая социологические, прогностические идеи, - считает она, - утопия становится "синтетическим жанром", занимающим пограничное положение между литературой и общественными науками» (Медведева, 1990: 10). На основе взаимопроникновения «утопии, ухронии и социальной фантастики» Л. Клеберг и В.А. Чаликова анализируют поэтику «Мы» Е. Замятина (Kleberg, 1984: 219; Чаликова, 1998:149).
Однако пальму первенства в осмыслении специфики полиструктурности утопии занимает жанр романа, утверждаемый исследователями как некое основание для объединения других жанровых систем. Об этом пишет подавляющее большинство утопиологов. К примеру, подчеркивая близость художественной формы классической утопии научному трактату, отмечают тем не менее, что это «особый жанр, перерастающий в утопический роман лишь на грани XVIII в.» (УР, 1971: 34). В русле этого подхода Э. Вагельманс утверждает, что жанр «Путешествия в землю Офирскую» М.М. Щербатова комбинаторен, строится на соединении «утопии автора-моралиста» и «штам- , пов литературы романов путешествий» (Вагельманс, 1989: 108). Изучающая литературу французского Просвещения М.В. Разумовская оперирует термином «роман-утопия». Она убеждена, что «просветительский роман-утопия», будучи «одним из воплощений философско-художественной мысли о справедливых законах общежития», ко второй половине XVIII века уже сложился $ как жанровый инвариант1 (Разумовская, 1989:47).
Но наиболее часто жанр романа упоминается в связи с уяснением особенностей жанровой поэтики негативной утопии. Трактовка антиутопии как «синтетического» жанра, структурообразующим началом в котором выступает роман, стала «общим местом» многих литературоведческих работ. Об этом писали Н.Н. Арсентьева, О.В. Быстрова, Т.А. Каракан, Б.А. Ланин, А.Ф. Любимова, О.Н. Николенко, СВ. Никольский, В.К. Олейник, В.Л. Терёхин, А.В. Тимофеева, В.А. Чаликова, К.О. Шахова, П.Е. Фирчоу, М. Шефер и др. Иногда утопия рассматривается как жанровая разновидность романа. Этой позиции придерживаются А.Е. Ануфриев, Г.П. Баран, О.В. Зюлина, М.Н. Капрусова, И.Э. Клейман, Н.З. Кольцова, Н.Г. Медведева, В.А. Нечипоренко, Т.В. Разумовская, Ю.А. Решетникова, А.Л. Семёнова, Н.Р. Скалой, И.Ф. Такиуллина, С.Г. Шишкина, Г. Морсон, А. Петруччани и др. В рамках этой трактовки отмечают «обилие антиутопических романов, наводнивших периодику» в 1990-е годы (Каракан, 1992: 157), либо предлагают называть негативные утопии «романами-предостережениями», поскольку «утопия умерла в XX в.», а этот жанр «родился на грани XIX и XX вв. и умрет не скоро», так как содержит «болезненное наслаждение мрачных пророчеств ... о победоносном вторжении научно-технического прогресса в косный мир» (Стругацкие, Internet).
Итак, одним из стереотипов утопиологии является толкование антиутопии одновременно и как отдельного жанра, и как романа. Например, Ю.О. Кагарлицкий попеременно трактует антиутопию то как роман, то как жанр, возникший «в начале XX века из осознания сложной диалектики прогресса», «органично совмещающий в себе многие черты: критику настоящего, изображение пессимистических вариантов будущего, критику тех или иных утопических представлений» (Кагарлицкий, 1974: 298, 299, 297). Антиутопию называют также «жанровой разновидностью современного романа» (Шахова, 1992: 61) или «новым романным жанром, зародившемся в XX веке» (Арсентьева, 1993: 2). Осмысление антиутопии как жанровой разновидности , романа также достаточно широко представлено за рубежом. Так, Г. Гюнтер, анализируя поэтику «Чевенгура» А. Платонова, именует это произведение то «метаутопией», то «романом», применяя данные термины как синонимы (Гюнтер, 1991: 252). Американский ученый убежден, что «роман особенно тяготеет к антиутопии» (Морсон, 1991: 236). А. Нойзюсс и Х.А. Мараваль отмечают, что приоритетная художественная форма утопии - «романный жанр» (Neususs, 1971:14; Мараваль, 1991:220).
В связи с этим интересна концепция В.А. Тимофеевой, рассматривающей антиутопию как «своеобразный синтез двух самостоятельных жанров» -утопии как некоего гипотетического проекта идеального социума, и романа, сосредоточивающего внимание на личности. «Антиутопия, - отмечает она, -описывает общественное устройство не существующее реально, но созданное в воображении художника (что роднит ее с утопией), и то влияние, которое это общество оказывает на развивающуюся (как в романических произведениях) и пытающуюся бороться личность» (Тимофеева, 1993: 246). Как видим, В.А. Тимофеева стремится проиллюстрировать «перерождение» позитивной утопии в негативную, исходя из концепции жанрового синтеза как структурной основы литературной утопии, при этом движущей силой этой трансформации правомерно признается жанр романа.
Однако литературная утопия во всех своих разновидностях бытийствует не только в форме романа, правда, достаточно распространенной. Существует она также как «фабульный фрагмент, введенный в ткань других литературных произведений» (Мараваль, 1991: 220), причем отлитых в форму различных жанров. И подобная форма в традиции русской классической литературы весьма востребована. Достаточно вспомнить IV сон Веры Павловны из романа Н.Г. Чернышевского «Что делать?»; сон Ильи Ильича из романа «Обломов» И.А.Гончарова; сказание о граде Китеже из романа «В лесах» П.И. Мельникова (А. Печёрского), сон Версилова из «Подростка», монологи Шигалёва из «Бесов», «Легенду о Великом инквизиторе» из «Братьев Карамазовых» Ф.М. Достоевского; рассказ Савелия - «богатыря святорусского» о «досюльних» временах из поэмы-эпопеи Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»; мечтания о «светлом и прекрасном» будущем героев пьес А.П. Чехова (монологи Вершинина, Ольги из драмы «Три сестры», Пети Трофимова - из комедии «Вишневый сад») и др. Иногда в качестве художественно-формообразующего начала вместо романа, традиционного для утопии, выступают иные жанры, причем всех трех литературных родов - лирики (русская масонская поэзия - поэмы «Любовь» М. Дмитриева-Мамонова, «Душечка» И. Богдановича), эпоса («Рассказ смешного человека» Ф.М. Достоевского, повесть М.А. Булгакова «Собачье сердце»), драмы («Адам и Ева» М.А. Булгакова).
Модели театральной утопии русского модернизма
В парадигме мифологемы «русского Ренессанса» театр, преобразующий мироздание, мыслился В.И. Ивановым как возрождение на русской почве действа Диониса1. Благодаря этому его театральная утопия органично вписывается в панутопический контекст Серебряного века, отображая эпохальное увлечение античностью. Впервые о необходимости возрождения культового театра заговорили В.В. Розанов и Д.С. Мережковский. Последний подготовил перевод трагедии Еврипида «Ипполит» и разработал план ее постановки. Во вступительном слове к премьере, состоявшейся в Александрийском театре 14 октября 1902 года, Д.С. Мережковский подчеркнул необходимость возрождения в современном театре жанра мистерии, увидев в античной трагедии некие «вечные» смыслы, которые способны помочь восстановить сакральный статус культуры2. Но, так как панэстетизм Серебряного века предопределил культ игры и карнавальной стихии, мифомышление которой характеризует амбивалентная аксиология, то в реальности обращение к мифологическим сюжетам зачастую оборачивалось трагифарсом или стилизацией.
Литературная мода на стилизацию античных трагедий реализовалась в творчестве В.И. Иванова («Тантал», «Ниобея», «Прометей»), И. Анненского («Меланиппа-философ», «Царь Иксион», «Лаодамия»), В.Я. Брюсова («Про-тесилай умерший») и Ф. Сологуба («Дар мудрых пчел»). Попытки возродить мистерию не ограничивались обращением исключительно к античному «материалу», так как нередко задействовались Библейские притчи и апокрифы, которые в структуре произведения причудливо соединялись со славянской мифологией. Так поступил A.M. Ремизов в мистерии «Бесовское действо» и «Трагедии о Иуде, принце искариотском» (1910). Но античные мифы все-таки были бесспорным лидером в «рейтинге» мифологических сюжетов, раз-рабатываемых авторами Серебряного века .
Основной чертой «театра будущего» в мистико-эстетической утопии В.И. Иванова является то, что он предстает реконструкцией Дионисова действа, через мифотворчество, хор и орхестру превращающего разрозненную людскую среду в единую общину4. В качестве источников театрально-мистической утопии В.И. Иванова, думается, необходимо назвать, во-первых, соловьёвские учения о Софии, «всеединстве», «Богочеловечестве» и искусстве как теургии5; во-вторых, ницшеанскую идею оправдания мира как эстетического феномена и его теорию художника, пребывающего в диони-сийском экстазе и возвращающего искусство и жизнь «на круги своя» мифо творчества. Но подлинным заимодавцем идей для театральной утопии В.И. Иванова предстала эстетическая утопия Р. Вагнера, в которой были декларированы идеи и ценности, впоследствии ставшие мифологемами театрально-мистической утопии В.И. Иванова, - всенародность и «вселенская» соборность, религиозно-культурный синтез и мифотворчество, «религиозная революция» и необходимость возрождения античной трагедии как оптимальной формы для реализации этих качеств6.
В своей театрально-мистической утопии В.И. Иванов утверждает «единственную верность эллинской формы», провозглашая, что только «чрез святилища Греции ведет путь к той Мистерии, которая толпы... претворит... в живое Дионисово тело» (Иванов, 1994: 36). С возрождением культового театра Диониса он связывает возможность создания идеального демократического общества. Для него «борьба за демократический идеал синтетического Действа» - это «борьба за орхестру и соборное слово», главное условие осуществления «театра будущего» он видит в «восстановлении орхестры» (Иванов, 1994: 36, 48). Исходя из того, что в трагедиях Эсхила и комедиях Аристофана орхестра «утверждалась и как мирская сходка», которой «были живы совет Ареопага и гражданское вече Пникса», В.И. Иванов истолковывает эту часть структуры античного театра в политическом и мистическом смыслах. Он убежден, что в орхестре, являющейся «органом хорового слова», происходит - через сакральное искусство - мистическое обоснование демократии. «И формы всенародного голосования, - подчеркивает В.И. Иванов, -внешни и мертвы, если не найдут идеального фокуса и оправдания в соборном голосе орхестры». Продолжая линию сакрализации процесса демократического голосования, он проводит параллели между античной орхестрой и русскими реалиями: «Хоровой голос орхестры естественно является фокусом народного голосования, а восстановление исторических прав мирян в приходе роднит последний с миром земской общины и с хором общины пророче-ственной (или орхестры)» (Иванов, 1994: 36; 1905: 39). Орхестра как «мирская сходка» выступает своего рода «архетипом» земской общины, а орхест pa как «община пророчественная» является прообразом церковного «прихода». В итоге театрально-мистические искания В.И.Иванова смыкаются с утопическими чаяниями славянофилов. Но, несмотря на то, что все характеристики идеального демократического общества в утопии В.И. Иванова сводятся к концепту «соборности» (Rosenthal, 1992: 149-151), в его интерпретации понятие «общины» как основы демократии имеет специфический смысл. Для него община - это лишь «внешняя форма соборной связи», объединяющая в «союз мистического избрания» людей, исповедующих одну и ту же цель «древней борьбы с миром» (Иванов, 1994: 59, 24). Как видим, в таком сообществе лично-индивидуальное растворено не столько в гражданском, сколько в религиозно-мистическом. Прообразами такой общины могут быть монастыри или секты. Однако такого рода «мистические союзы» в утопии В.И. Иванова - лишь переходный этап на пути к «вселенской соборности».
Категория «вселенской соборности», чрезвычайно объемная по своей смысловой наполненности и нигде не конкретизируемая В.И.Ивановым, в рамках его утопии коррелирует (вплоть до отождествления) с такими концептами, как «мистический энергетизм», «мистический анархизм», «мистика» и «сверхиндивидуализм». Думается, прав Г.В. Обатнин, пришедший к выводу, что «социальные теории Иванова продуктивнее всего выводить из его... концепции человеческого сознания, из его взглядов на саму возможность религиозного опыта» (Обатнин, 2000: 13). Но утопический дискурс в творчестве В.И. Иванова не просто имеет антропологическую парадигму (что в целом характерно для элитарного панутопизма Серебряного века), - он интровертен и метафизичен по своей сути. Потому для поэта-мистагога не является оксюмороном выражение «иррелигиозный мистик», ибо мистика им рассматривается как «утверждение свободы моего истинного я в отношении ко всему, что ве-я истинное», т.е. это свобода мистического самоопределения (богообретения), понятого как «сфера последней внутренней свободы» (Иванов, 1994: 54, 56).
Милленаризм и просветительские мифологемы как основа мистической утопии А.П. Платонова: эволюция аксиологии
К 1919 г. «Пролеткульт» имел по стране разветвленную сеть провинциальных филиалов со своими печатными органами, к числу которых относились журналы «Грядущая культура» (Тамбов), «Зарево заводов» (Самара), «Красное утро» (Орел) и мн. др.1. Начало творческого пути А. Платонова отмечено активным сотрудничеством с «Пролеткультом», в изданиях которого публикуются его первые произведения . Думается, среди «пролеткультовских» корифеев для раннего А.П. Платонова наиболее авторитетным было имя А. Гастева. Многие стихотворения платоновского сборника «Голубая глубина» тематически перекликаются с произведениями «Поэзии рабочего удара» А. Гастева, причем даже на уровне совпадения заглавий: например, «Гудок», «Мысль», «Молот» (Гастев, 1918: 7-8, 23, 102; Платонов, III: 489-490, 495-496, 493). Это можно было бы объяснить общностью их принадлежности к маргинальной культуре первых советских лет, но тематические соответствия находят продолжение в образно-семантической структуре произведений обоих авторов. В поэтическом универсуме А.П. Платонова порой воссоздаются ситуации, парафразовые гастевской машинизации космоса, знаменующей утопическое рождение «нового мира». Так, лирический герой стихотворения «Вселенной» заявляет: «Мы усталое солнце потушим // Свет иной по вселенной зажжем, // Людям дадим мы железные души, // Планеты с пути сметем». В «Динамо-машине» возникает образ пролетариата, по-гастевски «выросшего из железа» и онтологически неотделимого от механизма, ставшего его душой: «Мы не молимся, не любим, не умрем, как и родились, у железного лица» (Платонов, III: 492, 498). Публицистические рассуждения А.П. Платонова о «нормализованных» работниках повторяют основные мифологемы технократических манифестов А. Гастева. Как и теоретик ЦИТ а, он исходит из того, что «станки и мастерские научили человека вливать свои одинокие силы в мощный поток организованных усилий» (Платонов, 1990b: 39). По А.П.Платонову, «часто машины даже выше человека», так как «они не знают утомленности, перебоев работы (а скоро забудут и износ)» (Платонов, 1990у: 60). Строительство «настоящего коммунизма» он связывает с развитием техники, считая ее «новым евангелием». Он намерен «перенести технику в работу души человека, развивать мысль до конца», чтобы «в нас рождался и светился ослепительный сатана - сознание, которое будет тем рычагом, каким человек приподнимет и изменит вселенную» (Платонов, 1990s: 174). В свете этого «нормализованная гайка есть лучший кусок социализма», а «нормализованный работник - лучший коммунист» (Платонов, 1990о: 135, 137).Эти интертекстуальные переклички с работами А. Гастева способствовали тому, что в платоноведении возник миф о технократизме писателя как сущности его утопии. «Выстраивая проект переоборудования земли, - убеждена Н.П. Хрящева, - Платонов делает ставку на технику... его интересует процесс технизации человеческого сознания» (Хрящева, 1998: 50). В.В. Симонов и Н.К. Фигуровская вообще связывают воедино имена А. Гастева и А. Платонова, называя обоих «приверженцами идеи "нормализации" человека» (Симонов, 1988а: 80). Мы полагаем, что писатель не разделял технократического императива А. Гастева. В статье «Нормализованный работник» (1920) А.П. Платонов утверждает, что на основе научного знания «характера (психофизиологии) трудящихся личностей» и «всех областей труда» можно «найти наибольшее соответствие» между ними и «путем целесообразного воспитания создать строго определенные рабочие типы». Казалось бы, он тезисно излагает теорию «нормализации сознания». Однако если для А. Гастева важно то, что формируется «единая голова» и «механизированный коллектив», то для А. Платонова значимо гармоническое «слияние производственного процесса с физиологическими нормальными функциями человека» и «рождение» коллектива как «единого организма земной поверхности, одного борца и с одним кулаком против природы» (Платонов, 1990о: 136-137). Значит, если у А. Гастева происходит фетишизация роли машины в формировании сознания «нового человека», превращающегося в «социальный автомат» и уподобляющегося механизму, то у А. Платонова процесс обратный: совершается «органика», т.е. одухотворение машины, возникшей благодаря труду как воплощению «души человека» (Платонов, 1990у: 61).
В сюжете об «Институте смазочных масел», где один «гуманист» «открыл электрический способ облагораживания характеров людей» (ЗК, 2000: 17, 219), А. Платонов пародирует идею машинизации человека3. Но иногда А. Платонов сакрализует взаимоотношения человека и машины: «Летчик в воздухе один с машиной, как монах, как святой техники» (ЗК, 2000: 12, 155). Подобное происходит вследствие того, что, в отличие от технократора А. Гастева, А. Платонов не человека уподобляет машине, а наоборот, наделяет машину душой, уподобляя ее человеку. И этот машинный «анимизм» прослеживается по протяжении всего его творчества. Так, в «Чевенгуре» мастер-наставник ценит машины гораздо выше людей, «ревнует к посторонним паровозы, считая свое чувство к ним личной привилегий». Машина превращается в железного идола машиниста: «Наставник долго смотрел на паровоз и наполнялся обычным радостным сочувствием. Паровоз стоял великодушный, громадный, теплый на гармонических перевалах своего величественного высокого тела. Наставник сосредоточился, чувствуя в себе гудящий безотчетный восторг». Величественный образ машины подчеркивает могущество человеческого осмысленного труда, сотворившего ее, ибо «человек - начало всякого механизма» (Платонов, 1988:199,217-218).
Ранняя лирика А. Платонова запечатлевает процесс рождения машины в труде человека, движимого поиском тайны мироздания и стремящегося раскрыть ее в своей работе, преобразующей «вещество» вселенной. Показательно в этом отношении стихотворение «Динамо-машина», лирический герой которого заявляет: «Почерневшими руками // Смысл мы сделаем из тьмы». Человек, преобразуя мир при помощи созданной им машины, качественно преображается сам. Именно поэтому в труде возникает ценностная неотделимость человека от его творения - машины: «Мы отцы, и мы же дети, // Мы взрываем и творим. // Мы испуганные жили, и рожали, и любили, // Но мы сделали машину, оживили раз железо,//Душу божью умертвили,//Кожа старая с нас слезла». Образ грандиозной «динамо-машины», пересотворяю-щей природу, а значит, и человека, создается при помощи ряда олицетворений: «Из железа сила встала, // Дышит миллионом волн. // Из таинственных колодцев // Вверх, на горб машины с пеньем // Вырываются потоки - там живое сердце бьется, // Кровь горячая и красная бьет по жилам в наступленье». Сущностное единство человека и машины, согласно А.П. Платонову, обусловлено тем, что их онтологическая природа частично тождественна, так как единая сила и одухотворяет машину, и дает человеку «новую жизнь»: «Без души мы и без бога и работаем без срока, // Электрическое пламя нам иную жизнь отлило» (Платонов, III: 498). Машина уподобляется человеку потому, что осмысливается А.П. Платоновым как соединение «вещества» земли и энергии, источником которой является как Солнце, электричество, так и «мысль человека, ставшая богом» (Платонов, III: 496). В стихотворении «Мысль» события эпического масштаба отлиты в малую лирическую форму.