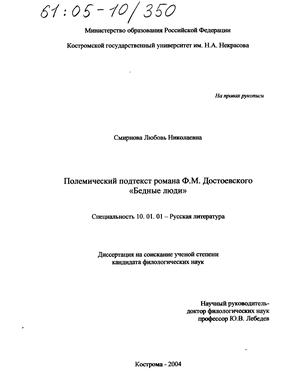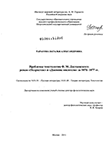Содержание к диссертации
Введение 1
Глава 1. Ф.М. Достоевский и утопический социализм (к вопросу о формировании социально-философских убеждений писателя) 28
Глава 2. Идейно-художественная функция центральной фабульной линии романа Ф.М. Достоевского «Бедные люди» 74
Глава 3. «Дневник» в контексте романа Ф.М. Достоевского «Бедные люди» 105
Глава 4. Значение истории Горшкова в сюжетно-смысловой структуре романа «Бедные люди» 123
Глава 5. Идеологическое содержание истории благодеяния «его превосходительства» в контексте романа «Бедные люди» 139
Заключение 161
Библиографический список использованной литературы 172
Введение к работе
Уже в первых откликах на роман Ф.М.Достоевского «Бедные люди» наметились два подхода к его осмыслению. Критика была единой в определении жанра этого произведения как романа социально-психологического, но при этом одни делали акцент на социально-обличительном звучании «Бедных людей», а другие - на социально-психологическом.
Известно, что Григорович и Некрасов - первые читатели этого романа, просидев над ним целую белую ночь, явились ранним утром на квартиру Белинского с радостной вестью: «Новый Гоголь явился!»
Гоголь был в это время кумиром писателей, группировавшихся вокруг Белинского и получивших с лёгкой руки Ф.В.Булгарина укоренившееся за ними прозвище писателей «натуральной школы». Гоголя они воспринимали, вслед за Белинским, как писателя обличительного направления, обнажающего пороки и язвы противоестественного социального устройства общества и призывающего к решительному изменению существовавших в России общественных отношений. Именно в этом ключе прочёл и торжественно оценил роман В.Г. Белинский. Ещё до личного знакомства с Достоевским, он заявил П.В.Анненкову, рекомендуя «Бедных людей»: «Это роман начинающего таланта: каков этот господин с виду и каков объём его мысли - ещё не знаю, а роман открывает такие тайны жизни и характеров на Руси, которые до него и не снились никому. Подумайте, это первая попытка у нас социального романа, и сделанная притом так, как делают обыкновенно художники, т.е. и не подозревая и сами, что у них выходит ... . Вот и всё, -а какая драма, какие типы!» (1; 258).
Исключительную силу таланта молодого Достоевского критик отметил и при первом свидании с ним: «Он заговорил пламенно, с горящими глазами: «Да вы понимаете ль сами-то, ... что вы такое написали!» ... «Вы только непосредственным чутьём, как художник, это могли написать, но осмыслили ли вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы нам указали? Не может быть, чтобы вы в ваши двадцать лет уж это понимали. Да ведь этот ваш несчастный чиновник - ведь он до того заслужился и до того довёл себя уже сам, что даже и несчастным-то себя не смеет почесть от приниженности и почти за вольнодумство считает малейшую жалобу, даже право на несчастье за собой не смеет признать, и когда добрый человек, его генерал, даёт ему эти сто рублей - он раздроблен, уничтожен от изумления, что такого, как он, мог пожалеть «их превосходительство», как он у вас выражается! А эта оторвавшаяся пуговица, а эта минута целования генеральской ручки,- да ведь тут уж не сожаление к этому несчастному, а ужас, ужас! В этой благодарности-то его ужас! Это трагедия! Вы до самой сути дела дотронулись, самое главное разом указали. Мы, публицисты и критики, только рассуждаем, мы слова ми стараемся разъяснить это, а вы, художник, одною чертой, разом в образе выставляете самую суть, ... чтоб самому нерассуждаю щему читателю стало вдруг всё понятно! Вот тайна художественности, вот правда в искусстве! Вот служение художника истине! Вам правда открыта и возвещена как художнику, досталась как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным и будете великим писателем!» (16; 26, 454-483).
В 1846 году, в обстановке всеобщего внимания публики к роману, Белинский в «Петербургском сборнике» Некрасова дал развёрнутую оценку «Бедных людей». Критик отметил непосредственную силу таланта Достоевского, указав, что «это талант необыкновенный и самобытный, который сразу, ещё первым произведением своим, резко отделился от всей толпы наших писателей, более или менее обязанных Гоголю направлением и характером, а потому и успехом своего таланта». В.Белинский подчеркнул «простоту» и «обыкновенность» построения романа; указал на горячее сочувствие автора его бедным героям, на глубокое понимание им «трагического элемента» изображаемой жизни. «Смешить и глубоко потрясать душу читателя в одно и то же время, заставить его улыбаться сквозь слёзы, - какое уменье, какой талант! И никаких мелодраматических пружин, ничего похожего на театральные эффекты! Всё так просто и обыкновенно, как та будничная, повседневная жизнь, которая кишит вокруг каждого из нас и пошлость которой нарушается только неожиданным появлением смерти то к тому, то к другому!» (3; 9, 553). Характеризуя главного героя романа, Белинский заметил, что «писатель в лице Макара Алексеевича показал нам, как много прекрасного, благородного и святого лежит в самой ограниченной натуре» (3; 9, 553). Приветствуя эту «гуманную мысль» «Бедных людей», критик восторженно восклицал: «Честь и слава молодому поэту, муза которого любит людей на чердаках и в подвалах и говорит о них обитателям раззолоченных палат: «Ведь это тоже люди, ваши братья!» (3; 9, 554). В своей статье Белинский сочувственно выделил образы старика Покровского, Горшкова, эпизоды с нищим, с шарманщиком, сцену с оторвавшейся пуговкой, раскрывающую социальное неблагополучие бедного человека. В целом же роман был отмечен критиком как «превосходный», требующий «не только чтения, но и изучения». Молодому писателю было предречено великое будущее.
В таком же социально-обличительном ключе роман «Бедные люди» оценили друзья и единомышленники В.Г.Белинского: Н.А.Некрасов, А.И.Герцен, Д.В.Григорович, отметившие социальный пафос романа и утвердившие его в качестве программного произведения для «натуральной школы». В этом же аспекте прочёл и оценил «Бедных людей» Н.А.Добролюбов, идеологический последователь и сторонник социальной концепции В.Г.Белинского. В 1861 году в статье «Забитые люди» он, в связи с критическими замечаниями по поводу «послекаторжного» творчества Достоевского (в частности, по поводу «Униженных и оскорблённых»), возвращается к ранним произведениям писателя и предлагает читателям вновь обратить внимание на уже позабытый роман «Бедные люди». Прежде всего критик отметил «одну общую черту» всего к этому моменту написанного Ф.М.Достоевским - «боль о человеке, который признаёт себя не в силах или, наконец, даже не в праве быть человеком настоящим» (12; 7, 242). Характеризуя «Бедных людей», Добролюбов пишет: «Господин Достоевский в первом же своём произведении явился замечательным деятелем того направления, которое назвал я по преимуществу гуманическим. В «Бедных людях» ... господин Достоевский со всею энергией и свежестью молодого таланта принялся за анализ поразивших его аномалий нашей бедной действительности и в этом анализе умел выразить свой высоко гуманный идеал» (12; 7, 243). Подчёркивая кровную взаимосвязь творчества раннего Достоевского с гоголевской традицией, критик отмечает, что, подобно Гоголю, который «изображал своим могучим словом «бедность да бедность, да несовершенство нашей жизни», осмысливает свою творческую задачу и юный автор «Бедных людей». Вслед за Белинским, главным художественным открытием Достоевского Добролюбов считает способность автора отыскать и показать «в забитом, потерянном, обезличенном человеке ... живые, никогда не заглушимые потребности человеческой природы, ... в самой глубине души запрятанный протест личности против внешнего, насильственного давления» (12; 7, 244). Продолжая эту мысль, критик отмечает: «От него (Достоевского. - С.Л.) не ускользнула правда жизни, и он чрезвычайно метко и ясно положил грань между официальным настроением, между внешностью, форменностью человека, и тем, что составляет его внутреннее существо, что скрывается в тайниках его натуры и лишь по времена м, в минуты особенного, мельком проявляется на поверхности» (12; 7,245).
В связи с тем, что в «Бедных людях» В.Г.Белинский и его друзья-единомышленники ценили в первую очередь социально-обличительный их аспект, дальнейшее творческое развитие Достоевского вызвало у них полное непонимание и недоумение. Ведь в повести «Двойник» Достоевский далеко ушёл от обрисовки социальных обстоятельств жизни «маленького человека», бедного чиновника, и сосредоточил главное внимание на анализе его внутреннего мира, на противоречиях в его психологии.
Давая оценку этого произведения, Белинский писал: «судя по «Бедным людям», мы заключили было, что глубоко человеческий и патетический элемент, в слиянии с юмористическим, составляет особенную черту в характере его (Достоевского. - С.Л.) таланта; но прочтя «Двойника», мы увидели, что подобное заключение было бы слишком поспешно (3; 9, 551). Как на «существенный недостаток» повести критик указал на её «фантастический колорит». «Фантастическое в наше время может иметь место только в домах умалишённых, а не в литературе, и находиться в заведовании врачей, а не поэтов», - отмечает Белинский (3; 10,41).
Крайне отрицательно отнеслись к «Двойнику» многие последователи Белинского. Строго осудил «фантастический колорит» повести Некрасов. Как редактор он даже правил рукопись статьи Белинского «Взгляд на русскую литературу в 1846 году», стараясь усилить в ней критическую оценку творчества Достоевского.
Сторонников «натуральной школы» интересовало прежде всего внимание писателя к социальному неблагополучию человека, к тем переживаниям, которые возникают вследствие бедности и неравенства.
Отсутствие в «Двойнике» широкого социального фона и анализа реальных жизненных истоков стало, по мысли В.Г.Белинского и его единомышленников, причиной того, что при всей оригинальности замысла в этом произведении автору не удалось достичь художественного уровня первого романа.
Обнаружившееся непонимание привело в конце концов к полному разрыву Достоевского с кружком Белинского.
Иные акценты в осмыслении «Бедных людей» сделал В.Н.Майков, по характеру своего мировоззрения близкий к петрашевцам. Он первый разъяснил значение глубокого психологизма Достоевского и сосредоточил главное внимание на том, что отличало роман Достоевского от сложившихся в умах его современников представлений о главном пафосе творчества Гоголя. В статье «Нечто о русской литературе в 1846 году» Майков, сопоставляя Гоголя и Достоевского, писал, что хотя «произведения г. Достоевского упрочивают господство эстетических начал, внесённых в наше искусство Гоголем ... тем не менее манера г. Достоевского в высшей степени оригинальна и его меньше, чем кого-нибудь, можно назвать подражателем Гоголю». «...Гоголь, - отмечал критик, - поэт по преимуществу социальный, а г. Достоевский по преимуществу психологический. Для одного индивидуум важен как представитель известного общества или известного круга; для другого самое общество интересно по влиянию его на личность индивидуума ... . Собрание сочинений Гоголя можно решительно назвать художественной статистикой России. У г. Достоевского также встречаются поразительно художественные изображения общества, но они составляют у него фон картины и обозначаются большею частью такими тонкими штрихами, что совершенно поглощаются огромностью психологического интереса. Даже и в «Бедных людях» интерес, возбуждаемый анализом выведенных на сцену личностей, несравненно сильнее впечатления, которое производит на читателей яркое изображение их среды» (115; 180). Выдвижение на первое место интереса к человеческой личности и анализа влияния на неё общества верно определяло основу творческого метода Достоевского. В.Н.Майков вообще считал «психологический анализ важнейшей потребностью эпохи». Именно поэтому, наверное, «Двойник» он поставил выше «Бедных людей», подчёркивая что в «Двойнике» «манера г. Достоевского и любовь его к психологическому анализу выразилась во всей полноте и оригинальности. В этом произведении он так глубоко проник в человеческую душу, .. • что впечатление, производимое чтением «Двойника» можно сравнить только с впечатлением любознательного человека, проникающего в химический состав материи» (115; 181-182).
Однако и для В.Н.Майкова, социалиста по своим убеждениям, творчество раннего Достоевского укладывалось в рамки социально-психологического направления.
Отсюда и пошла традиция полного игнорирования скрытого в романе Достоевского идеологического содержания. В большинстве исследований о Достоевском, написанных в 20 веке, роман «Бедные люди» рассматривался как социально-психологический, но с разными акцентами в определении его основной доминанты. Большинство исследователей делали акцент на социально-обличительном его звучании. Ход рассуждений исследователей, при этом, был таким: проникая изнутри в психологию «маленького человека», обнаруживая за его внешней убогостью, стушёванностью богатое внутреннее содержание, Достоевский бросал тень на те ненормальные отношения, которые были враждебны открытому писателем богатству внутреннего мира страдающей личности. При этом противоречия личности всячески смягчались, «гуманизировались».
Наиболее полно выдержана в рамках такого направления точка зрения на роман В.Ермилова. Вслед за Белинским он в «маленьком человеке» подмечает «много прекрасного, благородного и святого»: «...пафос «Бедных людей» заключается в том, что худшие, с точки зрения «общества» последние люди оказываются духовно лучшими людьми этого общества. Впервые в литературе была так изнутри, так подробно раскрыта духовная жизнь обездоленных людей, впервые она была так опоэтизирована, впервые с такой силой реалистической убедительности показаны её внутреннее богатство, красота, тонкость, высокая культура человеческих чувств» (75; 38). Всё внимание исследователь сосредоточил на реальных жизненных обстоятельствах, на «массовидности изображаемых явлений»: «...их множество, таких людей, таких страшных судеб ... всюду голод, нищета, всевластие Быковых...» (75; 42).
Исключительно как социальный рассматривает роман В. Шкловский. В его исследованиях ранний Достоевский представлен не просто увлечённым последователем утопических социалистов, но, более того, революционером-радикалом. «От «Бедных людей» Достоевский шёл к заговору и революции» (166; 258), - такое категорическое суждение, удобное для идеологизированного литературоведения советской эпохи, стало популярным среди некоторых литературоведов. В социально-обличительное направление укладывается осмысление названными исследователями заглавия романа: «Бедные люди» - это не только бедные чиновники, это всё человечество, которое не преодолело пока своей бедности» (166; 258). Само понятие бедности получает узкое толкование и определяет прежде всего уровень материального достатка.
В таком же социально-обличительном аспекте предпринята попытка анализа «Бедных людей» В.И.Этовым. Подобно большинству литературоведов, он традиционно делит творчество Достоевского на два идеологически полярных периода: докаторжный, когда молодой писатель был страстно увлечён гуманистическими, революционными идеями, и послекаторжный, отмеченный реакционной направленностью творчества, «сломленностью» духа. «Бедные люди», по его замечанию, «действительно роман о бедных людях, замученных нуждой-горем». В основе романа -«широкая социальная коллизия - бедственное положение городского разночинства...» (171; 38). Психологизм «Бедных людей» также обозначен исследователем, но, несмотря ни на что, «Бедные люди», с точки зрения В.Этова, - «преимущественно социальный» роман.
Обличительный пафос «Бедных людей» отмечают также и такие видные исследователи творчества Достоевского, как В.Я.Кирпотин, В.С.Нечаева, Ю.Селезнёв. Так, В.Кирпотин, цитируя слова Белинского: «Социальность, социальность - или смерть. Вот девиз мой ... », писал: «Разве не могут быть поставлены эпиграфом к «Бедным людям» размышления Белинского над противоречивыми картинами петербургской жизни» (96; 53). По мысли литературоведа, Достоевский, находясь под обаянием идей социализма, в дебютном своём произведении призывал читателя к переустройству мира «на братских началах». К интерпретации романа в социально-обличительном аспекте склоняется Г.М.Фридлендер. Он убеждён, что целью писателя было «нарисовать ... целостную, обобщающую картину жизни Петербурга, рассматриваемой в её социальных противоречиях и антагонизмах» (158; 53). А на первый план молодой Достоевский выдвинул «социальный контраст между богатыми и бедными, сытыми и обездоленными» (158; 53). Обращаясь к характеристике главного героя, литературовед вслед за В.Г.Белинским подмечает в нём исключительно прекрасные черты: «Достоевский стремится в «маленьком человеке» найти большого человека - человека, который способен благородно действовать, благородно мыслить и чувствовать, несмотря на свою нищету и социальную приниженность» (158; 54). «Бедность, отсутствие образования ... принижают бедных людей ... , но вместе с тем тяжёлая жизнь обитателей «чердаков» и «подвалов» способствует возникновению у них взаимного понимания, ... рождает у трудящегося человека чувство гордости и презрения к праздным обитателям «раззолоченных палат», сознание своего превосходства над ними. Это более сложное понимание взаимодействия между характерами и общественными обстоятельствами позволило Достоевскому дать более многостороннее, чем у Гоголя, изображение психологии «маленького человека» (158; 58). Таким образом, в качестве смысловой доминанты романа исследователь выделяет социальность, оставляя без особого внимания и психологический аспект произведения, и возхможную идеологическую подоплёку.
В этом же русле исследуют первый период творчества Ф.М.Достоевского М.С.Гус, утверждающий, что «Достоевский в «Бедных людях» очень отчётливо поставил вопрос о причинах, о сути вопиющей ... социальной несправедливости» (61; 132); Г.Н.Поспелов, отметивший осознание героем «Бедных людей» «глубоких контрастов социальной жизни» (128; 64); В.И.Кулешов, оценивший замечание Белинского о «Бедных людях» (о том, что это первая попытка у нас социального романа) как «высшую похвалу» (104; 34).
Тему враждебности сложившегося порядка человеку подчёркивают в раннем творчестве Достоевского Ю.Г.Кудрявцев (102; 40) Б.Л.Сучков (149;
10) Я.Е.Эльсберг (169; 40). Изображение конфликта между человеком и обществом представляется им формой обличения писателем несправедливости общественного устройства.
Создателем русской социально-утопической культуры считает молодого писателя Г.К.Щенников. Способ изображения в «Бедных людях» убеждает «самой жизнью в непреложности социалистического идеала»,-. утверждает исследователь. А принципы изображения человека в «Бедных людях» соответствуют «социальной педагогике петрашевцев», которые основывали успех социалистического учения на воспитании в людях любви и сострадания к ближнему» (167; 33).
В некоторых исследованиях последнего десятилетия XX века взгляд на природу романа «Бедные люди» также по-прежнему остаётся неизменным. Идеи Белинского, воплощённые в художественной форме, отметила в «Бедных людях» Е.И.Кийко. Подобно большинству литературоведов, она отмечает стремление писателя «раскрыть в своих униженных и оскорблённых героях их нравственную красоту» (92; 237) А главным художественным открытием, обогатившим натуральную школу, исследователь традиционно считает глубину психологических переживаний «демократического героя».
В монографии Гарина И.И. («Многоликий Достоевский». - М, 1997г.), написанной в довольно свободной манере, «Бедные люди» категорично оцениваются как «самое недостоевское творение Достоевского». Автор книги решительно и самонадеянно отказал великому писателю в оригинальности, усмотрев в «Бедных людях» «традиционное произведение русской литературы с её моральными проповедями, идеями социальной справедливости и призывами к гуманизму» (57; 83). В целом же умонастроение раннего Достоевского представляется исследователю как революционное.
Конфликт Макара Девушкина с невидимой силой - общественным устройством, с жизнью, «где невозможна реализация очень гуманных желаний» (122; 143), подчеркнул в диссертационном исследовании Нуриев С.Ш. В то же время именно ранние произведения Достоевского он считает «ключом к пониманию богатейшего художественного наследия писателя» (122; 5).
Традиционный взгляд на жанровую природу романа «Бедные люди» обнаруживает зарубежный исследователь Сомервил-Айртон Ш.К. «...Уничтожающее воздействие бедности на человека, потерю им своего «я» под ударами власти социальной иерархии» проиллюстрировал Достоевский, по мнению литературоведа, в «Бедных людях» (147; 104)..А главная идея писателя состоит в том, что «очень важно ... сохранить индивидуальность, известную независимость человеческой личности от общества» (там же). При определённой тенденциозности такого мнения, в целом интерпретация «Бедных людей» осуществляется под принципиально иным углом зрения. Автор исследования пытается распределить героев романа в две категории: тиран-жертва. Выводы, к которым приходит литературовед, следующие: если Варенька «после перенесённых страданий становится хуже и морально и духовно», «любит прежде всего саму себя», то Макар, напротив, «пройдя через страдания и унижения, ... превращается в мыслящую личность»; он - «пример альтруистической, благородной жертвы». Примечательно, что на проблему отношений «тиран-жертва» исследователь смотрит сквозь призму социальных противоречий, т.е. оценка «Бедных людей» в обличительном аспекте сохраняется.
Итак, большая группа литературоведов XX века, как отечественных, так и зарубежных обращает внимание на социально-обличительное звучание романа «Бедные люди».
Качественные изменения в интерпретации «Бедных людей» наметились в конце XX столетия; но тем не менее для многих исследований понятие социальности осталось доминантным критерием в оценке раннего творчества писателя (например, статья Сомервил-Айртон, диссертационное исследование Нуриева.).
Принципиально иной подход к осмыслению «Бедных людей» обнаружил М.М.Бахтин, который в своём исследовании творчества Достоевского шёл вслед за В.Н.Майковым. Главное, на .что он обратил внихмание - это психологизм романа. «Уже в первый «гоголевский период» своего творчества Достоевский изображает не «бедного человека», но самосознание бедного чиновника ... . То, что было дано в кругозоре Гоголя как совокупность объективных черт, слагающихся в твёрдый социально-характерологический облик героя, вводится Достоевским в кругозор самого героя и здесь становится предметом его мучительного самосознания; ... мы видим не кто он есть, а как он осознаёт себя...» (37; 56) . Далее, развивая эту мысль, исследователь поясняет: «...То, что выполнял автор, выполняет теперь герой, освещая себя сам со всех возможных точек зрения; автор же освещает уже не действительность героя, а его самосознание...» (37; 57). Утверждая одно из самых принципиальных в осмыслении романа положений, М.М.Бахтин пишет: «Не только действительность самого героя, но и окружающий его мир и быт вовлекаются в процесс самосознания, переводятся из авторского кругозора в кругозор героя. Они уже не лежат в одной плоскости с героем, рядом с ним и вне его в едином авторском мире, а потому они и не могут быть определяющими героя .. . факторами, не могут нести в произведении объясняющей функции» (37; 57).
Высказав свою точку зрения на роль общественных отношений и быта в романе, М. Бахтин опровергает расхожий социально-обличительный подход к интерпретации «Бедных людей», идущий ещё от Белинского: «нельзя истолковывать самосознание героя в социально-характерологическом плане и видеть в нём лишь новую черту героя, усматривать, например, в Девушкине ... гоголевского героя плюс самосознание. Так именно и воспринял Девушкина Белинский ... Самосознание для него лишь обогащает образ «бедного человека» в гуманном направлении, укладываясь рядом с другими чертами в твёрдом образе героя...»(37; 58).
Вслед за М.М. Бахтиным акцент на социально-психологическом звучании романа «Бедные люди» сделал А.Белецкий (цит. по: 104; 133). Исследователь ссылается на суждения В.Майкова, утверждая, что «не события, а их переживания, не типы, а индивидуальные психологические портреты, не полно выписанные картины, а «характеристические детали», композиция действия с определённым драматическим нарастанием, действия, перенесённого из внешнего во внутренний мир, в мир чувств, эмоций и ощущений двух главных героев романа. Форма переписки заставила автора скрыться: никаких лирических отступлений, изменений, рассуждений по поводу, вроде того, как мы находим у Гоголя; весь лиризм и пафос ушёл, как подпочвенные воды, вглубь, - но оттуда просачивается мощною влагою, преображая живописуемое так, что механически или объективности изображения не остаётся места» (там же).
Достоевский, по мнению А.Белецкого, внёс много нового в поэтику изображения маленького человека, выдвинув на первый план психологические портреты и переживания героев.
В аспекте социально-психологического направления исследует первый роман Ф.М.Достоевского Н.М.Чирков. Литературовед отчасти соглашается с общепринятой оценкой романа, отмечая, что в «Бедных людях» Достоевский - «ученик и преемник Гоголя, продолжатель его шинели», но в качестве идейно-художественной доминанты романа он выделяет «не изображение жизни и быта определённой социальной среды, мира «бедных людей», а проникновение в их сознание» (164; 67).
Пристальное внимание писателя к человеческой личности, а не к социальным обстоятельствам отметила Т.М.Родина. По мнению исследовательницы, личность уже в раннем периоде творчества Достоевского «перестала рассматриваться только как жертва социальных обстоятельств, общественной среды» (134; 59). Рассматривая вопрос о взаимоотношениях человека и среды в творчестве писателя, Т.М.Родина приходит к заключению, что «Достоевский в сильной степени опирался на романтическую традицию, для которой человек всегда был величиной суверенной», «со своими ещё не обнаруженными потенциями». В русле этой романтической, полной западноевропейского гуманизма традиции, согласно которой «человек есть мера всех вещей», и решается вопрос о влиянии среды на личность Т.М.Родинои. В связи с этим, внутренняя тенденция романа «Бедные люди», утверждает исследовательница, - «это инстинктивное, природное противоборство человека уничтожающему его как личность давлению социального быта, среды...» (134; 59).
Неоднозначно оценивает раннее творчество Достоевского Б. Бурсов. Подобно большинству литературоведов, он также утверждает, что молодой писатель вступил на литературное поприще как певец униженных и оскорблённых, осознающий своё творчество в русле социально-гуманистического направления. Однако, в отличие от многих, исследователя не покидают сомнения в том, насколько безоговорочно и искренно принял Достоевский гуманистические принципы. «Не головные ли они? Находится ли в согласии с ними са ма человеческая природа? Он не уставал выводить на поверхность, для всеобщего обозрения, дурные наклонности, свойственные человеку и так усердно маскируемые человеком» (47; 136). Эти размышления литературоведа, относящиеся к раннему периоду творчества Достоевского, позволяют иначе взглянуть на роман «Бедные люди», взять под подозрение сложившуюся оценку и самого произведения, и его героев; увидеть в маленьком человеке Достоевского кроме «прекрасного, благородного и святого» множество негативных, теневых сторон. Однако сам исследователь остановился лишь на общих рассуждениях о мировоззрении писателя, обойдя вниманием и сам роман «Бедные люди» и предпосылки к его возникновению.
Таким образом, можно отметить следующую тенденцию в осмыслении «Бедных людей» в советский период: роман большинством ведущих исследователей оценивался вслед за Белинским как социальный. И только немногие литературоведы отметили в качестве первой и главной особенности произведения - психологизм, проникновение в сознание героев, и в связи с этим объявили о невозможности интерпретировать «Бедных людей» в социально-обличительном аспекте.
В целом же роман воспринимается как социально-психологический, лишённый при этом идеологического содержания. Эта точка зрения подкреплялась ещё убежденностью, что первое глубокое идеологическое увлечение Достоевского утопическим социализмом наступило после «Бедных людей», сначала под влиянием Белинского, а затем в кружке Петрашевского.
Наконец, в последнее десятилетие XX века появились некоторые исследования, в которых «Бедные люди» стали рассматриваться вне уже существующих двух направлений. Интересна в этом отношении оценка «Бедных людей» В.Н.Белопольским, который предлагает качественно новое истолкование и самого романа, и его главных героев, и нравственно-философской позиции писателя в 1840-х годах. Достоевский, утверждает исследователь, в отличие от других писателей «натуральной школы», не подходил к человеку с естественно-научной точки зрения, считая, что человек обусловлен социальной «средой». «У Достоевского принципиально иной, христианский подход к человеку. Его герой свободен, внутренне автономен, способен преодолеть внешние обстоятельства» (39; 87-88). Кроме того, по мнению литературоведа, Достоевский уже в ранний период творчества отошёл от писателей, увлёкшихся формулой Ж.Ж. Руссо «Человек от природы добр»: «... Автор «Бедных людей» и по этому вопросу придерживался христианской точки зрения: природа человека двойственна, в его душе борются добро и зло» (39; 88).
Подобная оценка «Бедных людей», пожалуй, впервые прозвучавшая в литературоведении, открывает возможность прочтения ранних произведений писателя под принципиально иным углом зрения. Новизна исследования состоит в том, что впервые человек Достоевского (раннего периода творчества) рассматривается в аспекте христианской нравственности, а не европейского гуманизма. Также и фшюсофско-мировоззренческая позиция писателя в самом начале творческого пути осмысливается безотносительно к установившемуся мнению: вне канонов социализма. Отсюда появляется возможность анализировать творчество Достоевского как непрерывный процесс, и общей категорией, объединяющей раннее и позднее художественное мастерство и мировоззрение писателя, становится не психологизм, не гуманистический пафос творчества, а христианский подход к человеку и среде.
О «христианской и высоконравственной мысли» в позднем творчестве Ф.М.Достоевского говорит также В.Захаров, утверждая, что «основательные подступы к этой идее были уже в «Бедных людях» (78; 144).
Пристальное внимание к роману «Бедные люди», обеспеченное своеобразным подходом к его интерпретации, обнаруживает О.В.Седельникова. Истоки позднего Достоевского она находит в его раннем, творчестве, утверждая, что «каторга и ссылка не переломили Достоевского, а лишь углубили убеждения, жившие в нём с детства. ... » (141; 62). Не умаляя значения утопического социализхма для молодого писателя, исследовательница всё же ограничивает роль социального учения в жизни автора «Бедные люди» и предлагает пересмотреть «характер интереса молодого Достоевского к утопическим доктринам ... , поскольку их широкая популярность среди молодого поколения была знаком вреімени, и этот факт сам по себе ещё не свидетельствует о радикализме взглядов писателя» (141; 63).
«Увлечение идеями утопического социализма ... не было руководством к действию ... , - утверждает О.В.Седельникова, - его попросту не содержалось в этих теориях, столь близких христианской идее братства» (141; 64). Интерес писателя к учению Фурье исследовательница объясняет его мечтой о гармоничном будущем, о христианском братстве и в качестве доказательства непричастности Достоевского радикальным программам изменения существующего порядка приводит материалы следственного дела. Но самым важным аргументом, подтверждающим чуждость молодого писателя идеям решительного социального преобразования, является, по мысли О.В.Седельниковой, творчество писателя 1840-х годов и, в частности, роман «Бедные люди».
Исследовательница предлагает новую, нигде в литературоведении ещё не звучавшую оценку проблематики «Бедных людей» и мировоззрения раннего Достоевского. Согласно её мнению, писатель в 1840гг., под влиянием своеобразно понятых им идей утопического социализма, в первом романе утверждает свой идеал общественного устройства, предлагает свою модель земного рая, «выступая здесь подобно авторам социальных утопий». Но в отличие от утопистов, он «не рисует фантастических и немыслимых моделей общественного устройства» (142; 126).
Идейный замысел писателя в этом романе состоит в том, чтобы, обнажив зло и несовершенство современного миропорядка, продемонстрировать принципиально иной вариант общественного идеала. «Тяжести и хаосу петербургской жизни он противопоставляет размеренную и естественную жизнь русской общины, по законам природы, в гармонии со всем окружающим миром» (142; 116). Уже к середине 40-х г.г. в сознании Достоевского «формируются основы зрелой концепции почвенничества, -утверждает О.В.Седельникова. - В своей идиллии он осмысливает самобытные традиции русского национального бытия, а в смысловой структуре романа закрепляет идею необходимости возвращения к основам естественной, веками складывавшейся жизни» (142; 127). Эти выводы исследовательница аргументирует столкновением «в рамках одного предложения картин сельской и городской жизни» (на примере «Дневника» Вареньки). Идеал Вареньки, непосредственно основанный на «исконных особенностях русской национальной жизни», О.В.Седельникова считает мечтой и самого автора. А «Дневнику» В.Добросёловой, где «писатель обращается к осмыслению самобытных традиций русского национального бытия», отводится в концепции исследования место идейно-художественного центра романа (141; 68). Кроме того, автор статьи акцентирует внимание на прозвучавшей в романе те ме «Золотого века» и приходит к убеждению, что для писателя эта эпоха не принадлежность прошлого, но, прежде всего, -залог прекрасного и счастливого будущего. Эта модель земного рая должна утвердиться в общине, основанной на идее братства.
В русле свой концепции исследовательница обозначает и конфликт романа, который, по её мнению, «определяется оппозицией города и деревни, мира цивилизации и патриархального бытия» (142; 146).
Вышеприведённые суждения о романе и мировоззрении писателя, далеко не бесспорные, заслуживают тем не менее внимания и уважения. Однако некоторые положения исследования вызывают сомнения. В этом отношении примечательна оценка финала романа, который представляется литературоведу «отнюдь не безнадёжным». Как не парадоксально, но именно Варенька, выходящая за муж за ненавистного ей Быкова, по мнению, О.В.Седельниковой, «достигает лучшей доли», ведь «перед героиней -будущее, а не смерть» (142; 134).
Эта «лучшая доля» Вареньки заключается в том, что только ей одной удаётся освободиться от подавляющей власти цивилизации и уехать в деревню, в то время, как М.Девушкин, например, не сумев расстаться с капиталистической действительностью, «остаётся в мире зла, разобщённости и непогоды» (там же).
На наш взгляд, подобная свободная трактовка авторского замысла может привести к одностороннему толкованию произведения. Не совсем убедительно звучит и утверждение о том, что в «Бедных людях» Достоевский выступил как автор собственной утопии. Любая социальная, политическая система предполагает какую-то свою модель счастливого будущего; именно будущего, а не прошлого, как это представляется исследовательнице (ведь воспоминания Вареньки о безоблачном детстве -это только лишь картина ушедшей жизни).
В романе вообще сложно проследить перспективу грядущей гармонии: безнадёжна ситуация героев в настоящем, ни тени намёка на возможное счастье нет в будущем: финал не оставляет надежды. Поэтому выводы относительно авторской утопии в романе, мягко говоря, туманны. Но несмотря на определённую тенденциозность, в диссертации присутствует много интересных наблюдений и замечаний.
Исследования постсоветского периода во многом остраняют концепцию социально-психологического изучения романа, лишают оценку «Бедных людей» стереотипности и однозначности. Впервые появляется возможность по-новому взглянуть на героев раннего творчества Достоевского и отметить многоплановость их характеристик.
Человек Достоевского рассматривается в свете христианской нравственности, а не европейского гуманизма (такова, например, точка зрения Белопольского).
С другой стороны, новое истолкование получает характер увлечения молодого писателем идеями утопического социализма, уточняется его мировоззренческая позиция в самом начале творческого пути (например, в исследовании О.В.Седельниковой).
Кроме того, в современном литературоведении утверждается мысль о том, что молодой Достоевский увлекся доктринами социалистов значительно раньше, чем приступил к созданию «Бедных людей». Поэтому у нас есть все основания утверждать, что начинающий писатель уже в первом своём романе выразил собственную идеологическую позицию.
Именно это предположение, подкрепленное множеством убедительных доказательств, впервые было высказано В.Е.Ветловской, которая показала идеологический подтекст романа и вскрыла начавшуюся в мировоззрении писателя полемику с основными положениями утопических социалистов. В.Е.Ветловская, пожалуй, одна из первых в отечественном литературоведении вполне обоснованно утверждает, что молодой писатель увлёкся «спасительным» учением утопистов ещё до создания первого романа, а в «Бедных людях» уже отразились его собственные социально-философские убеждения. Свидетельства знакомства Достоевского с учением французских утопических социалистов уже к моменту создания «Бедных людей» В.Е. Ветловская находит в самом романе. Уже само название -«Бедные люди», утверждает В. Ветловская, говорило тогдашнему читателю, что речь пойдет о вопросах и проблемах, «окрашенных в красноватые тона западного социализма» (48; 50). Это название выделяло главный признак и главную беду общественной структуры - неравенство состояний, при котором одни люди бедны (они и являются объектом изображения), а другие обеспечены». В подтексте романа как факт несомненного влияния доктрины утопистов исследовательницей отмечен мотив «золотого века», получивший широкое толкование в учениях Фурье и Сен-Симона. Главные герои «Бедных людей», замечает В. Ветловская, связаны особым и высоким родством. Достоевский не раз подчеркивает это обращением Макара Алексеевича и Вареньки друг к другу: «голубчик мой», «родной мой», «родная моя». То и дело возникающие в повествовании «голубчик» и «ангельчик» говорят о небесной природе всех. Распространенное обращение с его стертым смыслом отсылает к плану более глубоких значений: ведь образ, который в настоящем так искажен бедностью, поруган и обесчещен, - образ Божий.
Роман открывается темой счастья: «Бесценная моя, Варвара Алексеевна! Вчера я был счастлив, чрезмерно счастлив, донельзя счастлив!» (16; 1, 13) И хотя это счастье прикреплено к вчерашнему дню, оно очень скоро отодвигается для героя и героини в некое отдаленное прошлое. Определенный вчерашний день становится просто вчерашним днем - во времени более и менее неопределенным.
Примечательно, что счастье вчерашнего дня прикреплено к прошедшему утру: «Что это какое утро сегодня хорошее ... солнышко светит, птички чирикают, воздух дышит весенними ароматами, и вся природа оживляется - ну, и остальное там все было соответственное; все в порядке, по-весеннему. Я даже и помечтал сегодня довольно приятно, и все об вас были мечтания мои, Варенька. Сравнивал я вас с птичкой небесной, на утеху людям и для украшения природы созданной ... ну и остальное все такое же, сему же подобное; то есть я все такие сравнения отдаленные делал. У меня там книжечка есть одна, Варенька, так в ней то же самое, все такое же весьма подробно описано» (16; 1;14). Сравнения Макара Алексеевича, действительно, довольно «отдаленные»: ведь утро обычного дня соотнесено здесь с утром года (весна) и дальше (по цепочке простых ассоциаций) - с утром творения, утром жизни. Они напоминают о счастливом начале человеческой жизни, о её блаженно-райском истоке. Эти же сравнения подхватывает Варенька, отвечая на письмо Макара Алексеевича: «и право, я сейчас же ... угадала, что у вас что-нибудь да не так - и рай, и весна, и благоухания летают, и птички чирикают». Но для Вареньки прошедшее утро (как, впрочем, и вчерашний день) тоже было райским утром: «у нас теперь словно рай в комнате, - чисто, светло! ... Сегодня я тоже весело встала. Мне было так хорошо ... Целое утро мне было так легко на душе, я так была весела!» (16; 1; 18)
Характерен, по наблюдению В.Ветловской, на первых страницах отсчет времени, дней, которые здесь длятся не с утра до вечера, как обычно, а с вечера до утра, причем утро и вечер поначалу совмещаются: «Вчера я был счастлив, чрезмерно счастлив, донельзя счастлив ... вечером, часов в восемь, просыпаюсь...». Дальше: «...Чуть поработаешь вечером ... наутро и глаза раскраснеются...»; наконец: «Вчера я был счастлив ... что это за утро сегодня хорошее?». За этой настойчивой последовательностью вечера и утра подразумевается мотив, сопровождающий Библейский рассказ о сотворении мира: «И был вечер, и было утро: день один».
Согласно библейскому преданию, близко знакомому тогдашнему читателю, «там», в начале всех начал, человек был счастлив и беззаботен, он был создан на радость другим и для украшения всей природы потому, что царственно венчал её: «И сказал Бог: «сотворим человека по образу нашему, и по подобию нашему»; и да владычествуют они ... над всею землёю ... мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю и обладайте ею...»; «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал»; «И был вечер и было утро: день шестый».
К седьмому дню творение мира закончилось: «И увидел Бог всё, что Он создал, и вот хорошо весьма». Человек в начале бытия появляется как венец создания, как царь земли и повелитель, избраннейшее чадо своего отца.
«Именно к высокому и благому началу творения отсылает Достоевский читателя в «Бедных людях», - утверждает В.Е.Ветловская. - С этой мыслью связано имя героя - Макар, что значит счастливый, блаженный. Она повторена и фамилией Вареньки - Добросёлова, и Варенькин род принадлежит тем же добрым селеньям, и она была бы счастлива, если бы не «принуждаема была оставить родные места»: «Детство моё было самым счастливым временехМ моей жизни ... . И мне кажется, я бы так была счастлива, если б пришлось хоть всю жизнь мою не выезжать из деревни и жить на одном месте. А между тем я ещё дитёю принуждена была оставить родные места» (48; 27).
Приметы этих «родных мест» - свет, яркость, звонкие крики птиц, тепло родного очага и веселье - уточняют эти добрые селенья как счастливые, райские селения» (48; 66).
«Золотое детство» Вареньки - это «золотое детство», «золотой век» всего человечества, счастливое утро его дней, когда первозданная природа не знала никаких разделений.
«Золотое детство» человечества - это не тронутая злом цивилизации природа, это Божий мир, прекрасный и чистый, это общая всем людям родина («родные места»), которую они, как Варенька, не могут забыть и которую они тем чаще вспоминают, чем труднее их жизнь.
Тема счастья в такой трактовке означала мысль об изначальном родстве людей; их равенстве и братстве; их былой красоте и совершенстве, запёчатлённых в каждом образе Божьем; их богатстве, дарованном всем без исключения, (все богаты там, где никто не беден). Иначе говоря, «там» и впрямь было всё «в порядке, по-весеннему». Но сейчас, в настоящем, этот «добрый порядок» может мелькнуть для человека лишь в воспоминании или в мечте - туманной грёзе, возникающей от «глупой горячности сердца», откликнувшегося на призыв ежегодно обновляющейся земли, того «праха», из которого человек когда-то был создан сам» (48; 69).
Но тема счастья в «Бедных людях» не привязана исключительно к прошлому, она звучит в романе и как тема будущего: «... и все об вас были мечтания мои, Варенька. Сравнивал я вас с птичкой небесной, на утеху людям и для украшения природы созданную. Тут же подумал я, Варенька, что и мы, люди, живущие в заботе и треволнении, должны тоже завидовать беззаботному невинному счастью небесных птиц - ну, и остальное всё такое же, ему же подобное; то есть я всё такие сравнения отдалённые делал» (16; 1, 14).
# По утверждению В.Ветловской, «отдалённые сравнения» Макара Алексеевича отсылают читателя и к прошлому, и к будущему. Он имеет в виду не «книжку», а «книжки», точнее «книги», поскольку речь идёт о разных книгах Библии. «Слова о житейской заботе вместе с «беззаботным и невинным счастьем небесных птиц» опираются на нагорную проповедь Христа: «... говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что ва м есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи. А тело -одежды? Взгляните на птиц небесных: они не сеют, не жнут, не собирают в житницы; И Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их»? С этими словами, хорошо знакомыми тогдашнему читателю, Христос обратился к народу в первой проповеди в первом Евангелии. Она начиналась известными заповедями блаженства: «Блаженны нищие духом..., Блаженны плачущие..., Блаженны кроткие...» (48; 71).
Блаженство, о котором идёт речь, не блаженство некогда и навсегда r / утраченного рая. Ведь, согласно Евангелию, Христос пришёл в мир, уже потерявший исконную красоту и богатство; в мир, где господствует неравенство, где торжествует зло и неправда, и потому блаженство, возвещённое Им в первых же словах Своей первой проповеди, - блаженство и счастье будущего.
Христианские заповеди блаженства говорили о грядущем счастье обетования и, переведённые в реальный, земной план, они привлекали утопистов, поскольку сулили возможность решительных социальных перемен. Таким образом, тема счастья в первом романе Достоевского «связана не только с блаженным истоком трудных исторических путей и судеб человечества, но и с их счастливым завершением, в результате которого (по мысли утопических социалистов) будет новая земля и новые люди». (48; 72).
Разумеется, что весь этот план не лежащих на поверхности значений остаётся за пределами сознания героев переписки. Он целиком «принадлежит автору - одному из тех «мечтателей» (как иногда насмешливо именовали утопистов), которым были небезразличны вполне реальные страдания живой души» (48; 72).
В. Ветловская установила, что уже в «Бедных людях» оригинально отозвались мотивы учения утопических социалистов и в связи с открывшимися перспективами в осмыслении первого романа Достоевского предложила принципиально новое прочтение этого произведения. По мнению исследовательницы, Достоевский поставил под сомнение отдельные положения теории утопических социалистов, в частности, он усомнился в возможности помочь обездоленному человечеству материальными благами. Вовсе не в уровне материального достатка, не в бедности большей части общества заключается зло социальной организации. Причина всех общественных противоречий кроется в неравенстве состояний самом по себе. Именно поэтому, утверждает исследовательница, «идея утопистов и тех, кто мечтал об общем счастье на основе благодеяния и ответной благодарности, представлялась Достоевскому чистой фантазией» (48; 204).
Именно В.Е. Ветловская впервые в литературоведении так остро заявила о проблеме отношения молодого Достоевского к идеям французских утопических социалистов. Но тем не менее открытым и сегодня остается вопрос о характере увлечения писателем доктринами теоретических социалистов в самом начале его творческого пути. В частности, имеет смысл уточнить предмет сомнений Достоевского. Очевидно, что писатель вместе с социалистами осуждает существующий порядок вещей, но в понимании общественных противоречий он идет значительно дальше. Утописты, по мысли Достоевского, неверно определили диагноз социальной болезни и потому предложили фальшивые средства лечения. Теоретики социализма усмотрели истоки социальных противоречий в бедности и не заметили, что материальное неблагополучие - только внешняя сторона проблемы, за которой и скрываются настоящие причины общественного зла. Достоевский уже в этот ранний период своей творческой деятельности приходит к убеждению, что «никакое уничтожение бедности, никакая организация труда не спасут человечество от ненормальности ... что- зло таится в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты, ... что душа человеческая останется та же, что ненормальность и грех исходят из неё самой» (25, 201-202). В «Бедных людях» писатель проводит своего рода эксперимент, проверяя идею социалистов о «спасительном» благодеянии на жизнеспособность, и приходит к выводу, что все попытки благотворительностью исправить ненормальные общественные отношения обречены на неуспех. Любое переустройство общества нужно начинать не с формальных внешних перемен, а с внутреннего самосовершенствования каждого человека. Благотворительностью, свободной -от искреннего сердечного участия, можно только усилить внутренние противоречия бедного человека. Более того, даже наличие сострадания вовсе не обещает положительного результата от покровительства, потому что если за сочувствием скрывается тщеславие, если благотворительностью руководит только лишь сентиментальность и желание превосходства, всякое благодеяние обернется дополнительной драмой для обездоленного человека. Одним словом, благотворительность спасительна только в одном случае:
если в её основу положена высокая христианская любовь по отношению к ближнему. Такая любовь, по слову Христа, предполагает самопожертвование и отказ от своих личных эгоистических целей. Но именно в этом случае появляется возможность благодеяния в соответствии с предупреждением Спасителя: «когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне» (Мф., 6, 3). От незаметных постороннему глазу движений души зависит результат дел милосердия. Не случайно из четырех историй, в которых герои заняты «спасительным», с точки зрения утопистов, благодеянием, ни в одной Достоевский не показал счастливого исхода. Слишком трудная задача для человека, обремененного грехами, - соответствовать евангельскому примеру любви. К такой любви необходимо стремиться всю жизнь, борясь с собой, со своими страстями и пороками, но надеяться запросто, без усилий получить способность христианского сострадания - это поистине утопия. А ведь именно этого и ждали наивные социалисты. Достоевский развенчивает иллюзию утопических социалистов, всем ходом повествования романа убеждая читателя в неверности выбранного ими метода.
В выявлении скрытой идеологической авторской позиции в романе «Бедные люди» и заключается цель нашего исследования. Герменевтический метод интуитивного понимания текста позволяет нам вскрыть особенности отношения Достоевского к доктринам теоретических социалистов в первом его романе. Для того чтобы рассматривать раннее творчество Достоевского в историко-литературном контексте, на фоне общих идейно-художественных поисков того времени, мы обращаемся к использованию культурно-исторического метода. Но прежде чем сосредоточить внимание непосредственно на материале романа, необходимо проследить эволюцию мировоззрения Достоевского до создания им «Бедных людей», обозначить возможные источники влияния на него. В реализации этой задачи применим историко-генетический метод, позволяющий обнаружить и объективно оценить те идейные предпосылки, что оказали воздействие на социально-философские убеждения писателя.
Актуальность нашего исследования обеспечивается необходимостью уточнить характер увлечения Достоевского утопическими теориями. В литературоведении в последнее время появилось мнение, что молодой писатель поставил под сомнение некоторые идеи утопистов уже на раннем этапе своего творчества. Тем не менее предпринятые некоторыми исследователями попытки определить специфику отношения Достоевского к социализму при всей их убедительности требуют дополнительных наблюдений. На наш взгляд, нуждается в пересмотре суждение о том, что Достоевский вступил в полемику лишь с отдельными положениями доктрины. Социально-философская мысль молодого писателя, с нашей точки зрения, далеко превзошла социальные теории Фурье. Достоевский усомнился не только в пользе благодеяния, предложенного утопистами в качестве рецепта больному обществу, но, прежде всего, обнаружил несостоятельность их центральной идеи о возможности формальными методами устранить общественное зло. При таком подходе к раннему мировоззрению Достоевского принципиально меняется оценка всего его художественного наследия, потому что появляется возможность рассматривать и раннее, и позднее творчество писателя в единстве идейно-художественных подходов. Традиционное деление на докаторжный и послекаторжный периоды в свете предлагаемой нами концепции исследования утрачивает свое значение. А роман «Бедные люди» открывает перспективы поздним произведениям Достоевского, потому что в нем, как в зерне, содержатся все предпосылки к развитию будущего идеологического романа. Ф.М. Достоевский и утопический социализм.
Честь открытия в русской литературе замечательного таланта Достоевского принадлежит талантливому критику и публицисту В.Г. Белинскому. Именно он отметил и закрепил за Достоевским славу писателя социального направления, обозначив приоритетное обличительное звучание его произведений. Знакомство Достоевского с Белинским, состоявшееся в середине 1845 года, вызвало обостренный интерес юного писателя к идеям утопического социализма. В мае критик прочитал рукопись «Бедных людей», восторженно отозвался о ней и выразил желание видеть автора повести.
Первая встреча произвела на молодого писателя неизгладимое впечатление. Через тридцать с лишним лет, вспоминая об это.м времени, Достоевский писал: «Я вышел от него в упоении. Я остановился на углу его дома, смотрел на небо, на светлый день, на проходивших людей и весь, всем существом своим ощущал, что в жизни моей произошел торжественный момент, перелом навеки, что началось что-то совсем новое, но такое, чего я не предполагал тогда даже в страстных мечтах моих. (А я был тогда страшный мечтатель)» (16; 25,31). С осени 1845 года Достоевский становится частым гостем у Белинского, «оживленно беседует и горячо спорит с ним на общественные темы и по религиозным вопросам» (40; 15). «...Тогда, в первые дни знакомства, привязавшись ко мне всем сердцем, он тотчас же бросился с самою простодушною торопливостью обращать меня в свою веру», -вспоминает Достоевский. «Верой» Белинского в это время, как известно, был социализм. «Я застал его страстным социалистом, - отмечает писатель, - и он прямо начал со мной с атеизма. ... Он знал, что революция непременно должна начинать с атеизма. Ему надо было низложить ту религию, из которой вышли нравственные основания отрицаемого им общества» (16; 21,10).
Антирелигиозные взгляды Белинского возмущали юного писателя до слез, и все же учение «неистового Виссариона» оказало на неокрепшую душу Достоевского заметное воздействие. До определенной степени Достоевский верил в социальные утопии. Но как верил?
В «Дневнике писателя» за 1873 г. предлагается ответ на этот вопрос. «Мы заражены были идеями тогдашнего теоретического социализма. Политического социализма тогда еще не существовало в Европе, и европейские коноводы социалистов даже отвергали его. ... Тогда понималось дело еще в самом розовом и райско-нравственном свете. Действительно, правда, что зарождавшийся социализм сравнивался тогда, даже некоторыми из коноводов его, с христианством и принимался лишь за поправку и улучшение последнего, сообразно веку и цивилизации. Все эти новые тогдашние идеи нахМ в Петербурге ужасно нравились, казались в высшей степени святыми и нравственными и, главное, общечеловеческими, будущим законом всего без исключения человечества. Мы еще задолго до парижской революции 48 года были охвачены обаятельным влиянием этих идей. Я уже в 46 году был посвящен во всю правду этого грядущего «обновленного мира» и во всю святость будущего коммунистического общества еще Белинским» (16; 21,130 -131).
«Будущее коммунистическое общество» представлялось Достоевскому, как видим, чем-то вроде христианской общины, реформированной и очищенной от обрядов и мистики. Более всего писателя интересовала нравственная сторона грядущей социальной гармонии. Белинский же, увлекший молодого писателя своей горячей проповедью социализма, предпочитал видеть в новом учении возможность создания гармоничного общества на основе «разума, науки и реализма». Вполне понятно поэтому, что уже в первые дни знакомства с прославленным критиком для Достоевского встала важнейшая задача: как примирить христианство и социализм. Гневные нападки на религию со стороны Белинского оскорбляли писателя («И этот человек ругал мне Христа!»), заставляли настороженно отнестись и к знаменитому проповеднику социального равенства, и к самой системе теоретического социализма.
Верным последователем Белинского Достоевский так и не стал, да и не мог, вероятно, быть. С самого начала они обнаружили различное понимание одних и тех же вещей. Кратковременная их «дружба» «по сути дела была принципиальным спором», - отмечает исследователь раннего Достоевского Н. Ф. Бельчиков (40; 15). Критик в это время склонялся к радикальным мерам переустройства общества. Достоевский же с самого начала творческой деятельности верил в нравственное преображение человека. Изображая мир «бедных людей», он не звал читателя к решительному изменению окружающей среды. Несмотря на увлеченность социальными доктринами, писатель оставался и в это время верующим человеком. «Сияющая личность Христа» оставалась для него неизменным идеалом; «пресветлый лик Богочеловека» не могли затмить никакие даже самые гуманные социально-философские теории. Увлечение Достоевского проповедью Белинского оборвалось очень скоро, - как только речь зашла о религии и о Христе. Обнаружившееся расхождение в принципиально важных вопросах повлияло на исход отношений и ускорило разрыв писателя с его прославленным совре менником.
Но поиск истины на этом не закончился, интерес к социализму не угас. Весной 1846 года Достоевский знакомится с Петрашевским, а еще через год начинает посещать его знаменитые «пятницы», где речь шла о переустройстве общества на новых социальных началах. Петрашевский и его последователи разделяли основные положения утопического социализма и причисляли себя к «социалистам фурьеристского толка». С 1846 по 1848 год собрания петрашевцев проходили раз в неделю, по пятницам. А с 1848 года, под влиянием революционных потрясений на Западе, появились еще кружки-разветвления основной организации Петрашевского. Так выделяется кружок С. Ф. Дурова, А. И. Пальма и А. Н. Плещеева, куда вошел и Достоевский. Отход от Петрашевского был обусловлен тем, что им не нравилось его общество и «они вознамерились перестать посещать его и открыть свой салон» (из показаний Н. А. Спешнева). Достоевский, кстати, тоже, по видимому, никогда не был в восторге от Буташевича-Петрашевского. По свидетельству того же Спешнева, Петрашевский производил на писателя «отталкивающее впечатление тем, что был безбожник и глумился над верой» (137; 376). А в письме к брату от 28 февраля 1854 г. он отозвался об идеологе фурьеризма в России как о человеке, лишенном «здравого смысла». Отход Достоевского от кружка Петрашевского (как и в свое время от Белинского) был обусловлен, таким образом, всё той же причиной - антирелигиозными настроениями и пропагандой исповедника социализма.
Весной 1849 г. Достоевский становится участником другого, более тесного кружка С. Ф. Дурова, А. И. Пальма и А. Н. Плещеева. По воспоминаниям А. П. Милюкова, «это была кучка молодежи более умеренной», чем Петрашевский (15; 1, 261) Но, как и собрания Петрашевского, эта организация носила характер социально-политический.
Вероятно, Достоевский с симпатией относился к создателям этого кружка, он, как утверждает С. Д. Яновский, «любил с особенным сочувствием отзываться о Дурове, называя его постоянно человеком очень умным и с убеждениями...» (15; 1, 249). В этом же 1849 г. писатель сближается с радикально настроенным социалистом Спешневым, занимает у него довольно, крупную сумму денег (около пятисот рублей серебром) и оказывается в вынужденном положении должника, в почти невыносимой для него зависимости от кредитора. «Теперь я с ним и его, - говорил он С. Д. Яновскому, - отдать же этой суммы я никогда не буду в состоянии, да он и не возьмет деньгами назад; такой уж он человек» (15; 1, 249). С этого времени, по образному выражению писателя, у него появился «свой Мефистофель» (15; 1,249).
Личность Н.А. Спешнева, ровесника Достоевского, была, как отмечает Л. Сараскина, «овеяна духом романтической легенды уже к моменту их первой встречи - скорее всего, действительно, Спешнев был выше, ярче и значительней всех, кого успел встретить Достоевский к своим двадцати семи годам» (140; 332). Первый биограф Спешнева В.О. Лейкина-Свирская обратила внимание, что он принадлежал к числу тех «редких людей, одаренных талантом личного внимания, к которым обычно притягиваются события чужих жизней» (цит. по: 140, 332). Сам Николай Александрович осознавал незаурядность своей натуры и свое влияние на окружающих тоже. В 1838 году юный лицеист Спешнев пишет отцу: «В каждом обществе, каково бы оно ни было, есть своя глава, свой центр, около которого становится все общество - и если я в своем классе есть такая глава, то должен ли винить себя за то, что природа дала мне может быть более умственных способностей, чем другим, дала более характера и такое свойство, что я невольно имею влияние на тех, с кем обхожусь...» (18; 95). Спешнев умел вести себя независимо и уверенно, покоряя окружающих своей неприступной гордыней. Рассказывая в письме к отцу обстановку в классе, он замечает: «...я жил в другом мире, я жил рознь от моих товарищей ... . А кругом меня шли мелочи нашей жизни, кругом меня ... все ссорились, враждовали ... эти ежедневные ссоры мешали мне в моих занятиях ... я встал, стал говорить со всеми, заставил всех любить себя и после двинул решительно, сломил все партии и помирил ... и с удивлением увидал себя главою класса ... и я не мог не сознаться, что я имею влияние на всех, даже на самых умных» (18; 95-96). Конечно, Спешнев увлек Достоевского не своими радикальными революционными воззрениями, а, прежде всего, особенностями поведения. «Эта манера вдумчивого, остронаблюдательного, но молчаливого присутствия на многолюдных «пятницах» Петрашевского, это бесстрашное, скрыто-напряженное и спокойное внимание, которым он дарил избранных собеседников, никогда не смешиваясь с ними; этот великолепный тон светской любезности и сдержанной простоты, который действовал обезоруживающе на тех, кого он приближал к себе, - все это было в нем естественно и давалось ему без всяких усилий» (140; 356). Нет, наверно, ничего удивительного в том, что Достоевский попадает под обаяние Спешнева, вдруг выказавшего по отношению к нему интерес, а вскоре принимает от него деньги на неопределенный срок отдачи. В итоге писатель становится вечным должником Николая Спешнева и переживает это положение очень тяжело. Появляется разочарование, затем перешедшее в угрюмый пессимизм. Достоевский непременно хочет отплатить за «благодеяние» филантропа-кредитора, а единственным способом это сделать остается только подчиниться непреклонной воле Спешнева. Свою вынужденную несвободу он переживает крайне мучительно. Л. Сараскина обратила внимание на послекаторжное письмо Достоевского, написанное в марте 1856 года, в котором писатель рассказывал графу Тотлебену, что перед арестом и судом был болен странной, нравственной болезнью. «Я впал в ипохондрию. Было даже время, что я терял рассудок. Я был слишком раздражителен, с впечатлительностию, развитою болезненно, со способностью искажать самые обыкновенные факты и придавать им другой вид и размеры» (16; 28i 224). С. Д. Яновский тоже отмечает, что знакомство писателя со Спешневым сделало его «каким-то скучным, более раздражительным, более обидчивым и готовым придираться к самым ничтожным мелочам» (15; 1,253).
Вероятно, секрет сближения Достоевского со Спешневым кроется в той самой роковой сумме долга, в тех пятистах рублях, что пришлось-опрометчиво занять у идеолога и, вероятно, тонкого политика Спешнева. Невозможно сказать с безусловной уверенностью, стали ли убеждения Спешнева хотя отчасти идеалом справедливости для Достоевского, или же он принимал участие в кружке социалиста-радикала по одной лишь меркантильной причине отплатить долг. Известно лишь, что писатель пытался содействовать организации нелегальной типографии. Поэт А. Н. Майков, близкий друг Достоевского в 40-е гг., вспоминал: «И помню я, Достоевский, сидя как умирающий Сократ перед друзьями в ночной рубашке с незастегнутым воротом, напрягал все свое красноречие о святости этого дела, о нашем долге спасти отечество...» (15; 1, 250). Можно вполне согласиться с П. Н. Сакулиным, который о влиянии Спешнева на молодого Достоевского писал следующее: «Мефистофель-Спешнев не столько, по видимому, революционизировал Достоевского, сколько удручал. А в состоянии душевной депрессии нелегко представить себе человека с красным знаменем в руках. Из письма Майкова не видно, чтобы Достоевский продолжал принимать активное участие в устройстве типографии ... Думается, что и на этот раз Достоевский сберёг свою индивидуальность. ... Мефистофель Спешнев нашел в лице Достоевского не слишком податливого Фауста» (137; 375).
Увлечение писателя социальными доктринами внезапно оборвал арест. Главным обвинением, предъявленным Достоевскому, было чтение им на одной из «пятниц», письма Белинского к Гоголю. Возможно, факт причастности Достоевского этому крамольному письму объясняется естественным в этом случае интересом к неподцензурной мысли знаменитого критика. Тем более, что немногим раньше Достоевский увлекался им, а затем, после личного знакомства, переосмыслил свое отношение к нему. Арестованному Достоевскому пришлось давать показания о деятельности кружков социально-политического характера, в которых он принимал участие, о собственной роли на этих собраниях, наконец, о тех взглядах и принципах, которые он исповедовал. Для нас, в освещении вопроса о характере увлечения писателя теоретическим социализмом, ответы на следствии имеют принципиально важное значение. К сожалению, нужно отметить, что многие исследователи считают показания» Достоевского неискренними, фальшивыми, надуманными, имеющими одну цель - запутать полицию, скрыв подлинные факты своего участия в кружках социалистов.
Разумеется, на допросе Достоевский не чувствовал себя совершенно свободным. Многое, быть может, он скрывал, недоговаривал, умалчивал. Но было бы ошибочно полагать, что показания его писались исключительно с одной целью - обезопасить себя от преследования. Трудно допустить, что в ответах писателя — совершенная ложь. «Это противоречило бы нашему общему представлению о Достоевском, как о необычайно правдивой, хотя и скрытной натуре» (137; 369), - замечает П.Н. Сакулин. Верится, что в этих документах отразились искренние размышления Достоевского по поводу значения утопического социализма для него лично и для России в целом.
К сожалению, Достоевский 40-х годов не изложил своего мнения о социализме ни в письмах, ни в каких-либо других свидетельствах неофициального назначения. Но зато мы располагаем воспоминаниями современников писателя, близко знавших его и находившихся с ним в дружеских отношениях. Отметим сразу, что воспоминания, речь в которых идет о взглядах Достоевского на учение утопических социалистов, по характеру своему отчетливо перекликаются с ответами самого писателя на следствии. Поэтому, рассматривая вопрос о мировоззрении Достоевского в 40-х гг., необходимо учесть также и мемуарное наследие его современников. В этом отношении особый интерес представляют свидетельства С.Д. Яновского и А.П. Милюкова. Часто их считают не вполне достоверными (так полагают А.С. Долинин (64; 529), Р.Н. Поддубная (125; 250)), и предпочитают ссылаться на воспоминания и критические отзывы других современников писателя. Но Яновский подчеркивал, например, что статьи О.Ф. Миллера, Н. Н. Страхова, В.Н. Буренина страдают неточностью (к случаю вспомним, что отношение Н. Н. Страхова к Достоевскому вообще было очень сложным: он то возвеличивал самого писателя и его талант, то признавался в смутном недоверии к нему).
В письме к Анне Григорьевне, жене писателя, Яновский, оценивая опубликованные материалы о жизни писателя, которые вошли в первый том посмертного собрания сочинений, писал: «Многие из хороших русских людей думают, и думают серьезно, что Федор Михайлович из ссылки возвратился другим: каким-то очищенным и таким гуманным, каким явился он в последних своих произведениях ... Федор Михайлович и в то время, когда он писал «Бедные люди», и в то время, когда он сблизился со мной до отношений дружеских, посещал меня решительно каждодневно, и, наконец тогда, когда он был арестован, он был точно такой же, каким он возвратился из Сибири и каким он сошел в мопшу ... он, и бывая у Петрашевского и у Дурова и даже последнее время перед арестованием у Спешнева, -революционером не был». В своих мемуарах Яновский подчеркивает то же самое: «Сам Федор Михайлович сходкам у Петрашевского не придавал никакого значения» (15; 1, 250). «... Посещая своих друзей и приятелей по влечению своего любящего сердца и бывая у Петрашевского по тем же самым побуждениям, он вносил с собою нравственное развитие человека, в основание чего клал только истины Евангелия, а отнюдь не то, что содержал в себе социал-демократический устав 1848 года. Федор Михайлович любил ближнего, как только можно любить его человеку, верующему искренно, доброты был неисчерпаемой и сердцеведец, которому подобного я в жизни моей не знал» (15; 1, 245).
Примечательно, что в свидетельствах Яновского подчеркивается только сам факт участия Достоевского в кружке социалистов, обусловленный лишь интересом и возможностью «полиберальничать». Истинным последователем утопических социалистов, по мнению Яновского, писателя было назвать нельзя. Более того, идейного вдохновителя «пятниц» — Петрашевского Достоевский « называл ... агитатором и интриганом» (15; 1, 250), вспоминает современник.
Чуждость молодого Достоевского идеям радикального социального переустройства общества отмечает и А. П. Милюков. «Все мы изучали этих социалистов, но далеко не все верили в возможность практического осуществления их планов. В числе последних был Ф.М. Достоевский. Он читал социальных писателей, но относился к ним критически. Соглашаясь, что в основе их учений была цель благородная, он, однако ж, считал их только честными фантазерами. В особенности настаивал он на том, что все эти теории для нас не ішеют значения, что мы должны искать источников для развития русского общества не в учениях западных социалистов, а в жизни и вековом историческом строе нашего народа ... Он говорил, что жизнь в икарийской коммуне или фаланстере (Фурье - С.Л.) представляются ему ужаснее и противнее всякой каторги. Конечно, наши упорные проповедники социализма не соглашались с ним» (15; 1,263).
Воспоминания С. Д. Яновского и А. П. Милюкова, часто считающиеся ошибочными и недостоверными, перекликаются с показаниями самого Достоевского на следствии. «Что касается до социального направления, -писал Достоевский в следственную комиссию,- то я никогда и не был социалистом, хотя и любил читать и изучать социальные вопросы. Во-первых, социализм есть та же политическая экономия, но в другой форме, а политико-экономические вопросы я люблю изучать. К тому же я страстно люблю исторические науки. Вот почему я с большим любопытством следил за переворотами западными. Вся эта ужасная драма сильно занимала меня, во-первых, как драма, во-вторых, как важный факт, по крайней мере могущий возбудить любопытство. В-третьих, как история, в-четвертых, во имя человеколюбия, ибо настоящее положение Запада крайне бедственно. Я говорил иногда о политических вопросах, но - редко вслух, почти никогда. Я допускал историческую необходимость настоящего переворота на Западе, но - только в ожидании лучшего.
Социализм предлагает тысячи мер к устройству общественному, и так как все эти книги писаны умно, горячо и нередко с неподдельной любовью к человечеству, то я с любопытством читал их. Но именно оттого, что я не принадлежу ни к какой социальной системе, а изучал социализм вообще, во всех системах его, именно потому я (хотя мои познания далеко не окончательные) вижу ошибки каждой социальной системы. Я уверен, что применение хотя которой-нибудь из них поведет за собой неминуемую гибель. Я уже не говорю у нас, но даже во Франции. Это мнение было не раз выражаемо мною. Наконец, вот вывод, на котором я остановился. Социализм - это наука в брожении, это хаос, это алхимия прежде химии, астрология прежде астрономии; хотя, мне кажется, из теперешнего хаоса выработается впоследствии что-нибудь стройное, благоразумное и благодетельное для общественной пользы точно так же, как из алхимии выработалась химия, а из астрологии - астрономия» (16; 18,162).
В этих словах Достоевского - как бы резюме запутанного дела. Здесь писатель касается и огромного интереса к социальным наукам, и указывает на причины, вызвавшие увлечение утопическими системами, и, главное, признает ошибочность и ненаучность доктрин теоретического социализма. В предварительном показании писатель отмечает историческую необходимость и даже полезность социализма, «ибо социализм, в свою очередь, сделал много научной пользы критической разработкой и статистичесюш отделом своим». Подчеркивает Достоевский и лучшие стороны учения утопистов: «Фурьеризм - система мирная; она очаровывает душу своею изящностью, обольщает сердце тою любовью к человечеству, которая воодушевляла Фурье, когда он создавал свою систему, и удивляет ум своею стройностью. Привлекает к себе она не желчными нападками, а воодушевляя любовью к человечеству. В системе этой нет ненавистей. Реформы политической фурьеризм не полагает; его реформа - экономическая. Она не посягает ни на правительство, ни на собственность ... Наконец, эта система кабинетная и никогда не будет популярною» (16; 18,133).
Однако в то же вре чя молодой Достоевский признает, что «...эта система вредна, во-первых, уже по одному тому, что она система. Во-вторых, как ни изящна она, она все же утопия, самая несбыточная» (16; 18,133). Но вред от фурьеризма - «более комический, чем приводящий в ужас», потому что «нет системы социальной, до такой степени непопулярной, освистанной, как система Фурье на Западе. Она уже давно померла, и предводители ее сами не замечают, что они только живые мертвецы и больше ничего» (16; 18,133).
Полную невозможность распространения фурьеризма в России утверждает писатель в предварительном показании: «Что же" касается до нас, до России, до Петербурга, то здесь стоит сделать двадцать шагов по улице, чтоб убедиться, что фурьеризм на нашей почве может только существовать или в неразрезанных листах книга, или в мягкой, незлобивой, мечтательной душе, но не иначе как в форме идиллии или подобно поэме в двадцати четырех песнях в стихах» (16; 18,133). Причины, по которым социальные системы не могут привиться в России, Достоевский излагает дальше: «... Фурьеризм, вместе с тем и всякая западная система, так неудобны для нашей почвы, так не по обстоятельствам нашим, так не в характере нации - а с другой стороны, до того порождения Запада, до того продукт тамошнего, западного положения вещей, среди которых разрешается во что бы то ни стало пролетарский вопрос, что фурьеризм с своею настойчивою необходимостью в настоящее время, у нас .. . был бы уморительно смешон. Деятельность фурьериста была бы самая ненужная, следственно самая комическая» (16; 18,134). А «комическая» деятельность, по Достоевскому, - «это не нужная никому деятельность». (Курсив автора. - Л. С.)
Свои мысли относительно увлеченности утопическим социализмом писатель выразил здесь предельно ясно, непригодность социалистических утопий казалась ему особенно очевидной по отношению к России, потому что у нее - свой исторический уклад, своя вера, свое сознание. Вспомним, что и некоторые петрашевцы ничуть не заблуждались начет социализма Достоевского (например, А. П. Милюков, видевший увлеченность писателя утопическим социализмом в том же свете, что и он сам). Как сообщал агент Антонелли, Петрашевский также упрекал братьев Достоевских « в манере писания, которая не ведет ни к какому развитию идей в публике» (16; 18,178-179).
Таким образом, признания Достоевского на следствии совпадают с воспоминаниями некоторых его современников. Показания Достоевского по делу петрашевцев, конечно, можно взять под подозрение, как, впрочем, и воспоминания современников С. Д. Яновского и А. П. Милюкова признать ошибочными. Можно также безоговорочно принять прочно сложившуюся в умах целого поколения исследователей формулу, что на каторгу Достоевский попал убежденным социалистом, даже революционером. Но в этом случае необходимо отказаться от фактов, лежащих, так сказать, на поверхности и усомниться в том, что Достоевский был человек искренний, нелицемерный и честный.
Еще одну группу документов, вскрывающих отношение Достоевского к утопическому социализму, составляют материалы «Дневника писателя». Конечно, сказанное здесь содержит поправки с учетом изменений в мировоззрении писателя. И все же общие положения между показаниями следствия, воспоминаниями современников и «Дневником писателя» имеются.
В публицистике 70-х гг. Достоевский вновь обращается к идее социального равенства и предлагает свою оценку основных постулатов учения. Прежде всего, писатель акцентирует внимание на нехристианской, а, следовательно, ложногуманистической основе социализма. Критикуя абстрактный характер европейского человеколюбия, Достоевский замечает: «Но зато мне вот что кажется несомненным: дай всем этим современным высшим учителям полную возможность разрушить старое общество и построить заново - то выйдет такой мрак, такой хаос, нечто до того грубое, слепое и бесчеловечное, что всё здание рухнет, под проклятиями человечества, прежде чем будет завершено. Раз отвергнув Христа, ум человеческий может дойти до удивительных результатов. Это аксиома. Европа, по крайней мере в высших представителях своей мысли, отвергает Христа, мы же, как известно, обязаны подражать Европе» (16; 21,132-133). В этих словах выражено убеждение, что любая, даже самая высокая социальная идея будет искажена, если получит воплощение в отрыве от христианских заповедей.
Главному постулату социалистов, согласно которому всё зло мира происходит от дурного общественного устройства, Достоевский противопоставляет Христианское учение о «среде» и утверждает, что, «сделавшись сами лучшими, мы и среду исправим и сделаем лучшею». А иначе, предупреждает писатель, «мало-помалу придем к заключению, что ... во всем «среда виновата». Дойдем до того, ... что преступление сочтем даже долгом, благородным протестом против «среды» (16; 21,15-16).
Писатель указывает на главное заблуждение социалистов, утверждающих полную зависимость человека от среды. Отстаивая право личности на самостоятельность, Достоевский пишет: «Делая человека ответственным, христианство тем самым признает и свободу его. Делая же человека зависящим от каждой ошибки в устройстве общественном, учение о среде доводит человека до совершенной безличности, до совершенного освобождения его от всякого нравственного личного долга, от всякой самостоятельности, доводит его до мерзейшего рабства, какое только можно вообразить» (16; 21,16). Победить же несправедливый социальный механизм можно только путехЧ «беспрерывного покаяния и самосовершенствования». «Энергия, труд и борьба - вот чем перерабатывается среда. Лишь трудом и борьбой достигается самобытность и чувство собственного достоинства. «Достигнем того, будем лучше, и среда будет лучше». Вот что невысказанно ощущает сильным чувством в своей сокрытой идее о несчастии преступника русский народ» (16; 21,18).
Таким образом, причину современного неблагополучия Достоевский видел не во внешних формах организации общества, а в самой душе человека. «Ясно и понятно до очевидности, писал он в 1877 г., - что зло таится в человечестве глубже, чем предполагают лекаря- социалисты, что ни в каком устройстве общества не избегнете зла, что душа человеческая останется та же, что ненормальность и грех исходят из нее самой и что, наконец, законы духа человеческого столь еще неизвестны, столь неведомы науке, столь неопределенны и столь таинственны, что нет и не может быть еще ни лекарей, ни даже судей окончательных, а есть Тот, Который говорит: «Мне отмщение и Аз воздам». Ему одному лишь известна вся тайна мира сего и окончательная судьба человека. Человек же пока не может браться , решать ничего с гордостью своей непогрешности, не пришли еще времена и сроки» (16; 25, 201 - 202). И оттого, что вся неправда находится не вне человека, а внутри его, «никакой муравейник, никакое торжество «четвертого сословия», никакое уничтожение бедности, никакая организация труда не спасут человечество от ненормальности, а, следственно, и от виновности и преступности» (16; 25,201).
Вновь и вновь как в «Дневнике писателя», так и в письмах Достоевского 1870-х годов звучит осуждающее слово, направленное против антихристианской сущности социализма: «Нынешний социализм в Европе, да и у нас, везде устраняет Христа и хлопочет прежде всего о хлебе, призывает науку и утверждает, что причиною всех бедствий человеческих одно — нищета, борьба за существование, «среда заела».
На это Христос отвечал: «не одним хлебом бывает жив человек», — то есть сказал аксиому и о духовном происхождении человека. Дьяволова идея могла подходить только к человеку-скоту, Христос же знал, что одним хлебом не оживишь человека. Если притом не будет жизни духовной, ... то затоскует человек, умрет, с ума сойдет, убьёт себя или пустится в языческие фантазии» (16; 292, 84-85).
Социальный прогресс Достоевский, как было уже отмечено, связывал с идеей духовного и нравственного обновления человека. «Были бы братья, будет и братство, — писал он в 1880г. — Если же нет братьев, то никаким «учреждением» не получите братства. Что толку поставить «учреждение» и написать на нем: «Liberte, egalite, fraternite»? Ровно никакого толку не добьётесь тут «учреждением», так что придется — необходимо, неминуемо придется — присовокупить к трем «учредительным» словечкам четвертое: «ou la mort», «fraternite ou la mort», — и пойдут братья откалывать головы братьям, чтоб получить чрез «гражданское учреждение» братство» (16; 26,167).
«Дневник писателя», где излагаются взгляды Достоевского на социальное учение, был написан спустя более чем четверть века после событий сороковых годов. Многое, конечно, изменилось в мировоззрении писателя: годы каторга и ссылки не могли пройти бесследно. И все же настойчиво звучит в этих рассуждениях и в показаниях следствия один и тот же голос - голос автора, отказывающегося принять на веру догматы социализма. Бунтует Достоевский против бездуховной гармонии, что основана на идее «спасения животишек». Точно так же, как и на следствии, утверждает писатель в «Дневнике» мысль о том, что «механическое перенесение к нам европейских форм» невозможно, ибо они чужды народу (16; 26,167). Безусловно, в публицистике 70-х гг. (в сравнении с показаниями 40-х гг.) ощущается рука зрелого человека, мастера. Нет романтической очарованности идеей, нет даже слабой попытки отыскать рациональное зерно. Всё обдуманно, взвешенно, даже категорично. Сомнениям и колебаниям места нет: они остались в далеком прошлом. Гармонии без Христа для Достоевского здесь быть не может.
Однако, вспомним, что уже в 40-х гг. писатель сосредоточенно, мучительно искал правду, основанную именно на религиозных убеждениях (не случайно, по-видимому, он расходится с Белинским и Петрашевским: их атеизм болезненно огорчал его). Идея нравственного преображения человека сближает размышления Достоевского в «Дневнике писателя» с идейными настроениями его в самом начале творческого пути.
В чем же тогда состоял «социализм» Достоевского? В том, что безучастным к происходящим в обществе идейным волнениям писатель не остался. Он проявил живой интерес к новым тогда веяниям социалистического толка. Общая атмосфера организаций и кружков не могла его не заражать. Белинский, Петрашевский, Спешнев обостряли интерес Достоевского к социализму, оттого проповедуемые ими идеи нашли отклик у молодого писателя. Прежде всего, конечно, привлекла утопическая мечта о всеобщем братстве, в основание которого положено нравственное очищение человека. Социализм, как провозвестник будущего справедливого общества, связывался Достоевским исключительно с христианской нравственностью. Но здесь-то и ожидало писателя великое разочарование: идеологи социализма обнаруживали крайнее неприятие религии. То, к чему стремился Достоевский в благородном порыве, на деле оказалось фальшью: стремился к духовной гармонии — обнаружил полный нравственный хаос. А если нет веры, нет Христа, значит, нет смысла устраивать «муравейник». Пытливый ум и живую душу писателя не могли удовлетворить заманчивые, но лишенные глубокого духовного содержания идеи социализма. Атеизм Белинского, Петрашевского и Спешнева умалял в глазах Достоевского обаяние утопических теорий. Убежденным фурьеристом Достоевский так и не стал.
Долгие годы в литературоведении считалось, что обращение Ф. М. Достоевского к идеям французских социалистов-утопистов началось в кружке В. Г. Белинского и продолжилось на знаменитых «пятницах» М. В. Петрашевского. Последовавшие затем годы каторги переломили сознание Достоевского, заставили пересмотреть его радикальные убеждения и обратиться к христианскому истолкованию социальных противоречий. При этом многие исследователи не за мечали, что даже в период несомненного увлечения социализмом писатель обнаруживал принципиальное расхождение с его идеологами. Кроме того, не обращалось внимание на то, что интерес к утопическим теориям со стороны Достоевского возник значительно раньше, чем был написан роман «Бедные люди» и состоялось личное знакомство с апологетами социализма. Идеи популярных утопических систем Достоевский усвоил задолго до встречи с Белинским.
В 1850 году, вспоминая время своей юности, А.И. Герцен писал: «После 1830 года с появлением сенсимонизма, социализм произвёл в Москве большое впечатление на умы ... . Нас, свидетелей самих чудовищных злоупотреблений, социализм смущал меньше, чем западных буржуа. Мало-помалу литературные произведения проникались социальными тенденциями и одушевлением. Романы и рассказы ... протестовали против современного общества ... Достаточно упомянуть роман Достоевского «Бедные люди». (7; 7, 252).
Учение французских утопических социалистов получило своё распространение во Франции в первой половине XIX века и оказалось тесно связанным с социально экономическим развитием страны. Великая Французская революция, на которую возлагалось столько надежд и которая ничуть их не оправдала, утвердила во Франции новый буржуазный г общественный строй. Начавшаяся ещё с конца XVIII века и успешно развивающаяся промышленная революция всё более укрепляла основы буржуазного общества, острее выявляя новые социальные противоречия, свойственные этому обществу. Развитие капиталистических отношений, обеспечивавшее обогащение имущих классов, ухудшало положение трудящихся.
Именно в этих условиях нового буржуазного общества мыслящая часть Франции начинает искать пути преодоления социального • неравенства. Появляются социальные учения, направленные против самих основ существующего капиталистического уклада и выдвигавшие идеалы более совершенного и справедливого социального устройства. Возникают теории утопических социалистов Ш.Фурье (1772-1837), Сен-Симона (1760-1825), а также их многочисленных учеников и последователей.
Идея «социальности» - главная в учении утопистов - явилась прямым выводом из опыта революционной Франции. Поскольку политический переворот не принёс ожидаемых изменений, необходимо реформировать мирным путём институт собственности, на котором строятся все общественные отношения. Причём вопрос решить нужно так, чтобы было «возможно быстрее увеличить социальное благополучие бедняка» (30; 2, 435), чтобы в первую очередь были учтены интересы голодных и неимущих. Рассматривая вопрос собственности, утописты пришли к выводу о необходимости изменения её форм: «Собственность в её -нынешнем виде должна быть упразднена, ибо, давая известному классу людей возможность жить в полной праздности чужим трудом, она поддерживает эксплуатацию одной части населения - наиболее полезной, той, которая трудится и производит в интересах другой, умеющей только разрушать» (17; 270). «Каждому по способности, каждой способности по её делам ... Человек не будет больше эксплуатировать человека; человек, вступивший в товарищество с другим человеком, будет эксплуатировать мир, отданный ему во власть», - говорилось в лекциях, популяризующих учение Сен-Симона (17; 81).
Учение утопистов - оптимистично. Авторы социальных теорий убеждены, что общество развивается по восходящей линии, прогрессивно, и человечество неизбежно ожидает светлое будущее, эра всеобщего благоденствия и счастья.
По мнению Фурье, мировая гармония - это ещё и предмет отдалённого прошлого, оригинально отозвавшегося в воспоминаниях человечества о «золотом веке»: «первые люди вышли счастливыми из рук Бога; потому что они не знали вражды и разобщения и их ничем не искажённые страсти служили благу каждого в отдельности и всех вместе» (35; 1, 148). Но это было блаженство неведения зла. Счастье, ожидавшее человечество в далёком будущем, - безгранично.
В отличие от Фурье, Сен-Симон полагал, что в прошлом нет и тени счастья, а ожидание справедливого порядка - вполне реальная мечта о будущем: «Золотой век, который слепое предание относило до сих пор к прошлому, находится впереди нас» (30; 2,273).
«Золотой век», к которому обращены были надежды и упования утопистов, находился, по их мнению, или в отдаленном будущем, или сохранился в смутных воспоминаниях человечества о давно ушедшей эпохе. Что же касается настоящего, то оно представляет собой «мир навыворот». В нём царит несправедливость, процветают пороки и обман. Современное общество дисгармонично, раздираемо противоречиями и величайшая несправедливость, по мнению утопистов, состоит в том, что одни трудятся в поте лица и получают за это гроши, а другие живут в роскоши и праздно. «Современное общество являет собой воистину картину мира, перевёрнутого вверх ногами, - пишет Сен-Симон. - ... Менее обеспеченные ежедневно лишают себя части необходимых им средств для того, чтобы увеличить излишек крупных собственников» (30; 1, 433-434). Такое удручающее положение общественного устройства, по мнению утопистов, явно не соответствует высокому призванию людей и пагубно сказывается как на положении бедных, так и богатых. Цивилизованный мир извращает благие по природе человеческие страсти, убеждены социалисты.
Главное зло соврехЧенного устройства Фурье и Сен-Симон видели в бедности. «Когда я говорю в качестве общего положения: люди периода цивилизации очень несчастливы, - писал Фурье, - это значит, что семь восьмых или восемь девятых из них доведены до положения злосчастья и лишений, что лишь одна восьмая избегает общего несчастья» (35; 1, 140). В примечании к сказанному он разъяснил: «Разве не необходимо, чтобы Бог поднял некоторых к этому благосостоянию, в котором Он отказывает огрохмному большинству? Без этой меры предосторожности люди периода цивилизации не чувствовали бы своего несчастья. Вид богатства другого единственный стимул, могущий озлобить учёных, обычно бедных, и побудить их к исканиям нового социального порядка, способного дать людям цивилизации благосостояние, которого они лишены» (35; 1, 131). Гармоничное общество, к которому стрехмится умудрённое человечество, по мнению утопистов, предполагает свободный труд и справедливое распределение благ. Kpoivte того, залогом счастливого будущего будет слияние личных и общественных интересов. Нужно создать такую систеїугу, считает Фурье, чтобы «каждый отдельный человек, следуя только своему личному интересу, служил постоянно интересам массы» (35; 3, 117), чтобы каждый человек мог «найти свою выгоду только в выгоде всей массы» (35; 3, 88). Таким образОхМ Фурье пытался Схмягчить социальные противоречия, преодолеть антагониЗхМ богатых и бедных. «Установить царство правды, справедливости и действительных добродетелей», - такова конечная цель научных поисков утопистов.
Вследствие того, что революционный способ преобразования общества социалистов-утопистов не устраивал, им оставалось только один путь - путь проповеди и примера: «... Единственное средство, каким будут пользоваться друзья человечества, это проповедь, как устная, так и письменная» (30; 2, 88). В основу проповеди полагалось религиозное вероучение, несводимое к первоначальному христианству. (Сен-Симон неоднократно отмечал, что «мораль должна соответствовать уровню цивилизации» (30; 2, 393-394)). «Новое христианство», очищенное от предрассудков, обрядов и мистики, было призвано дать нравственное обоснование новому социальному порядку; оно было необходимо для воспитания нравственного чувства, объединения людей, их помыслов во имя достижения высшей цели - преобразования» общества и совершенствования его членов. Утописты подчеркивали, что нравственные идеалы будут обладать в грядущем справедливом веке наибольшей властью и направлять все учреждения к повышению благосостояния «наибеднейшего класса» (30; 2,168).
При этом самым важным нравственным законом, восходящим к ортодоксальному христианству, утописты считали один «божественный принцип: все люди должны видеть друг в друге братьев, должны любить и помогать друг другу» (30; 2, 62). Утописты надеялись, что одушевлённые любовью богатые постепенно не захотят знать различий- положения и согласятся (в полной гармонии со своими личными интересами) облагодетельствовать бедных; бедные же ответят чувством благодарности и признательности. Всё это приведёт к сближению всех классов общества, гармонии личных и общественных потребностей.
По мнению социалистов, новое общество определит во многом нравственное состояние человека. С введением нового порядка, в душах людей должны возобладать такие христианские качества, как чувство дома, благородства, любви к ближнему.
Соотношение среды и личности проповедники «нового христианства» толковали в таком плане: несправедливо устроенное общество навязывает человеку дурные качества, подталкивает его (человека) к пороку и греху. «Порочны не люди, - утверждает Фурье, - порочен ваш социальный механизм» (35; 4, 174); «то, что есть порочно, - это строй цивилизации, не согласный ни развивать, ни использовать характеры, данные Богом» (35; 4, 175).
«Обрушиваясь на дурной «социальный механизм», утописты одновременно горячо оправдывали и каждого отдельного человека и всё человечество. Оно низведено в глубину нищеты и скорби, погрязло в суевериях и предрассудках, но оно создано для счастья и заслуживает божественно высокой судьбы» (48; 36).
Утописты явно переоценивали положительные качества человека. Понимали ли они, что человек - это не только образ и подобие Божие, что в нём могут таиться и при определённых условиях проявляться дурные качества, что в этом мире «дьявол с Богом борется, а поле битвы - сердца людей»? Ведь нарисованная фантазией Фурье и Сен-Симона картина слишком идиллична, она несколько напоминает лучезарный образ рая, описанного в третьей части «Божественной комедии» Данте.
Тем не менее, утопическим социалистам, обозначившим принципы новой социальной организации и нового вероучения, представлялось, что общество находится накануне грандиозного переворота, что радикальная и бескровная революция должна произойти очень скоро. Отсюда неустанный призыв к прекрасному будущему - земному раю.
Обещание мировой гармонии подкреплялось ещё и уверенностью социалистов-утопистов в том, что их учение ничуть не уступает Христовым заповедям. (Сомневаясь в божественном происхождении Христа, они считали его просто гениальным проповедником). А потому появление непогрешимой истины в такой катастрофический для человечества момент, по их мнению, было крайне необходимо. К тому же, к этому времени и общество, и литература были подготовлены к восприятию нового учения.
Известно, что огромную роль в 40-х годах XIX века играли журналы. При этом, на фоне консервативно-умеренных изданий Ф.В. Булгарина, Н.И. Греча («Северная пчела»), О.И. Сенковского («Библиотека для чтения»), СП. Шевырева, М.П. Погодина («Москвитянин») особенно выделялись «Отечественные записки» А.Краевского. Влияние этого журнала на умы соврЄхМенников было очень значительно: об этом свидетельствуют красноречивые высказывания многих передовых читателей 40-х годов. «Мы брали книжку чуть не с боя, перекупали один у другого право читать раньше всех», - вспоминает В.В.Стасов (31; 224).
Конечно, столь шумный успех «Отечественные записки» приобрели во многом благодаря постоянному сотрудничеству В.Г.Белинского. «Есть статья Белинского!» - с этим восклицанием студенчество набрасывалось в библиотеках, кофейнях на тяжёлый номер «Отечественных записок», рвало его из рук в руки, зачитывало до дыр, до выпадения листов и в результате -двух, трёх авторитетов, старых верований как не было». Так впоследствии оценивал мощное воздействие журнала Герцен в «Былом и думах» (7; 9,154).
Идеи социализма уже с начала 40-х годов прямо обозначились на страницах «Записок». В отделе «Иностранная литература», где в разное время работали И.И. Панаев, В.П. Боткин, Г.Ф.Головачёв и другие, надежды на грядущее обновление общества звучали почти неприкрыто. «С 1843года до 1848года была самая либеральная эпоха николаевского царствования», -замечает А.И.Герцен (7; 5, 13). Только этим, да ещё умением запутать цензуру в сложных идеологических вопросах, наверно, можно объяснить появление статей с настойчивым требованивхМ в них улучшения общественного устройства. Рассуждая как будто исключительно о проблемах Франции, авторы статей одновременно обрушивались на порядки и принципы отечественной социальной организации. Непреіменное сочувствие и уважение вызвали поэты и писатели, изображавшие «народ настоящий, который толпится на улицах Парижа в тряпках, в рубище, обуреваехМый страшньши страстЯхМи» (23; 1843, т.31, отд. VIII, с.22).
Такой подход к творчеству обнаружил французский поэт Барбье, чем и привлёк внимание демократической части общества. «Его сатира - это критика смелая, нападающая не на отдельные лица, но вооружающаяся против общего; это страшный вопль сердца, ... негодующего на состояние современного французского общества» (там же), - так определяет специфику таланта Барбье сотрудник «Отечественных записок». И здесь же, по сути, обозначает перспективы такого изображения действительности: «Переход от такой сатиры к изысканию высшей истины, или к утопии ... не труден». Так в подцензурном издании появляются прямые указания на популярные в это время учения социалистов. В полном соответствии с утопическими теориями здесь рассматривается и природа человека: «... нельзя поднимать камень на человека порочного, - утверждает автор статьи, - потому что его пороки и добродетели зависят не столько от него самого, сколько от окружающего его общества» (там же); «При настоящем общественном устройстве (во Франции), добродетели человека, точно так же, как и его пороки, зависят от случайности, его нравственность подчинена совершенно внешним обстоятельствам...» (23; 1843, том 29; отд. VII, с. 13). Наивные представления Фурье об извечной «доброте» человеческой природы находят здесь сочувственное истолкование. Точно также в русле убеждений Фурье и Сен-Симона представляют «Отечественные записки» и назначение современной поэзии: она должна проповедовать «мир и любовь братскую», и всеми силахМИ стремится «к достижению вечной истины, к высшему идеалу» (там же, с.23).
Со страниц «Отечественных записок» в полный рост вставали социальные «райско-нравственные» утопии. Даже непосвящённый в тайны французских доктрин читатель невольно должен был задуматься о судьбах человеческих на путях земных. Тем более, перспективы будущего представлялись здесь бесконечно счастливыми и заманчивыми: «...наши будущие судьбы становятся для нас яснее и яснее. Вот от чего некоторые умы нашего времени предвидят приближение нового нравственного порядка...» (там же, с.24).
Ожидание «золотого века» - магистральная линия идеологии Фурье и Сен-Симона - отзовётся в критических отзывах авторов «Отечественных записок» не раз. При этом грядущая гармония связывается, как правило, с религиозным перерождением общества (что, в общем-то, тоже согласуется с логикой утопистов): «Велик и премудр всемогущий и божественный Промысл... Он ведёт нас по пути обновления и совершенствования к жизни лучшей и непрестанно указывает нам вперёд, туда, на край горизонта, где уже начинает ярко загораться заря...» (23; 1843, т.26, отд. VII, с.20). И только социальная несправедливость мешает видеть сегодня «этот светлый и лучезарный мир, который показывается на горизонте...»(23; 1843, т.31, отд. VII, с.25).
О «золотом веке», неизбежно ожидающем страдающее человечество в будуще.м, «Отечественные записки» рассказывали своим читателям не только в форме отвлечённых малопонятных обещаний, но и предлагали даже самую эту формулу, ссылаясь, конечно, при этом не на Фурье или Сен-Симона, а на вполне безобидного Платона: «...Платон на вопрос Анаксагора: «Так, по-твоему, золотой век точно ожидает смертных?» ответствует ему так: «Верь мне, Анаксагор, верь, она наступит эпоха этого счастья, о котором мечтают смертные. Нравственная свобода будет общим уделом: все познания человека сольются в одну идею о человеке...»(23; 1843г., т.26, отд. VII, с.35). Такие прямые указания не могли остаться незамеченными для передовых читателей 40-х годов. Само понятие «золотой век» даже подсознательно ориентировало на идеи французских социалистов. Поэтому доктрины теоретиков социализма оказывались известны всякому интересующемуся общественно-политической обстановкой в мире.
Рисуя перед современниками картины грядущего блаженства, журнал одновременно выступал против «плачевного состояния современного общества, в котором человек, как бы забыв свое божественное происхождение, предался всем низким животным инстинктам...» (23; 1843, том 31, отд. VII, стр.30). В критике существующего положения вещей авторы многих статей (преимущественно из раздела «Иностранная литература») вставали на путь прямой проповеди сенсимонизма. А для того, чтобы избежать столкновения с цензурой, находчиво прибегали к цитированию фрагментов произведений французских писателей, выражавших нужную идейную направленность. Так появляется почти неприкрытая пропаганда утопических учений (правда, с ссылкой на Э.Сю), выдержанная в резко-обличительном тоне: «О; вы, утопающие в золоте и все-таки не находящие счастья среди своего изобилия ... обратитесь на путь истины ... утешайте скорбящих; исцеляйте страждущих; отыскивайте бедных и помогайте им!» (23; 1843, том 29; отд. VII, с. 17). Эта утопическая мечта о всеобщем братстве, в основу которого положено благодеяние, позднее найдет отражение в поэтическом творчестве петрашевцев. «Провозглашать любви ученье // Мы будем нищим, богачам» (27; 2 69), - главный принцип утопических социалистов А.Н. Плещеев формулирует в точном соответствии с их доктриной. А Ф.М. Достоевский в «Бедных людях» мечту о братстве поставит под сомнение и, возможно, под влиянием тех замечаний, что появлялись на страницах популярного журнала. Бедные люди «горды и робки... Они скрываются от благотворительности» (23; 1843, т.29, отд.VII, с. 17), - именно это качество бедного человека привлечет внимание Достоевского, заставит задуматься о пользе благодеяния. и его «спасительной» функции.
Нет сомнений в том, что Достоевскому был хорошо знаком журнал «Отечественные записки»: сам писатель признавался, что «несколько лет с увлечением» читал Белинского. А между тем статьи Белинского в сороковых годах можно было увидеть только на страницах этого издания.
Одним из источников проникновения идей утопического социализма в Россию были произведения Жорж Санд. В «Отечественных записках», начиная с 1842 года, печатается целый ряд переводов её романов («Орас», «Мельхиор», «Андре», «Домашний секретарь» и др.). Имя французской писательницы в сороковых годах 19 века было известно каждому читающему и мыслящему человеку. «Это, бесспорно, первая поэтическая слава современного мира» (3; 6,279), - писал в 1842 году Белинский, оценивая роль творчества Жорж Санд. Впоследствии Достоевский заметил, что тогдашние правители поступили недальновидно, допустив широкое распространение в 1830 - 1840 годах романов Ж. Санд, и это тогда, когда «остальное все, чуть не всякая мысль, особенно из Франции, было строжайше запрещено», и «вот тут-то именно не Жорж Занде сберегатели дали тогда большого маха» (16; 23,32).
На русском языке произведения Ж. Санд появились «примерно в половине тридцатых годов» (16; 23,33). Определяя значение творчества Ж. Санд для эпохи своей юности, Достоевский утверждал: «... Всё то, что в явлении этого поэта составляло «новое слово», всё, что было «всечеловеческого», - всё это тотчас же в свое время отозвалось у нас в нашей России, сильным и глубоким впечатлением...» (16; 23,32). И дальше: «я думаю, я не ошибусь, если скажу, что Жорж Занд, по крайней мере по моим воспоминаниям судя, заняла у нас сразу чуть не самое первое место в ряду целой плеяды новых писателей...» (16; 23,33).
Идеи социализма, питавшие романы Жорж Санд, были замечены мыслящей интеллигенцией: «Главное то, что читатель сумел извлечь даже из романов всё то, от чего его так тогда оберегали. По крайней мере, в половине сороковых годов у нас, даже массе читателей, было хоть отчасти известно, что Жорж Занд - одна из самых ярких, строгих и правильных представительниц того разряда западных +новьгх тамошних людей, явившихся и начавших прямым отрицанием тех «положительных» приобретений, которыми закончила свою деятельность кровавая французская (а вернее европейская) революция конца прошлого столетия» (16; 23,34). Политические взгляды писательницы определяли социально-утопические учения Сен-Симона и Пьера Леру. Недаром идейная основа творчества писательницы воспринималась именно в плане их пропаганды. Ещё в 1841 году Белинский писал, что у Жорж Санд «в форме повестей, драм и романов осуществляется profession de foi сенсимонизма» (3; 4/ 420). А сама писательница, по замечанию Достоевского, была одной «из самых ясновидящих предчувственниц ... более счастливого будущего, ожидающего человечество...» (16; 23,36).
Важно отметить, что в романах Жорж Санд Достоевский ценил прежде всего именно те социалистические идеи, которые были основаны на христианстве и явились прямым следствием евангельских заповедей. «... Жорж Санд была, может быть, одною из самых полных исповедниц Христовых, сама не зная о том. Она основывала свой социалиЗхМ, свои убеждения, надежды и идеалы на нравственном чувстЁе человека, на духовной жажде человечества, на стремлении его к совершенству и чистоте, а не на муравьиной необходимости. Она верила в личность человеческую, безусловно (даже до бессмертия ее), возвышала и раздвигала представление о ней всю жизнь свою - в каждом своем произведении и тем самым совпадала и мыслию, и чувством своим с одной из самых основных идей христианства, то есть с признанием человеческой личности и свободы ее (а стало быть, и ее ответственности). Отсюда и признание долга, и строгие нравственные запросы на это и совершенное признание ответственности человеческой. И, может быть, не было мыслителя и писателя во Франции в ее время, в такой силе понимавшего, что «не единым хлебом бывает жив человек»» (16; 23,37). Вера Жорж Санд в возможность и необходимость нравственного перерождения человека в полной мере выразилась в романе «Бернар Мопра», получившем восторженный отзыв Белинского. «...Для неё не существуют ни аристократы, ни плебеи, - для неё существует только человек, - и она находит человека во всех сословиях, во всех слоях общества, любит его, сострадает ему, гордится и плачет о нем» (3; 5, 175), - так оценил высокую гуманность романа критик. Ценность добрых дел (или благодеяния), сердечной щедрости и отзывчивости в романе исповедует деревенский философ Пасьянс, но очевидно, что за его рассуждениями стоит сама писательница с её социально-утопическими мечтами. «Ежели сумели люди единодушно возлюбить творение Господа своего, наступит день, когда они единодушно возлюбят друг друга» (29; 3, 379), - такая «райско-розовая» восторженность охотно подхватывалась в России; идеей всеобщего братства были увлечены многие в 40-х годах. Вспоминая об этой эпохе, Салтыков-Щедрин писал: «...В то тенденциозное время не только люди, но и камни вопияли о героизме и идеалах» (28; 14, 134).
Главную беду современного общества Жорж Санд, как и все социалисты-утописты, усматривала в материальной несостоятельности человека: «Несчастливы бедняки оттого, что сиры и наги, в стужу и зной негде им укрыть свое бренное тело, оттого, что алчут и жаждут, что немощную плоть свою не могут уберечь от хворобы» (29; 3, 460). Именно эту формулу поставит под сомнение Ф.М.Достоевский в «Бедных людях». Неспроста Макар Девушкин в негодовании напишет Вареньке: «...па мне все равно, хоть бы и в трескучий мороз без шинели и без сапогов ходить, я перетерплю и все вынесу, мне ничего; человек-то я простой, маленький, - но что люди скажут? Враги-то мои, злые-то языки все эти что заговорят, когда без шинели пойдешь? Ведь для людей и в шинели ходишь, да и сапоги, пожалуй, для них же носишь» (16; 1; 76). В этом напряженном высказывании героя отчетливо1 слышится полемика Достоевского с односторонней трактовкой социального зла. Тем не менее многое в мировоззрении французской писательницы привлекало Достоевского. Очаровывала христианская проповедь любви, усвоенная в полном соответствии с евангельской заповедью. «Возлюбите друг друга всем сердцем» (29; 3,5 78), - этой высоконравственной мыслью заканчивает Жорж Санд роман «Мопра», указывая читателю путь преодоления социального беспорядка. Вера Жорж Санд в высокое предназначение человека, связанная с истинами христианской религии, была высоко оценена молодььм Достоевским. Именно нравственная сторона учения утопических социалистов, по признанию самого писателя, привлекла его в 40-х годах.
Опубликованный в «Отечественных записках» за 1842 год роман «Орас» утвердил славу Ж. Санд в России. В этом романе остро поставлена проблема социального равенства. Как и в других своих произведениях, Ж.Санд гневно обличает здесь несправедливое общественное устройство, при котором «все преимущества богатой, утонченной жизни украшают людей обиженных природою и носящих на челе своем неизгладимые признаки физической, умственной и нравственной слабости» (23; 1842, т.24, с.53). Любопытно, что такие заведомо крамольные мысли беспрепятственно пропускала цензура. Точно такие же горестные размышления автора о социальном неблагополучии и несправедливости можно встретить и в романе «Мельхиор», опубликованном в следующем, 25-ом, томе «Отечественных записок»: «Если б тот не был рожден в высоком звании, он годился бы только для самых низких должностей в обществе; если б другой выучился читать, он был бы Кромвелем» (23; 1842, т. 25, с.287).
«Отечественные записки», кроме самих художественных произведений, охотно печатали и литературно-критические статьи Ж. Санд. Так, в отделе «Иностранная литература» появляется предисловие к роману Сенанкура «Оберманн», в котором писательница формулирует задачи новой литературы. «Эта новая литература идеальная, внутренняя (субъективная), разлагающая сокровенные движения души человеческой, - не будет стараться о том, чтоб забавлять и развлекать праздные воображения... Она не станет поражать внешним блеском, но будет постоянно говорить душе, ибо её тайные, внутренние драмы видимы будут только для мысли, но не видимы для глаз. Трудная роль приготовляется ей - и не вдруг будет понята она. И сначала восстанет против неё большинство, и много битв она должна будет выдержать прежде, че м водрузит свое победоносное знамя на развалинах современной эпической (объективной) литературы...» (23; 1843, т.28, отд.УП, с.ЗЗ). Это предисловие стало манифестом писателей «натуральной школы». Уже в «Бедных людях» откликнулся на призыв Ж.Санд Достоевский, сосредоточив внимание именно на «внутренних драмах» человеческой души.
Впрочем, многие писатели сороковых годов XIX ориентировались на сенсимонистскую идеологию французской писательницы. Не без её воздействия пишет свои «Петербургские вершины» Я.П. Бутков. В описании системы понятий, господствующей во всех классах общества, Бутков во многом укладывается в социальную теорию Жорж Санд: «Нужно ли распространяться о том, что каждый бедняк, каждый глупец ... каждый бесталанный горемыка чародейственной силой рублей превращается в весьма хорошего человека, даже в весьма разумного человека, благородной наружности, внушающей уважение, и даже в человека с отличными дарованиями и интересною наружностью, в которой есть что-то такое особенное, этакое! Ясно, что разум и дарования заключаются в самих рублях, а рубли сообщают свои качества тем, у кого они в руках» (6; 13). В духе идей утопического социализма рассуждает чиновник из рассказа Буткова «Почтенный человек». По его убеждению, «кто возвысился до социальной благотворительности, самоотвержения из любви к ближнему, кто публично, безнаказанно облегчал участь страждущего человечества, тот ... абсолютно почтенный человек» (6; 108). Рассуждения о любви к ближнему, о «страждущем человечестве» типичны для утопистов, и, прежде всего, для Жорж Санд. Под обаяние этих прекраснодушных надежд попадали многие в сороковых годах. Не случайно и в «Бедных людях» Достоевского отзовется идея «социальной благотворительности», ставшая краеугольным камнем идейно-художественного мира романа.
Целое поколение писателей середины XIX века в своем художественном творчестве непременно сталкивалось с проблемами социальной несправедливости и, как правило, в обличении существующего порядка вещей и поиске путей преобразования общества смыкалось с теоретиками социализма. Именно так оценивал современную действительность и перспективы общественного развития Д.В.Григорович. Л.М.Лотман отмечает, что в тех его повестях, где речь идет о правах женщины, отчетливо слышится воздействие идеологии Жорж Санд (87; 1, 434). Через увлечение теориями Жорж Санд и Пьера Леру (что, в общем-то, одно и то же) прошел и Ап. Григорьев. Он ещё до сближения с петрашевцами был знаком с идеями утопических социалистов, о чем свидетельствуют его раннее (1843-1845гг.) поэтическое творчество. Так, в стихотворении «Комета», созданном в 1843 году, по наблюдению Б.О. Костелянца, уже содержатся идеи Фурье (10; 525). При этом важно отметить, что отношение Григорьева к доктринам теоретических социалистов было очень сложным. С одной стороны, в его творчестве заметную роль играет социально-обличительная тенденция, восходящая к французским утопистам. В таком стиле выдержано стихотворение «Город», в котором поэт с гневом обрушивается на противоречия и социальные контрасты жизни: «И пусть горят светло огни его палат, / Пусть слышны в них веселья звуки, - / Обман, один обман! Они не заглушат / Безумно страшных стонов муки!» (10; 101). В восприятии большого города, который, по определению поэта, «гигант, больной гниеньем и развратом» (10; 116), Ап. Григорьев смыкается с утопическими социалистами и, прежде всего, с Фурье. И французские утописты, и русские петрашевцы были решительными противниками больших городов, по их мнению, воплощавших хаос. Социальная острота свойственна и другим стихотворениям поэта, таким, например, как «Нет, не рожден я биться лбом», «Когда колокола торжественно звучат...». В них отчетливо звучат идеи утопического социализма, хотя социализм Ап. Григорьева явление, безусловно, сложное. В драме 1845 года «Два эгоизма» ставится под сомнение ценность и необходимость идеалов русских фурьеристов, а сам Петрашевский выведен в окарикатуренном образе Петушевского. Очевидно, разделяя с фурьеристами критику современной действительности, молодой писатель не принимал их принципов и методов переустройства общества. Б.Ф. Егоров отмечает, что Ап. Григорьев был «сложным промежуточным звеном между радикальными и консервативными утопистами» (74; 31). При этом несомненным остается факт (и на него указывают все исследователи) увлечения Григорьева христианским социализмом Жорж Санд.
М.Е. Салтыков-Щедрин, вспоминая эпоху своей юности, тоже отметил влияние идей французской писательницы: «Из Франции Сен-Симона, Кабэ, Фурье, Луи Блана и в особенности Жорж-Занд лилась в нас вера в человечество; оттуда воссияла нам уверенность, что золотой век не позади, а впереди нас» (28; 14, 152).
На призывы Жорж Санд изменить отношение к художественному творчеству (вспомним предисловие к роману Сенанкура) живо отозвались и русские фурьеристы. М.В. Буташевич-Петрашевский вслед за Ж.Санд так обозначил задачи современной литературы: «Любимым миром для воображения поэта должен стать внутренний мир человека; не факты должны вдохновлять его, а их источник» (34; 269). Созвучно этим рассуждениям, ещё в августе 1839 года, восемнадцатилетний Достоевский писал брату: «Человек есть тайна, её надо разгадать, и ежели будешь её разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком» (16; 28 63). В таком подходе к действительности сказывается, конечно, влияние романтической традиции, дань которой отдал будущий писатель. Но здесь в то же время заложены и основы концепции утопического социализма (во всяком случае, в жорж-сандовской его интерпретации).
О популярных идеях утопического социализма к сороковым годам XIX века было известно каждому интересующемуся этими доктринами. В 1842 году, в журнале «Библиотека для чтения» Сенковский (Барон Брамбеус), отзываясь на сочинение В.В.Строева «Париж в 1838 и 1839 годах», иронично замечал: «Нам ли хочет г-н Строев толковать, что такое Париж в 1839 году, нам ли, которые, сидя здесь, живе ч в Париже, думаем в Париже, чувствуем и разоряемся в Париже... Да мы знае м Париж лучше, нежели сами парижане» (4; 1842, №2, с.55). При этом известно, что судьбы Франции интересовали весь мир исключительно в отношении идеологических поисков, осуществлявшихся сторонниками и продолжателями Фурье, Сен-Симона, Леру. П.В. Анненков, вспоминая свое возвращение в Россию, тоже отмечает, что в Петербурге «далеко не покончил все расчеты с Парижем, а, напротив, встретил дома отражение многих сторон тогдашней интеллектуальной его жизни» (1; 185). Идеи утопических социалистов (помимо воздействия Жорж Санд) отозвались и в творчестве Герцена. Его прозу характеризуют напряженные размышления о значении и сущности утопического социализма. Находясь под обаянием заманчиво-прекрасных надежд Сен-Симона, писатель сочувственно относился к этической стороне утопических учений: «Доселе с народом можно говорить только через священное писание и, надобно заметить, социальная сторона христианства всего менее развита; евангелие должно взойти в жизнь, оно должно дать ту индивидуальность, которая готова на братство» (7; 2, 266-267). В то же время Герцен, ощущая абстрактность и во многом нежизнеспособность утопических теорий, критически оценивал программу французских социалистов. В большей степени его не устраивала узость, «убийственная прозаичность» конкретных задач теоретиков социализма (7; 2, 345). «Фаланстер — не что иное, как русская община и рабочая казарма, военное поселение на гражданский лад, полк фабричных, - писал Герцен в эпилоге книги «О развитии революционных идей в России». - Замечено, что у оппозиции, которая открыто борется с правительством, всегда есть что-то от его характера, но в обратном смысле. И я уверен, что существует известное основание для страха, который начинает испытывать русское правительство перед коммунизмом: коммунизм — это русское самодержавие наоборот» (7; 7,253). С не меньшей тревогой следил за развитием социалистических идей в России В.Ф. Одоевский. Последовательным и убежденным сторонником фурьеризма он не был, но в 40-50-х годах, очевидно, повинуясь голосу эпохи, обращает внимание на проблемы экономического и социального порядка, изучает социалистов-утопистов. Осознавая нежизнеспособность утопических теорий, писатель не поддается их «райско-розовому» очарованию. В одной из своих заметок по поводу фурьеристов он пишет следующее: «Я бы их отправил в Богадельню Преображенского раскольничьего кладбища, пусть бы на практике отведали коммунизма» (цит. по: 137; 443). И все же, несмотря на несогласие с теориями социалистов и грубовато-резкий тон в их оценке, Одоевский до известной степени сочувствовал утопистам, объединяясь с ними в решении некоторых вопросов. Как и Достоевского, его привлекала христианская составляющая утопических теорий, наивная, но человеколюбивая мечта спасти мир всеобщей идеей благодеяния. «В наше время, которое бранят ... и индустриализмом, и денежным аристократизмом, и социализмом, и коммунизмом, и материализмом, -словом, всеми возможными измами, - писал Одоевский, - нельзя однако ж не заметить утверждающегося ощущения, рациональные выводы нашего времени доводят, в конце концов, к следующей, очень простой мысли, а именно: что всякий человек должен помогать другому и друг другу тяготы носить» (цит. по: 137, 440). В этом замечании писателя содержится, по сути, прямая проповедь апостольской заповеди: «Друг друга тяготы носите и так исполните закон Христов» (Гал., 6, 2). В.Ф. Одоевский не был теоретиком и апологетом утопического социализма, но христианский аспект учения Фурье и Сен-Симона, безусловно, привлекал его внимание. Более того, он не только рассуждал по поводу будущей гармонии, основанной на взаимной любви и благодеянии, но сам участвовал в спасительном деле благотворительности. Он организовал в столице Общество посещения бедных просителей, просуществовавшее с 1846 по 1855 год и закрытое правительством из опасений пропаганды крамольных социальных идей. Заметим, что утопическая мечта благодеянием спасти дисгармоничное общество и униженного человека свойственна была целому поколению середины девятнадцатого столетия, воспитанному на идеях фурьеризма и сенсимониЗхМа. И французские, и русские писатели и мыслители неизбежно сталкивались с суровыми реалиями «проклятой» действительности и в поисках путей преодоления социальных противоречий очень часто останавливались на идее благодеяния, тем более, что идея эта в полной мере воплощала высокую христианскую этику, и, следовательно, не могла отступать от законов вечной справедливости. Ж. Санд, Барбье, Э. Сю, Бутков, Некрасов (в его незаконченном романе «Жизнь и похождения Тихона Тростникова»), Плещеев, Петрашевский и многие другие в надежде искоренить социальное зло прошли через этап увлечения благотворительностью. Вполне закономерно потому и обращение молодого Достоевского в «Бедных людях» к этой ставшей популярной теме. Но, в отличие от большинства своих современников, Достоевский, оценивая перспективы и возможности такого пути, усмотрел глубочайшие заблуждения и просчеты сторонников этой идеи.
Разобраться в сложных социальных вопросах, замешанных к тому же на христианской этике, юному Достоевскому было, конечно, не просто. Но кроме книг, которых прочитано им было великое множество и откуда он черпал всевозможные идеи, был у него старший друг и наставник, которому в становлении мировоззрения Достоевского, по-видимому, и принадлежала роль учителя. Другом этим был Иван Николаевич Шидловский - поэт-романтик, личность исключительной глубины, беспокойного духа, бурных страстей. Дружба не была продолжительной: знакомство братьев Достоевских с Шидловским состоялось в 1837 году, а в январе 1840 года Иван Николаевич покинул Петербург. Тем не менее, влияние этого человека на юную, неокрепшую душу будущего писателя было велико. В 70-х годах своему биографу Достоевский говорил: «Непременно упомяните в вашей статье о Шидловском, нужды нет, что его никто не знает, и что он не оставил после себя литературного имени, ради Бога, голубчик, упомяните, это был большой для меня человек, и стоит он того, чтобы имя его не пропало» (16; 282, 605). Более тридцати лет минуло с тех пор, как расстались друзья, окончательно оформились и приобрели зрелый вид ценностные представления писателя, но в его памяти сохранился образ этого удивительного человека, и, конечно, не случайно. Значит, роль Шидловского значительней, чем может показаться на первый взгляд. Сохранилось довольно мало сведений об этом раннем товарище Достоевского. Известно, что он получил хорошее образование (окончил Харьковский университет), затем состоял на службе в Министерстве финансов, но, прослужив недолго, вышел в отставку и уехал из Петербурга в имение к матери. Дома он занимался подготовкой Истории Русской Церкви, но, очевидно, ученая деятельность не могла удовлетворить все запросы его богатой натуры, поэтому, почувствовав неудовлетворенность своей жизнью, он принимает решение поступить в Валуйский монастырь послушником. Но и там не находит успокоения его мятущаяся душа. И вот новый виток событий его богатой на приключения судьбы: встретившись в паломническом путешествии со старцехМ, Иван Николаевич по его совету покидает монастырь и возвращается домой, где и живет до самой своей смерти, не снимая одежды инока-послушника. Все жизненные странствия и поиски Шидловского сопровождались страстным стремлением обрести ускользающую истину. По воспоминаниям Л.В.Шидловской, на окружающих он «производил впечатление человека необыкновенного», потому окружающие легко попадали под его влияние (36; 5). Достоевскому было восемнадцать, когда в его жизни появился талантливый и беспокойный Шидловский и увлек его своими неотразимо прекрасными идеалами о высоком предназначении человека. Романтический культ внутренней жизни, который горячо исповедовал Шидловский, оказался близок и юному Достоевскому. Он с легкостью подхватил представления своего друга о самоценности и значительности каждой личности. Сближала товарищей также страстная любовь к литературе и искусству. Эта дружба, по замечанию М.П. Алексеева, надолго определила «книжные увлечения Достоевского и все уклоны его юношеского романтизма» (36; 3). С восторгом делится Ф.М. Достоевский с братом своими впечатлениями о Шиллере: «Я вызубрил Шиллера, говорил им, бредил им; и я думаю, что ничего более кстати не сделала судьба в моей жизни, как дала мне узнать великого поэта в такую эпоху моей жизни; никогда бы я не мог узнать его так, как тогда. Читая с ним Шиллера, я поверял над ним и благородного, пламенного Дон Карлоса, и маркиза Позу, и Мортимера. Эта дружба так много принесла мне и горя и наслажденья! Теперь я вечно буду молчать об этом; имя же Шиллера стало мне родным, каким-то волшебным звуком...» (16; 28i, 69). В атмосфере сильнейшего увлечения романтической литературой крепла дружба двух восторженных молодых людей. Заметное воздействие оказывала на молодого Достоевского и лирика самого И.Н. Шидловского: «Ах, скоро перечитаю я новые стихотворения Ивана Николаевича. Сколько поэзии! Сколько гениальных идей!» (16;28і, 55); О ежели бы ты знал те стихотворенья, которые написал он прошлою весною» (16; 28j 68). До нас дошло мало стихотворных опытов Шидловского, но и то, что сохранилось, позволяет сделать выводы относительно характера и специфики его поэтического творчества. Лирика И.Н. Шидловского несет на себе основные характерологические черты романтизма с его тяготением к изображению вулканических страстей, обостренных чувств, стирающих границы времени и расстояния: «Ни расстояние, ни время / Все разделяя, все губя / Моей любви святое бремя / Отвлечь не властно от тебя» (36; 16). Лирический герой в стихотворениях поэта в соответствии с канонами романтического мироощущения утверждает себя как личность над окружающей пошлой действительностью: «Ах, когда б на крыльях волн / Мне из жизненной юдоли / В небеса откочевать, / В туче место отобрать, / Там вселиться и порою / Прихотливою рукою / Громы чуткие будить / Или с Богом говорить...» (36; 16). И тем не менее в этом стихотворении наряду с горделивым обособлениехМ себя от презренного мира герой не уходит в глубины мрачного безверия и пессимизма, а тянется к свету, к истине, к Творцу. Религиозный план играет здесь заметную роль, и это вполне объяснимо. Автор стихотворений всю свою сознательную жизнь очень остро ощущал потребность лучшего, высшего бытия, организованного по законам добра и правды. Поиск верного пути, связанный с христианскими убеждениями, составлял главную философско-мировоззренческую задачу Шидловского. В стихотворении, датированном 1842-м годом, предельно остро поставлена проблема религиозного осмысления действительности и человеческого существования: «...Пусть буря страшная извне / Грозит бедой опустошенья / В числе других людей и мне: / В моей душевной глубине / Довольно якорей спасенья. / Я непременно устою в переворотах всякой бури; / Бог, кормчий мой, стрежет ладью; / Звезду вожатую мою / Он теплит ясно так в лазури. / Он не к себе ль ведет меня, / Отец, всемощный покровитель?» (36; 17). Поэтическая мысль Шидловского далека здесь от эгоистического самоутверждения романтизма; лирический герой стихотворения в странствии земном полагается только на Бога, исключая всякие собственные попытки вмешаться в течение жизни. Он ощущает присутствие Творца в судьбе каждого человека, и только надежда на Спасителя удерживает мятущуюся душу романтика от погружения в бездну страха перед роковой неизбежностью происходящих событий. Христианскими убеждениями поэта преодолевается байроновский «безнадежный эгоизм». Это стихотворение в понимании нравственно-философских позиций И.Н.Шидловского имеет принципиальное значение, в нем, по сути, вскрывается идеологическая доминанта мировоззрения поэта. Цитированные выше строки - прекрасный образец «сосредоточенной религиозной философии, облеченной в подвижные формы боевого романтизма» (36; 18). Ни социальные, ни общественно-политические проблемы бытия И.Н. Шидловского не интересуют. Человек как самоценное явление со всеми его внутренними противоречиями и загадками, человек в его отношении к Богу - вот предмет напряженных размышлений поэта. Впечатлительный Достоевский ловит каждое слово своего старшего товарища, а брату в письме признается: «... я был в каком-то восторженном состоянии. Знакомство с Шидловским подарило меня столькими часами лучшей жизни» (16; 28i;69). Достоевского, без сомнения, увлекала страстная поэзия Шидловского, но все же, как утверждает М.П.Алексеев, в большей степени он любил в нем не поэта, а «человека и друга» (36; 19). «Взглянуть на него: это мученик! Он иссох; щеки впали; влажные глаза его были сухи и пламенны; духовная красота его возвысилась с упадком физической. Он страдал! тяжко страдал!» (16; 28i 68), - в этой характеристике слышится безграничное восхищение, причем акцент делается преимущественно на духовном содержании личности Шидловского. Именно в этом отношении Иван Николаевич был для своего юного товарища примером и, в общем-то, недосягаемым идеалом. Будущего писателя магнетически притягивала одухотворенная красота старшего друга, его нравственные страдания, в горниле которых закалился его характер и четко обозначился мученический ореол. В этот период И.Н. Шидловский в глазах Достоевского праведник, поэтому так прочно усвоил он главные мировоззренческие позиции товарища. В духе религиозно-философских исканий Шидловского он заімечает в письме от 16 августа 1839 года: «Душа моя недоступна прежним бурным порывам. Все в ней тихо, как в сердце человека, затаившего глубокую тайну; учиться, «что значит человек и жизнь», - в этом довольно успеваю я; ... Человек есть тайна. Её надо разгадать...» (16;28і;63). Иван Николаевич Шидловский пробудил в своем юном друге стремление заглянуть в глубины человеческой души, и, начиная с «Бедных людей», этот подход к литературному творчеству станет для Достоевского главным критерием художественности. Конечно, в творчестве писателя (особенно в «Бедных людях») отчетливо заявит себя социальная тема, но, благодаря влиянию Шидловского, она приобретет полемическую направленность. Уроки, преподнесенные старшим другом, Достоевский запомнил на всю жизнь. Отсюда, из ранней юности, он вынес стойкое убеждение, что гармония покупается страданием, что земное благополучие не составляет главную ценность человеческого существования. И даже в пору его увлечения утопическим социализмом, в 1847 году, он выскажется словами религиозного романтика: «Подлецы они с их водевильным земным счастьем. Подлецы они» (16; 28ь 138). Христианские ценности, с меркой которых подходил к жизни И.Н. Шидловский, стали органичны и для молодого Достоевского. Именно эти высокие православно-христианские идеалы остранили в сознании писателя концепцию утопического социализма.
В формировании философско-мировоззренческих убеждений Достоевского, вероятно, заметную роль сыграла и сама атмосфера Инженерного училища. В двадцатые годы один из лучших воспитанников этого учебного заведения Д.А. Брянчанинов и его друг поручик М. Чихачев ушли послушниками в монастырь. В среде Инженерного училища долго хранились воспоминания о двух праведниках, пренебрегших карьерой, успехом, блестящими перспективами и посвятивших жизнь свою служению Богу и людям. Н.С.Лесков писал, что вскоре в стенах училища образовался кружок «почитателей святости и чести». Под влияние высоконравственных идей Д. Брянчанинова попал Н.Ф. Фермор, будущий преподаватель Инженерного училища. Усвоив благородные стремления своих старших товарищей, он способствовал сохранению в учебном заведении христианского духа совести и чести. Возможно, благодаря присутствию Фермора, традиции кружка «почитателей святости и чести» дожили и до времени Достоевского. В обстановке обостренного религиозного интереса в среде воспитанников Инженерного училища выросла и окрепла дружба молодого Ф.М.Достоевского с Шидловским, для которого христианско-нравственные идеалы составляли главную ценность бытия. Но почти в это же время будущий писатель знакомится и с програ \імой утопического социализма: он внимательно и напряженно читает романы Жорж Санд, с увлечением проСхМатривает статьи Белинского. Противоречащие друг другу в главном и смыкающиеся в некоторых частных вопросах социальное и религиозное учения каждое по-своему притягивало юного Достоевского. Хотелось разобраться во всех этих тревожащих ум и душу вопросах, ответить на самые коренные вопросы бытия.
Особую роль, по собственному признанию Достоевского, в становлении его философско-мировоззренческой позиции сыграл В.Г. Белинский. Вначале будущему писателю известны были только его литературно-критические статьи, регулярно появлявшиеся в «Отечественных записках», и лишь потом состоялось личное знакомство. Белинский, в 40-х гг. горячо проповедавший теории Фурье и Сен-Симона, стал для Достоевского вторым после Жорж Санд учителем на пути постижения идей социализма. Его критические статьи в этот период приобретают резкую социально-обличительную направленность; он с гневом обрушивается на безнравственное общество, в котором пороки и несправедливость стали нормой существования. В то же время созерцание «грязной действительности» приводит к тому, утверждает критик, что яснее представляется «то, что должно быть». Предчувствие другой, «идеальной» действительности не покидает Белинского (3; 5, 567). В это время он приходит к убеждению, что задача литературы заключается исключительно в правдоподобном изображении жизни: «Только жалкие писаки подбеливают и подрумянивают жизнь, стараясь скрывать её темные стороны и выставляя только утешительные. .. . Истина выше всего, и как ни закрывайте глаза от зла - зло от этого не меньше существует-таки» (3; 6, 35). Решительные призывы Белинского изменить принципы художественного изображения действительности находили в среде молодых талантливых писателей сочувствие и поддержку. Белинский тем временем шел дальше, чем просто осуждение общественных порядков и нравов: в своих статьях он проводил идеи утопического социализма. Объединяясь во взглядах на человеческую природу с теоретиками фурьеризма, критик в статье «Русская литература в 1843 году» замечает: «Да, люди всегда будут людьми - прежние не лучше и не хуже нынешних, нынешние не лучше и не хуже прежних; но общество улучшается, и на его улучшении основан закон развития целого человечества» (3; 8, 86-87). Все социальное зло, по мнению Белинского, происходит единственно от неразумно устроенного общества, а человек в этом случае лишь жертва обстоятельств. Вероятно, Достоевского, который к этому времени уже прошел школу религиозно-нравственной философии, смущала такая односторонняя трактовка общественного неблагополучия. Ведь он уже знал, что человек сложнее всех внешних обстоятельств и одним «водевильным земным счастьем» не решить проблемы. Да к тому же если, как утверждает критик, люди во все времена одни и те же, то тогда нет никакой необходимости разгадывать «тайну» человека, потому что её нет вовсе. Достоевскому, конечно, было сложно согласиться со всеми выводами Белинского, слишком сильны были собственные выстраданные убеждения. Для Белинского же в сороковых годах нет дороже идеи, чем социальная: «Социальность, социальность - или смерть! Вот девиз мой, - пишет он в письме к В.П. Боткину в сентябре 1841 года. - Что мне в том, что живет общее, когда страдает личность? Что мне в том, что гений на земле живет в небе, когда толпа валяется в грязи? ... Что мне в том, что для избранных есть блаженство, когда большая часть и не подозревает его воЗхМожности? Прочь же от меня блаженство, если оно достояние мне одному из тысяч! Не хочу я его, если оно у меня не общее с братьями моими! Сердце мое обливается кровью и судорожно содрогается при взгляде на толпу и её представителей» (3; 12, 69). Эти строки точно комментируют подцензурные статьи Белинского, где он не мог с такой прямотой высказать свое отношение к существующему порядку вещей.
Искреннее сочувствие угнетенным, страстность в обличении и неприятии зла делали В.Г. Белинского кумиром передовой молодежи сороковых годов. Под обаяние проповеди сострадательной любви к ближнему попадает и Ф.М. Достоевский: эти идеалы словно принадлежали ему самому. Провозглашенному Белинским требованию социальности в этот период подчинилось большинство писателей. В рамках нового гуманистического направления, в жанре физиологического очерка, начинает свою литературную деятельность Д.В. Григорович. Его «Петербургские шарманщики», хорошо знакомые Достоевскому, имели успех и получили одобрение самого Белинского. Начинающий писатель в этом очерке поставил перед собой в общем-то традиционную для своего времени задачу: «Я не хочу здесь представлять шарманщика идеалом добродетели; ещё менее расположен я доказывать, что добродетель составляет в наше время исключительный удел шарманщиков... Нет, я хочу только сказать, что в шарманщике, в его частной и общественной, уличной жизни многое достойно внимания» (9; 1, 6-7). Большинство русских писателей, начиная с Гоголя, стремились увидеть в маленьком человеке человека, признать за ним право на чувства, добродетели и пороки. Внимание читателя сосредотачивалось на грязных, удручающих сторонах жизни демократического героя, а в самом бедном человеке авторы стремились отыскать «много благородного, прекрасного и святого». «...Под грубою его оболочкою скрывается очень часто доброе начало - совесть» (9; 1, 6-7), -писал Д.В. Григорович. Ему вторил Е. Гребенка, призывая своего читателя непременно прогуляться на Петербургскую сторону: «Если у вас много денег, если вы живете в центре города, ... если ваши глаза привыкли к яркому свету газа и блеску роскошных магазинов, и вы, по врожденной человеку способности, станете иногда жаловаться на судьбу, ... то советую вам прогуляться на Петербургскую сторону, эту самую бедную часть нашей столицы... Вспомните, что в них (домах. - С.Л.) живут десятки тысяч бедных, но честных тружеников...» (33; 199). Униженные и оскорбленные обитатели чердаков и подвалов обретали на страницах произведений сороковых годов самостоятельную жизнь. В это время русская литература словно раскрывала скобки известного пушкинского тезиса: «Что такое станционный смотритель? Сущий мученик четырнадцатого класса, огражденный своим чином только от побоев, и то не всегда (ссылаюсь на совесть моих читателей)». Пристальное внимание к маленькому человеку было приметой времени, поэтому обращение Достоевского в своем дебютном произведении к этой традиционной теме не было случайным. А.Г. Цейтлин замечает, что «Достоевский получил гоголевское наследство не только непосредственно, но и косвенно через Даля, Гребенку, Михаила Достоевского, Буткова и сотню мелких писателей, которые Достоевскому были несомненно известны, им читались, а в массе своей производили на него влияние не меньшее, чем Гоголь» (162; 2). Все эти писатели (сторонники и продолжатели традиций натуральной школы) группировались вокруг Белинского и в своем художественном творчестве воплощали идею социальности.
Верность действительности - вот новое требование, которое было предъявлено литературе все м ХОДОМ исторического процесса. В рамках нового направления развивалась вся мировая литература. В 1835 году, рецензируя отдельное издание «Этюдов о нравах» Бальзака, французский критик Феликс Давен писал: «Здесь нашла свое завершение победа правды в искусстве» (2; 6, 516). Влияние романов О. Бальзака на Достоевского очевидно: «Бальзак велик! Его характеры - произведения ума вселенной! Не дух времени, но целые тысячелетия подготовили бореньем своим такую развязку в душе человека» (16; 28і;51), - пишет Ф.М. Достоевский брату в августе 1838 года. А в конце 1843, ничего не сообщая в письмах о своей работе, он уже заканчивал перевод «Евгении Гранде» Бальзака. В этом романе автор, следуя своему принципу изображать жизнь такой, какая она есть, обратился к частной жизни провинциальных аристократов. Болью за человека проникнуты многие страницы произведения; автор замечает, как неумолимо быстро утрачивают люди в эпоху буржуазного строя представления об истинных ценностях жизни, всё подчиняя власти золота: «Скряги не верят в будущую жизнь, для них все - в настоящем. Эта мысль проливает ужасающий свет на современную эпоху, когда ... деньги владычествуют над законами, политикой и нравами. Установления, книги, люди и учения - все сговорилось подорвать веру в будущую жизнь, на которую опиралось общество в продолжение восемнадцати столетий. Ныне могила - переход, которого мало боятся. Будущее, ожидающее нас по ту сторону Реквиема, переместилось в настоящее. Достигнуть ... земного рая роскоши и суетных наслаждений, превратить сердце в камень, а тело изнурить ради обладания преходящими благами, как некогда претерпевали смертельные муки в чаянии вечных благ, - такова всеобщая мысль!» (2; 6, 83). Тема развращающей власти денег в ином аспекте осмысливается французским писателем. В определенном смысле он идет дальше, чем русские писатели натуральной школы, сосредотачивавшие внимание исключительно на вопросах насущных (позднее Достоевский обозначит их «идеей спасения животишек»). Бальзак усматривает пробле му в духовном омертвении общества, в неспособности современного цивилизованного человека абстрагироваться от подавляющей власти материального. Автор «Евгении Гранде» не делит человечество на два антагонистических класса: бедняков и обеспеченных. По мысли писателя, угроза нравственного разложения грозит при существующем укладе каждому человеку, забывшему, что «не хлебом единым жив человек». Обличительная мысль Бальзака глубже, чем осуждение имущего сословия, она восходит к христианским догматам, призывающим человека собирать сокровища нетленные.
Таким образом, молодой Достоевский в сороковых годах сталкивался с разными вариантами прочтения популярной идеи социальности. Бальзак за временным стремился разглядеть вечное; радикально настроенные писатели русской натуральной школы обличали только имущественное неравенство, усматривая в этом главную беду общественной организации. Белинский вообще решительно требовал «блаженства» для всех «обитателей чердаков и подвалов». Юному Достоевскому непросто было разобраться во всех этих противоречивых суждениях. А, между тем, за злободневными насущными вопросами в полный рост вставали проблемы иного качества, связанные с бытийными категориями временного и вечного. К этим размышлениям Достоевского подталкивала ранняя его дружба с Шидловским, определившая религиозно-нравственное направление мысли и творчества будущего писателя. Социальные учения в любой их интерпретации обнаруживали свою односторонность перед вечностью и бессмертием. В такой идеологически сложной обстановке формировалась социально-философская позиция Достоевского.