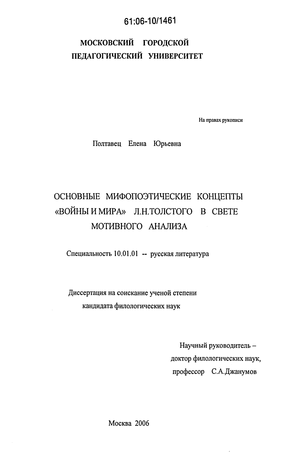Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Мифопоэтические концепты в антропонимике «Войны и мира» 17.
Глава 2. Образ пространства и концепт «пряжа». Концепт границы 49.
Глава 3. Лейтмотив как манифестант концепта (на примере концептов «дверь», «дерево», «небо», «вода», «камень», «ягоды», «пчелы», «муха», «куб», «сфера»). Мотив сакральных чисел 98.
Глава 4. Христианские концепты «птица небесная» и «Отец и Сын». Танатопоэтика «Войны и мира» 138.
Заключение 170.
Примечания 177.
Библиография 189.
- Мифопоэтические концепты в антропонимике «Войны и мира»
- Образ пространства и концепт «пряжа». Концепт границы
- Лейтмотив как манифестант концепта (на примере концептов «дверь», «дерево», «небо», «вода», «камень», «ягоды», «пчелы», «муха», «куб», «сфера»). Мотив сакральных чисел
- Христианские концепты «птица небесная» и «Отец и Сын». Танатопоэтика «Войны и мира»
Введение к работе
Актуальность исследования. Бурно развивающийся процесс «ремифологизации» в современном русском литературоведении и современной культурологии носит, однако, весьма неравномерный характер. В настоящее время «прорыв» осуществлен в исследовании мифопоэтики творчества Ф.М.Достоевского, Н.С.Лескова, Н.В.Гоголя, некоторых произведений А.С.Пушкина, русского романтизма и литературы «серебряного века», а также отдельных явлений современной литературы. В немалой степени это объясняется «сознательным мифологизированием» (Мелетинский, см. примеч.1) авторов, попавших в круг интересов литературоведения, а также (особенно в случае Достоевского и Лескова, ориентированных в основном на христианскую образность) причинами внеположного филологической науке свойства, одной из которых является нередкое смешение православно-идеологических установок исследователя с методологией его же литературоведческих исканий.
Толстоведение, на наш взгляд, не должно оставаться в стороне от новых подходов и к мифу, и к литературе. Однако ни в литературоведческом, ни тем более в читательском восприятии Лев Толстой до сих пор не существует как мифотворец, пророк (не «смешной»), сверхисторик, создатель «практической религии», как он сам называл свое учение.
Между тем общепризнанный приоритет Толстого как психолога, первооткрывателя «диалектики души» (какое бы «ясновидение» - «плоти» или «духа», говоря словами Д.С.Мережковского, ему ни приписывать), взывает к тому, чтобы при анализе толстовских произведений литературовед исходил «из вечно живой мифологической почвы в самой художественной фантазии, в психике» (2) писателя. Все это делает, на наш взгляд, особенно актуальной постановку вопроса о мифопоэтике (и, конечно, архетипике) произведений одного из величайших художников человечества, чье влияние сказалось в творчестве таких в разной степени «мифологизирующих» писателей XX века, как Т.Манн, У.Фолкнер, Р.Роллан и др.
В последнее время заново поставлен вопрос о жанровой специфике «Войны и мира» (в работах Н.К.Гея, В.А.Недзвецкого, С.М.Телегина, несколько ранее - Г.Д.Гачева, справедливо ставящих под сомнение гибридный термин «роман-эпопея», введенный в толстоведческий оборот А.В.Чичериным), мы же сознательно избегаем называть «Войну и мир» романом или романом-эпопеей, стараясь придерживаться знаменитого определения «книга», которое дал своему «писанию» (еще одна авторская дефиниция) сам автор. Однако образная структура «Войны и мира» в свете сознательной толстовской ориентации на архаику, на «ископаемый» (К.Н.Леонтьев) жанр, на разного рода «книги», прежде всего Библию, изучена еще недостаточно. Так, не получила объяснения глубокая апорийно-
притчевая основа «Войны и мира», связанная с общими особенностями сакральных текстов, свойственной им многоуровневостью, парадоксальностью, иносказательностью, даже криптографичностью (это характерно и для Библии, и для «Дхаммапады», и для «Дао дэ цзин», и для «Ригведы»), что в «Войне и мире» соседствует с прямыми гомилетическими воззваниями и пояснениями. Современников Толстого, например, буквально повергали в оцепенение огромные философско-исторические «отступления» от того, что они простодушно воспринимали как «l'occasion de Nathalie de Rostoff et du prince Andre» (3); до сих пор остаются непроясненными с жанровой точки зрения функции античной апории и парадокса (об Ахиллесе и черепахе, о Муции Сцеволе), евангельской парадоксальной притчи о талантах, упомянутой в «Эпилоге», авторских парадоксов о яблоке и мальчике, о паровозе и мужиках, каратаевских многочисленных паремий, в том числе и о безвинно пострадавшем купце. В этом смысле внимания заслуживает трактовка Г.Д.Гачевым (4) спора Кутузова с Бенигсеном в Филях как типологически сходного с опровержением демагогических софизмов Терсита (ответ Одиссея Терситу в «Илиаде»). Подобный пример видит Гачев и в эпизоде бунта в Богучарове (софизмы отказывающихся уехать и увезти княжну крепостных).
Не вдаваясь в подробное освещение споров о жанре «Войны и мира», напомним о нескольких отзывах современной Толстому критики, весьма показательных для «мифопоэтического прочтения» книги Толстого. Анонимный рецензент «Сына отечества» нашел (к большому своему сожалению !) в «Войне и мире» сходство не с современными романами, а с «средневековыми мистериями» (5). «Синтез поэзии, истории и философии» усмотрел в «Войне и мире» историк Н.Кареев (1887), т.е. это был один из первых отзывов о «Войне и мире», где она не рассматривалась как чисто художественное произведение (6). В духе мифологического циклического времени (может быть, и не сознавая этого) рассматривал события в «Войне и мире» Н.С.Лесков: «Рассмотренное нами сочинение... имеет в наших глазах еще большее значение в приложении к решению многих практических вопросов, которые время от времени могут повторяться и даже несомненно повторяются со свойственною им роковою неотразимостью... Книга графа Толстого дает весьма много для того, чтобы, углубляясь в нее, по бывшему разумеватъ бываемая и даже видеть в зерцале гадания грядущее» (7).
Это грядущее тоже озадачивало современников Толстого, да и до сих пор проблема не нашла адекватного подхода. Мы имеем в виду многочисленные' упреки в модернизации персонажей, особенно Андрея Болконского. Газета «Голос» недоумевала: «В князя Андрея автор вложил мысли и страдания человека позднейшего, нашего времени; справедливо замечено было, что князь Андрей обладает в книге каким-то чудесным, почти сверхъестественным даром предвидения: он судит о грядущих событиях так, как мог бы судить о них только человек, уже переживший их»
(8). «До такой ли степени верны своей эпохе Пьер Безухое и Андрей Болконский, до какой верны своему времени Левин и Вронский?» - задавал вопрос в 1911 году К.Н.Леонтьев (9). Опираясь на мнение Леонтьева, о «неисторичности» Войны и мира» говорил К.И.Зайцев (10). «Дар предвидения», которым наделен князь Андрей, находил совершенно неуместным в историческом романе один из первых критиков «Войны и мира» П.В.Анненков, хотя с проницательностью указывал на то, что «дух времени... воплощается на страницах романа, как индийский Вишну, легко и свободно, бесчисленное количество раз» (11). К этому вишнуизму Толстого мы еще вернемся, а пока отметим, что и современные исследователи находят в «Войне и мире» «всеобщие, монументальные типы русского человека и русской жизни», подразумевая, что герои Толстого «выпадают из того времени - начала XIX в.» (12). Этот феномен может быть отнесен, на наш взгляд, к ориентации сюжетных линий «модернизированных» героев на событийный ряд, связанный с соответствующими мифологемами (апостолов Андрея и Петра). Сверхзнание, сверхпроницательность и доходящий до самоистязания перфекционизм князя Андрея могут объясняться, например, аналогичными качествами библейского пророка, апостола, бодхисатвы в буддизме или аватары в индуистской мифологии.
Евангельские зачины и финалы всех трех крупнейших эпических произведений Толстого также должны быть интерпретированы современным литературоведением, и не в религиозно-идеологическом ключе, а с точки зрения жанровой структуры толстовского творчества. Эпиграфы и концовки романов «Анна Каренина» и «Воскресение» эксплицитны с точки зрения новозаветных мотивов (в финале «Анны Карениной» Левин размышляет о христианстве, Нехлюдов же в финале «Воскресения» читает Евангелие). В сущности, даже самое первое произведение Толстого, «Детство», открывается строками об «образке ангела», которому грозит опасность от мух (намек на адские силы). «Война и мир» не имеет эпиграфа, но в первой же сцене Наполеон назван Антихристом (вопрос о степени сочувствия автора этой номинации мы пока не ставим), а заканчивается первая часть «Эпилога» метаситуацией Гефсиманского моления, которая будет рассмотрена в четвертой главе настоящей работы. При этом хочется особо подчеркнуть, что мы сознательно оставляем за рамками нашего исследования любые оценочные выводы или религиозные приоритеты, руководствуясь данными мотивного анализа, а не желанием доказать какую-нибудь особую религиозную направленность произведения Толстого или отсутствие оной.
Успехи западной мифологической школы XX века в литературоведении (М.Бодкин, В.Трой, Н.Фрай, наиболее широко применившие метод мифологической критики при анализе конкретных произведений), а также плодотворное рассмотрение роли мифологии в развитии литературы русской наукой (Вяч.И.Иванов, В.М.Жирмунский, О.М.Фрейденберг, А.ФЛосев,
М.М.Бахтин, В.Н.Топоров, С.С.Аверинцев, Ю.М.Лотман, Е.М.Мелетинский, Е.А.Смирнова, Ю.В.Манн, М.Ф.Мурьянов, М.Л.Гаспаров, Б.М.Гаспаров, Т.А.Алпатова, Е.Н.Корнилова, С.А.Шульц, В.А.Маслова и другие), особенно появившиеся в последнее время теоретические работы С.М.Телегина, обосновывающие метод т.н. мифореставрации, актуализируют современное и, на наш взгляд, своевременное прочтение Толстого с учетом средств новой, мифореставрационной герменевтики. В первую очередь это относится к главному его творению, «Войне и миру», книге, которая сочетает художественность с историософией и религиозным творчеством.
Состояние научной разработанности темы. Систематическое исследование «Войны и мира» с учетом вышеуказанных подходов открывается настоящей работой. «Вопрос об «имплицитном» мифологизме реалистической литературы очень сложен», — справедливо замечает Е.М.Мелетинский (13), указывая ряд причин, обусловливающих эту сложность, в основном методологического характера. Не рискуя судить о степени реалистичности тех или иных произведений, заметим все же, что, несмотря на сложность, в последнее время, как мы уже говорили, достигнуты значительные успехи в изучении мифопоэтики Гоголя и Достоевского; появился целый ряд работ об авторах «серебряного века». Возможно, это связано с тем, что в системе произведений указанных авторов присутствуют все-таки произведения, в которых миф содержится эксплицитно, что дает основания для более глубокого поиска, в том числе и во всем корпусе текстов. В «Войне и мире» Толстого на первый взгляд не находится сюжетно, а тем более идейно значимых мифологических «вкраплений», миф присутствует имплицитно. На сцену встречи главных героев с «божьими людьми» или разговоры князя Андрея с облаками и дубом принято смотреть совсем другими глазами, чем на чтение Раскольниковым и Соней Евангелия или гоголевский мистический пейзаж. «Народные рассказы» или «Божеское и человеческое», «Фальшивый купон», другие «поздние» произведения Толстого, где мифологические и сказочные мотивы сюжетно значимы, не рассматривались в качестве контекста «Войны и мира», по-видимому, из-за концепции пресловутого «перелома» в мировоззрении, что само по себе методологически неправильно, т.к. никакие «переломы», если они даже и наличествуют, не могут поколебать архетипическую основу творчества.
Можно указать ряд работ, интересных по установлению «префигурации» (термин Д.Уайта - 14), означающей «использование как традиционных мифов, так и ранее созданных другими писателями литературных образов» (15), т.е. то, что в более распространенной трактовке получило название интертекстуальности. Это диссертация Е.В.Николаевой «Лев Толстой и древнерусская литература» (1980); статья В.Е.Ветловской «Поэтика «Анны Карениной» (система неоднозначных мотивов)» (16);
статья Д.Уикса (Калифорния) «Love, Death and Cricetsong: Prince Andrei at Mytishchi» (17); книга А.Г.Гродецкой «Ответы предания: жития святых в духовном поиске Льва Толстого» (2000), не затрагивающая, однако, «Войну и мир»; статья Кима Рехо «Лев Толстой и Лао-цзы (Теория «неделания» и образ Кутузова)» (18); статья З.Хайнади (Дебрецен) «Поэтический переворот Льва Толстого» (19), не рассматривающая «Войну и мир», но посвященная философии и (отчасти) мифопоэтике «поздних» произведений Толстого; исследование С.М.Телегина о мифологическом романе (в печати).
Из работ по мифопоэтике, в которых намечаются задачи исследования «Войны и мира», остается назвать только статьи Е.В.Николаевой «Миф и религия» (20) и А.М.Минаковой «О функциях мифа в эпопее Л.Н.Толстого «Война и мир» (21). В качестве особенно важной, дающей импульс для нашего исследования, отметим не развернутую, но интереснейшую трактовку В.Е.Хализевым и С.И.Кормиловым «Войны и мира» как книги, отражающей общность с «чертами духовного бытия стран Востока», вообще с традициями Востока, а также соотнесенность с японским принципом «югэн» и родство «буддийской культуре дзэн» (22).
В связи с этим хотелось бы добавить, что о буддизме и, может быть, даосизме, особенно об их этической основе, всегда волновавшей Толстого в первую очередь, молодой Толстой знал больше, чем принято думать. Не только Шопенгауэр пробудил интерес Толстого к восточной философии. Известен рассказ Толстого П.И.Бирюкову о его встрече в 1847 году с бурятским ламой, поразившим его тем, что этот буддист не противился напавшему разбойнику. «И это переживание произвело сильное впечатление на юную душу Толстого и пробудило в нем глубокое уважение перед мудростью жителей Востока», — писал Бирюков (23). Достаточно сказать, что встреча с буддистом, действительно, оставила такой глубокий след в душе Толстого, что он рассказал о ней своему биографу почти через 60 лет. Знакомство с восточной философией на восточном отделении философского факультета Казанского университета, славившегося тогда развитием ориенталистики, тоже не могло не способствовать развитию интереса Толстого к Востоку. После возвращения из Севастополя Толстой серьезно подумывал о поездке в Китай (он получил приглашение как военный специалист). Близкие по духу к буддизму идеи даосизма могли и не осознаваться молодым Толстым как специфически даосские, но могли оказаться глубоко воспринятыми, особенно идеи непротивления, «недеяния» («увэй») и единения с природой. Достаточно сказать, что в «Войне и мире» демонстрируются почти даосские медитативные техники: владение психическими и физическими способностями - умение отключить или, наоборот, в высшей степени концентрировать сознание, подчинить людей своему непосредственному импульсу, пренебрежение к физическому страданию, способность проникнуть в мысли и чувства другого человека (Андрей Болконский и Кутузов). Удивительный даосский разговор,
например, происходит между этими героями незадолго до Бородинского сражения. Это разговор о дороге и ходе (напомним, что основная категория даосской этики - следование Дао, т.е. Пути). «Иди с Богом своей дорогой. Я знаю, твоя дорога - это дорога чести» (Кутузов - Болконскому). «Одна способность спокойного созерцания хода событий» (Болконский - о Кутузове) (6,180-181). Так могли бы разговаривать в древнем Китае лет этак тысячи три назад.
Научная новизна работы.
Приступая к работе над темой, мы имели уже опыт исследования мифопоэтики русской литературы (ряд статей о русских писателях, главы в книге - Недзвецкий В.А., Пустовойт П.Г., Полтавец Е.Ю. - И.С.Тургенев. «Записки охотника», «Ася» и другие повести 50-х годов. «Отцы и дети». -М., 1998; «Роман А.С.Пушкина «Капитанская дочка»» (монография) - в печати). В результате дерзнем сделать некоторые выводы о современном состоянии мифопоэтических исследований русской литературы.
На наш взгляд, эти исследования можно разделить на три группы в зависимости от метода, которым руководствуется исследователь. К первой группе принадлежит, например, исследование Л.А.Ходанен «Миф в творчестве русских романтиков» (Томск, 2000), посвященное комментированию лишь эксплицитно представленной мифологической образности, а также формированию теории мифа в эстетике русских романтиков, но лишенное черт герменевтического подхода. Вторая группа исследований углубляет проблему, рассматривая мифопоэтику в свете мотивно-ассоциативного анализа, выделяя основные концепты творчества исследуемых авторов и возводя их к архетипам (или по крайней мере мифологемам). Здесь в качестве классического примера можно назвать исследования А.Ханзен-Лёве (Вена) по мифопоэтике русского символизма, В.А.Масловой (Поэт и культура. Концептосфера Марины Цветаевой. М., 2004). Однако и в этом случае рассматриваются мифологемы, представленные большей частью эксплицитно, хотя, вне сомнения, метод мотивного анализа позволяет в значительной степени углубить и обогатить исследование. Третье и, на наш взгляд, самое плодотворное направление исследований представлено герменевтическими исследованиями Л.Силард, развивающей идеи Вяч.Иванова и Г.Г.Шпета, работами В.Н.Топорова, израильского литературоведа М.Вайскопфа, теорией мотивного анализа Б.Гаспарова, а также разработанной С.М.Телегиным теорией мифореставрации (см. библиогр.).
Научная новизна нашей работы состоит в дальнейшей разработке этих плодотворных герменевтических подходов и применении их к анализу «Войны и мира», а также в комплексном рассмотрении эксплицитно и имплицитно представленных в «Войне и мире» мифологем, сведении их с
помощью мотивного анализа в концепты, под которыми понимаются основные для творчества Толстого, устойчивые в его сознании доминанты идеального и идеологического характера. Так, концепт «смирение» выражается и в образах князя Андрея, Кутузова, княжны Марьи, Каратаева, «божьих людей», и в паремийно-притчевой основе произведения (рассказе Каратаева о безвинно пострадавшем купце, размышлениях Николеньки Болконского о Муции Сцеволе), и в символике (например, более локальном для образной системы концепте «насекомые»), и в сюжетных линиях (прощение князем Андреем Анатоля, встречи князя Андрея с Наполеоном) и т. д. К главному концепту «Войны и мира» — смирению можно полностью отнести слова С.М.Телегина: «...Переход к сверхчеловеческому, к трансцендентному совершается через умаление и уничтожение человеческой земной природы и материи, торжество духа, что оказывается возможным благодаря смирению - ключевому понятию в духовном развитии человека» (24). На основе анализа наиболее значимых мотивов нами выделяются главные составляющие «индивидуально-личностного мифа» (25) Толстого: это попытка найти пример победившей в человеческой истории непротивленческой стратегии поведения («неправильная» война 1812 года), победившей на уровне международных отношений «бессознательной деятельности» (объясняется Толстым с помощью концепта «настоящая жизнь», концепта «пчелы» и др.), а также попытка объяснения роли России в мировой истории, понимание этой роли как выявления предсказанной апостолом Андреем и обретенной в тяжелых исторических испытаниях благодати. Т.е. новизна настоящего исследования заключается не только в выявлении имплицитно содержащегося в «Войне и мире» мифа, но и в исследовании его жанровых и историософских функций, а также его роли в раскрытии авторского идеала, доминантного образа творчества. Доминантный (мировоззренческий и даже бессознательный) образ «Войны и мира» - это образ превосходства духовного над материальным, для Толстого являвшийся условием победы над любыми формами насилия (в том числе и над войной, над любым захватчиком) и даже условием личного спасения и деификации. Так, «уникальный образ мира», «личностный архетип» (термины А.Б.Галкина - 26), принято видеть в случае Ф.М.Достоевского в фигуре Христа, в случае А.С.Пушкина - в Мадонне, мы же рассматриваем в качестве такового совокупность основных концептов толстовского творчества: мир (единение), образ мирового тяготения-любви, ненасилие, манифестирующее духовное превосходство, проблема бессмертия.
Методологическая основа исследования.
Методологическая основа работы обусловлена ее новаторскими
принципами и, таким образом, включает в себя опыт различных
исследований, посвященных теории мифопоэтического, а также
архетипического. Использование достижений ритуально-мифологической
школы в литературоведении дополняется опорой на работы по теории мифа (Дж.Фрэзера, М.Элиаде, Дж.Кэмпбелла, Р.Грейвса, Е.М.Мелетинского, С.М.Телегина), на понимание архетипов К.Г.Юнгом (мифообразующие компоненты бессознательного). Одновременно термин «архетип» употребляется в значении «образ или модель, постоянно встречающаяся в литературе и в жизни» (27), «наиболее общие, фундаментальные и общечеловеческие мифологические мотивы, изначальные схемы представлений, лежащие в основе любых художественных, и в т.ч. мифологических, структур» (28). «Мифопоэтизация романных сюжетов, внедрение в них легенды, утопии и пророчества, метатипическая (или архетипическая) трактовка характеров и т.п. со временем могли даже усиливаться в реалистической литературе»,- признает В.М. Маркович (29), соотнося свое наблюдение с произведениями Ф.М.Достоевского и Л.Н.Толстого. Мы, впрочем, считаем, что усиление «архетипических трактовок» совершается вне всякой зависимости от разграничения реалистических, романтических, модернистских и т.п. методов и зависит от особенностей психического склада самого художника.
Одно из наиболее оригинальных современных западных исследований по теории мифа и психоанализу рассматривает учение Юнга все-таки как опирающееся на гипотезу «ламаркианского характера: а именно, что психологический и культурный опыт предков является составной частью нашего багажа» (30), т.е. с «ламаркианской» точки зрения архетипы наследуются, хотя принято считать, что Юнг придерживался трансцендентального понимания архетипа, а генетическую память не имел в виду.
В связи с этим интересно было бы поставить вопрос о степени взаимосвязанности и о разграничении бессознательного, типологического сходства образов и сюжетов «Войны и мира» с мифологическими структурами, с одной стороны, и сознательных «мифореставрации» и мифотворчества Толстого - с другой. Через много лет после создания «Войны и мира» Толстой записывает в дневнике: «Что такое порода? Черты предков, повторяющиеся в потомках. Так что всякое живое существо носит в себе все черты (или возможность их) всех предков (если верить в дарвинизм, то всей бесконечной лестницы существ) и передает свои черты, которые будут бесконечно видоизменяться, всем последующим поколениям. Так что каждое существо, как и я сам, есть только частица какого-то одного, временем расчлененного существа - существа бесконечного... Так я, Лев Толстой, есмь временное проявление Толстых, Волконских, Трубецких, Горчаковых и т.д.» (22,226-227). Есть и другая запись в том же духе, как будто ответ Толстого на теорию архетипов: «Есть память своя личная, что я сам пережил; есть память рода - что пережили предки и что во мне выражается характером; есть память всемирная, божия - нравственная память того, что я знаю от начала, от которого исшел» (22,242).
Возможно, здесь Толстой сам подсказывает стратегию исследования сознательного и бессознательного в его творчестве. В «Войне и мире» есть множество деталей, имеющих жизненные соответствия. Все это скрупулезно исследовано толстоведами; исследованы прототипы героев и прототипические ситуации, но вопрос о мере сознательного и бессознательного воспроизведения Толстым мифологических и ритуальных моделей остается нерешенным. Вернее сказать, что этот вопрос даже не ставился. Иногда Толстой («поздний») склонялся к трансцендентному пониманию творчества, если верить его признанию в письме Г.А.Русанову от 27 апреля 1890 года: «Во время процесса болезненного прохождения через меня мыслей - я не успеваю их усвоить» (Поли. собр. соч., т.65,с.80).
Приведем один из многочисленных примеров в «Войне и мире», иллюстрирующий проблему (подробнее об этом см. в гл.4 настоящей работы). Предком Волконских (и, стало быть, Толстого) был святой князь Михаил Черниговский, замученный в Золотой Орде за отказ поклониться идолам. В таком случае закономерен вопрос: какова цель упоминания о портрете «владетельного князя в короне» (4,129), который украшает интерьер дома Болконских? «Ружье», конечно, должно «выстрелить», но в какой степени пример предка будет воодушевлять Андрея Болконского на Бородинском поле и насколько сознательно (не имея, видимо, оснований рассчитывать на эрудицию читателя) вводит автор эту деталь? Такое комментирование выходит за рамки поиска прототипов, исторической основы и т.д., это уже герменевтический подход. Еще сложнее вопрос о сознательном использовании имплицитно представленных в «Войне и мире» мифологем или отголосков древних ритуалов, которые порой в специальной литературе получают название «ритуалем». Ниже мы показываем, например, что действия Платона Каратаева, угощающего Пьера картофелиной, в деталях и даже по цели совпадают с ритуалом т. н. «разделения однодневников». Но насколько сознательно воспроизводится эта ритуальная модель автором? Болконский на Бородинском поле прибегает к архаическому ритуалу «хождения по меже» (подробнее см. в гл.2). Для таких героев Толстого, как Андрей Болконский и Платон Каратаев, идентичных по внутренней сути, характерно мифологическое мышление. Можно даже сказать, что такой психологический тип, даже автопсихологический, сознательно воспроизводится автором в его любимых героях, как пушкинский автопсихологизм в Татьяне Лариной (так, Пьеру Безухову все время кажется, что Каратаев напоминает князя Андрея; подробнее об этом см.раздел 7 главы 3 в нашей работе). Но знал ли Толстой о подобных ритуалах? Или это была подсознательная реконструкция «памяти рода»?
Исследователь психологии творчества, на каких бы юнгианских, ламаркианских и т. д. позициях ни стоял, пытаясь ответить на подобные вопросы, придет к герменевтическому и мифореставрационному методу.
Может быть, на вопрос о степени сознательности использования той или иной мифологемы не смог бы ответить и сам автор. Из каких глубин генетической памяти родился культ дерева в Ясной Поляне? Другой пример: из записок Д.П.Маковицкого известно, что в Ясной под верандой, крыльцом, даже в некоторых комнатах дома долгими годами жили ужи. На деревне тоже было принято не трогать ужей и почитать домовых (31). Если Толстой знал об этом обычае и даже соблюдал его, то вполне вероятно, что и другие поверья могли либо вызывать у него сознательный интерес (ср. его интерес к народной паремии и его многочисленные записи народных пословиц и поговорок), либо восприниматься им даже не как этнографически-фольклорный материал, а как собственный образ мира. Он мог знать, допустим, о «хождении по меже», как знал он о почитании в деревне Ясная Поляна ужей и домовых, и сознательно использовать эту модель либо подсознательно увидеть сцену стояния князя Андрея перед гранатой такой, какой ее представляем теперь и мы. В связи с этим рассмотрение «Войны и мира» с точки зрения заложенных в ней нравоописательных тенденций и раскрытия ритуального поведения, предложенное Л.В.Чернец (32); представляется плодотворным, но раскрытие это, может быть, требует расширения до этнографических и более глубоких - мифологических смыслов.
Различие поэтики Толстого и Гоголя не мешает, как нам кажется, привести еще пример того же ряда из загадочной «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Торжественное вкушение дыни Иваном Ивановичем и заворачивание семян в бумажку с надписью производит на представителя мифо-ритуальной критики тревожное впечатление, как, впрочем, и многие другие «запечатанные» (выражение Л.Силард) мифологемы, нарочито погруженные автором в профанический контекст. Мотивный анализ выявляет к тому же настойчивые упоминания об огурцах и арбузах (возможно, что на самом деле это тыквы, т.к. украинское «гарбуз» означает тыкву) не только в «Повести...», но и в других произведениях Гоголя. Так, Собакевич в «Мертвых душах» сравнивается с тыквой, а его жена - с огурцом. При этом обращает на себя внимание тот факт, что на фоне перечисления бахчевых культур в произведениях Гоголя обыкновенно сообщаются сведения о «семейном положении»: о героях «Повести...» говорится, что оба не женаты, портреты четы Собакевич даются именно как парные: портрет супругов. Нарастающее беспокойство понуждает искать какое-то объяснение этому и, возможно, только сопоставление с весьма далекими от украинской, а тем более русской культуры обычаями манихейских сект позволяет раскрыть загадочную связь брачного мотива с «огородным»: «Души последователей духовно низкой общины, живущей в браке, должны перейти в дыни и огурцы, чтобы очиститься после съедения их и стать избранными». Таковы, например, сведения об одной из манихейских сект,
приведенные Э.Тайлором. (33). Но вступление в «герменевтический круг» влечет новую загадку: насколько сознательно Гоголь связывает эти два мотива, имеет ли он в виду манихейские секты или что-нибудь другое? Известен профессиональный интерес Гоголя к истории гностических движений и его работа над лекциями о манихействе (34), но это все же не дает ключа к вышеназванным мотивам ни как к заимствованиям, ни как к «префигурации».
Принято разграничивать мифологему и архетип как раз по «степени сознательности». «Мифологема обозначает сознательное заимствование автором мифологических мотивов, тогда как постулируемая К.Юнгом бессознательная их репродукция как правило обозначается понятием архетип» (35). Но архетип, тоже как правило, является структурным ядром мифологемы, что влечет за собой непростой вопрос о разграничении сознательного и бессознательного в творчестве. В Гамлете принято видеть архетип Ореста, чеховскую «Душечку» давно уже рассматривают как реминисценцию мифа о Психее, автору этих строк доводилось писать о Базарове как новом Эдипе. Однако даже зафиксированный биографами, скажем, Тургенева интерес к Софоклу еще не дает нам права остановиться на констатации интертекстуальности романа «Отцы и дети», не идя в глубь архетипичного и в «базаровском», и в «эдипальном». Х.Г.Гадамер, по-видимому, прав, утверждая, что «смысловые потенции текста далеко выходят за пределы того, что имел в виду его создатель. Текст не случайно, а необходимо не совпадает с намерением создателя» (36). Но и сознательное намерение автора «придать, через мифологические и литературные параллели, глубину и перспективу изображаемому» (В.Б.Катаев - 37), и бессознательное стремление автора к тому же - это две переплетающиеся интенции, которые порой почти невозможно разграничить не только исследователю, но и самому создателю текста. Поэтому распространенное обвинение в адрес герменевтической критики, что она «вчитывает» в текст то, что не имел в виду автор, часто лишено смысла; творческий процесс сродни сновидению, а не является докладом на заданную тему: даже и Пушкин «не ожидал», как известно, что Татьяна выйдет замуж, а Толстой не предполагал, что князь Андрей выживет после Аустерлица или что Вронский станет стреляться. Герменевтика - наука о понимании; признавая это, Г.Г.Шпет, например, настаивает на значимости «таланта и виртуозности» филологов (38), Е.А.Цурганова считает, что для постмодернистской критики «задача понимания смысла того, что сказал автор, производна по отношению к задаче понимания смысла текста» (39), а В.П.Руднев идет еще дальше, поясняя «исследовательскую стратегию постмодернизма» как деконструкцию: «сама постановка вопроса о том, содержится ли все это на самом деле в тексте... или придумано исследователем, является бессмысленной, потому что текст при таком понимании существует только в диалоговом режиме с читателем и
интерпретатором» (40). Даже с учетом некоторой самоиронии исследователя, спрятанной в этих строках (взятых нами из блестящего анализа Рудневым «Винни-Пуха» А.Милна), нельзя не признаться, что и эта стратегия плодотворна, что доказано, например, в трудах А.К. Жолковского, который вовсе не только структуралист, и того же Руднева.
Неизбежная эклектичность нашего подхода объясняется первопроходческим характером работы и необходимостью предпринять нечто вроде «штурма мозгов» в связи с тем, что на первоначальном этапе приходится доказывать не столько бесспорность интерпретации, сколько саму необходимость герменевтического комментария «Войны и мира». Герменевтика - это «тоска по мировой мудрости» (В.Айрапетян — 41).
В этой связи интересна мысль М.Виролайнен: «...Порой возникает неприятное подозрение: не видит ли современная филология в пушкинских текстах то, чего вовсе не было в творческом сознании автора или что было несущественным для него? На этот весьма неприятный вопрос пришлось бы ответить утвердительно, если бы культура, и, в частности, словесная культура, целиком сводилась к зоне озвученного, огласованного, названного, проартикулированного. Но такая зона - назовем ее зоной речи -всегда соседствует с не менее значимой зоной молчания...» (42). Другими словами, М.Виролайнен ратует за герменевтический подход в пушкинистике. Но подход этот, в общем-то, универсален. Он не перестает быть актуальным ни для краткого и выразительного Пушкина, о повестях которого Толстой, как известно, отозвался, что они «голы как-то» (21,98), ни для гомилической прозы Толстого с ее подробностями. Прав С.М.Телегин: «Почти всякое художественное произведение как бы раздваивается: оно имеет конкретный, реальный план, развитие сюжета, перипетии и конфликты, но за всем этим всегда скрывается что-то еще, некий тайный, глубинный план, который и заполняется мифом... Как у человека существует подсознание, заполняемое мифом, так и у сотворенного им художественного произведения почти всегда есть подтекст, организованный тем же мифом» (43).
«Образы, мифологемы, появляющиеся в подсознании человека, - это проявления мира божественного и духовного, находящегося вне человека, но нисходящего в него ради бытийствования и проецируемого затем на явления материального окружающего мира... Понимание мифотворчества писателя как следствия его глубоких и всесторонних познаний ошибочно»,— пишет С.М.Телегин (44). С этих позиций мы обращаемся (в гл.4) к взгляду на Андрея Болконского как на проявление «метапрообраза из мира даймонов» (45), высказанному поэтом Д.Л.Андреевым и слишком часто -увы! - воспринимающемуся как фантастика. По М.Элиаде, творчество - это припоминание, но не дающееся волевым усилием, недаром Мнемозина, как напоминает Элиаде, ~ мать всех муз (46). «Подражание сверхчеловеческому примеру, повторение образцов сценария, прорыв земного времени,
вливающегося в Великое Время, — все это есть существенные черты «мифологического поведения», то есть поведения человека первобытных обществ, для которых миф был самим источником существования» (47).
В связи с этим следует отметить, что в задачи данной работы не входило рассмотрение специальных теоретических вопросов о разграничении религии и мифологии, а также выявление или разработка специальной позиции по поводу мифологической структуры славянской народной культуры и славянской народной религии (в какой степени славянская архаическая культура может рассматриваться в качестве мифологии). То же самое можно сказать о специфике даосской философии и религии. Термины «мифологема», «мифологический мотив» употребляются в работе в предельно общем значении вне зависимости от их христианского, буддийского, языческого и т.д. наполнения; здесь мы следуем концепции С.С.Аверинцева, В.Н.Топорова, С.А.Токарева и других авторов энциклопедии «Мифы народов мира», употребляющих термины «ветхозаветная мифология», «библейская мифология», «христианская мифология», «буддийская мифология», «даосская мифология», «славянская мифология» и т.д.
Цель исследования. Цель исследования вытекает из темы и заключается в выявлении черт мифологического и архаического сознания и поведения персонажей, раскрытии роли мифопоэтики в произведении Толстого и теоретическом осмыслении полученных результатов.
Задачи исследования. 1. Произвести экспериментальное введение термина «концепт» в исследование мифопоэтической основы «Войны и мира». Попытка разграничить понятия «концепт» (как принадлежащий сфере индивидуального сознания и подсознания автора) и «мифологема» (общее понятие, соотносимое с творчеством многих художников). Концепт будем понимать как «термин, служащий объяснению единиц ментальных или психических ресурсов нашего сознания (в данном случае - сознания автора «Войны и мира» - Е.П.) и той информационной структуры, которая отражает знание и опыт человека; оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира, отраженной в человеческой психике», «квант» знания (48). Несмотря на некоторую тавтологичность определения, почерпнутого из научного словаря, примем его за основу. В замечательном словаре Ю.С.Степанова концепт определяется как ««пучок» представлений, понятий, знаний, ассоциаций, переживаний, который сопровождает слово» (49). В сборнике «Концепт греха» (см. библиогр.), весьма репрезентативном, концепту вообще не дается никакого определения. Конечно, не все
концепты «Войны и мира» будут в центре нашего внимания (да это и невозможно), а лишь те, которые связаны с мифологемами, но понимаемыми, как уже говорилось, не только как сознательные заимствования или репродукции мифологических моделей, а и как более глубинные сюжетные структуры и первообразы. Так, концепты «смирение» или «недеяние» мифологемой не назовешь, а вот «вода», «дерево», «запретный плод» и т. д. могут рассматриваться и как мифологемы, и как специфические «войнамирические» концепты.
Проверить (и наметить) возможность описания концептосферы «Войны и мира» (понятие «концептосфера» предложено Д.СЛихачевым). Такой опыт успешно, на наш взгляд, произведен В.А.Масловой, исследовавшей концептосферу М.Цветаевой, и А.Ханзен-Лёве, обратившимся к творчеству русских символистов (см. перечисленные выше работы). М.Элиаде называет «космическими символами» «воду», «дерево», «виноградную лозу», «плуг», «топор», корабль», «колесницу» и др. Подобный «тезаурус» составлен, например, Н.Фраем для Нового Завета (см. библиогр.). Изучение концептосферы «Войны и мира» могло бы привести к составлению тезауруса творчества или хотя бы отдельных произведений Толстого, что, конечно, не будет идентичным, скажем, простому частотному словарю.
Применить метод мотивного анализа и подтверждения ассоциаций (см. работы Б.М.Гаспарова в библиогр.) к исследованию мифопоэтики. Тут мы исходим из того, что, как пишет Л.Силард, «погруженные в чуждый им мир банальностей и запечатанные, мертвые для этого мира мифологемы могут хранить» все свои «потенции» (50).
Выявить в «Войне и мире» кросс-уровневые единицы текста, соответствующие мотивам (так, мотив сакральных чисел проявляется вербально и композиционно, мотив птицы проявляется на лексическом и фонетическом уровне и т. д.). Обозначить такое явление как характерное для сакральных текстов.
Разработать применение метода мифореставрации к анализу мифопоэтики «Войны и мира».
Раскрыть мифологическое значение сюжета «Войны и мира» (как в целом, так и отдельных сюжетных линий) и мифологическое сознание некоторых персонажей (Андрей Болконский, Кутузов, Платон Каратаев), опираясь на определение мифореставрации С.М.Телегиным: «Выявление и анализ мифа, живущего сегодня, но присутствующего не явно, а в подтексте художественного произведения и в подсознании человека» (51).
Выявить в «Войне и мире» элементы личностного мифа писателя.
Рассмотреть мифотворчество Толстого и сотериологическую направленность «Войны и мира» в контексте споров о жанре, которые без учета мифопоэтики «Войны и мира», по-видимому, не имеют смысла.
Обосновать уникальность пространственной концепции Толстого как психологической, а также типологически сходной с идеями восточных религий.
Раскрыть философско-гносеологическую основу «Войны и мира» как специфически восточную (отрицание диалектики и борьбы как движущей силы развития, принципиальная антиэсхатологичность, цикличность времени и предвечность мира).
Раскрыть связанную с этой особенностью толстовской картины мира общую апорийно-притчевую и гомилетическую основу произведения.
Проверить собственную интуитивную интерпретацию текста, превратив себя из субъекта исследования в его объект: может ли филолог подтвердить на основе мотивного анализа свои интуитивные догадки и перешагнуть линию «герменевтического круга»? (если это вообще возможно, конечно).
Привлечь внимание профанического толстоведения к сакральному аспекту произведения.
14. Сложить гимн «Войне и миру» и ее создателю Льву Толстому. Теоретическое значение исследования.
Развитие метода герменевтического прочтения и мифореставрации. Разработка взгляда на связь мифопоэтики произведения с проблемой жанра и мотивным анализом.
Научно-практическое значение.
Методологический импульс для изучения мифопоэтики Толстого и составления тезаурусов его произведений.
Работа может быть использована также для составления комментариев к изданию «Войны и мира» в составе нового полного собрания сочинений Л.Н.Толстого в 100 томах.
Практическое значение работы заключается также в том, что она дает материалы и выводы для использования их в общих и специальных курсах по изучению творчества Л.Толстого, истории русской литературы XIX века, теории литературы и фольклористики.
Остается добавить, что цитаты из текстов Толстого даются в тексте диссертации с указанием тома и страницы, там, где это специально не оговорено, по изданию: Л.Н.Толстой. Собр. соч. в 22 т. М.,1978-1985. В связи с «дехристианизированной» русской орфографией XX века мы не сочли возможным упорядочивать написание сакральных терминов и их дериватов в цитатах и в собственном тексте.
Мифопоэтические концепты в антропонимике «Войны и мира»
Антропонимическая, как и топонимическая система «Войны и мира», является, по-видимому, одним из основных кодов произведения, ключей к авторскому замыслу и жанру. Имена многих вымышленных героев представляют собой главнейшие концепты произведения, объединяющие целые группы мотивов; это особенно характерно для таких антропонимов, как «князь Андрей», «Болконский», «княжна Марья», «Пьер», «Василий», «Элен», «Ипполит», «Платон Каратаев», «Наташа», «Ростовы», «Телянин», «Пелагеюшка», «Федосьюшка», «Савельич». (Ниже мы попытаемся обосновать весьма важный для нас тезис о том, что список этот кажется произвольным или причудливым только на первый взгляд).
Удивительно, но и имена некоторых невымышленных персонажей «Войны и мира» тоже оказываются мотивированными, вполне в соответствии с тезисом В.Н.Топорова о том, что «одна из существенных особенностей мифопоэтических текстов состоит в возможности изменения границ между именем собственным и нарицательным вплоть до перехода ОДНОРВ другое» (1). Так, «говорящими», наполненными важнейшей для авторской концепции символикой оказываются имена Михаила Кутузова и Наполеона Бонапарте, которые как будто специально для целей Толстого награждены Провидением столь значимыми именами.
Третью группу имен (вслед за вымышленными и историческими) образуют слегка измененные имена исторических лиц, узнаваемые современным Толстому, да и сегодняшним читателем и иногда соотносимые (большей частью в глазах читателя, а не автора) с именами возможных прототипов. Это фамилии типа Денисов (от имени Дениса Давыдова), Друбецкой (от Трубецкой), Долохов (от Дорохов), Тушин (в последнее время появилась странная гипотеза о том, что фамилия может возводиться к фамилии реально существовавшего тульского знакомого Толстого - Кучин) (2), Vincent Bosse (в «Дневнике партизанских действий 1812 года» Д.В.Давыдова упоминается молодой пленный барабанщик Vincent Bode) и т.д. Так, в статье «Несколько слов по поводу книги «Война и мир» Толстой объясняет происхождение подобных наименований тем, что взял «наудачу самые знакомые русскому уху фамилии» и переменил «в них некоторые буквы» (7,358), а также признает существование близких по фамилии прототипов только «М.Д. Афросимовой» (в тексте «Войны и мира» «Ахросимовой», прототип - Н.Д.Офросимова) и «Денисова». Представляя, конечно, немалый интерес для историка писания и печатания «Войны и мира», эти имена, однако, не связаны с мифопоэтикой и поэтому остаются за рамками нашего исследования.
Рассмотрим антропонимическую систему, образованную именами, так или иначе связанными с мифопоэтикой. Начнем с фамилии «Болконский». Может показаться, что сходство ее звукового состава с «Волконский» дает все основания отнести ее к третьей группе имен (типа Денисов, Долохов), пусть и вне связи с каким-либо прототипом. В цитированной выше статье Толстого декларируется сходство «Болконский» - «Волконский» (а также «Друбецкой» — «Трубецкой») и отмечается, что такие вымышленные фамилии выбраны потому, что «звучат чем-то знакомым и естественным в русском аристократическом кругу» (там же). Однако фамилия эта значима и паронимически связана с некоторыми важнейшими концептами «Войны и мира», особенно с мифопоэтическими представлениями древних славян.
Исследователи не раз обращались к истории создания образа Андрея Болконского (этот образ имеет едва ли не наиболее трудную и противоречивую творческую историю), отмечая, что далеко не сразу было найдено и место этого персонажа в семье Болконских (Б.Эйхенбаум, Э.Зайденшнур, Н.Зеленов, К.Фойер и др.). В известном ответе на письмо княгини Л.И.Волконской, спрашивавшей о прототипах Андрея Болконского, Толстой подчеркивает : «...Так как неловко описывать ничем не связанное с романом лицо, я решил сделать блестящего молодого человека сыном старого Болконского» (18,628). Вопрос о прототипах князя Андрея требует особого рассмотрения, потому что, не возражая, в принципе, против неоднократно устно и письменно выраженных свидетельств современников о прототипах Ростовых, отца и дочери Болконских, многих второстепенных персонажей (и даже не раз подавая повод, например в письмах родным и знакомым, чуть ли не отождествлять многие их черты с психологическими, биографическими, портретными особенностями своих героев), Толстой, однако, неизменно с болезненным раздражением реагировал на все попытки установить прототип князя Андрея; даже такой весьма симпатичный автору «Войны и мира» собеседник, как Г.А.Русанов, с которым Толстой щедро делился подробностями своих творческих исканий, получил суховато-лаконичный ответ о князе Андрее: «Он ни с кого не списан» (3). Можно предположить, что в этом ответе сказалось не только нежелание Толстого раскрывать автопсихологизм образа Болконского, но и не вполне осознанное ощущение связанного с этим образом творческого процесса как даймонического внушения (об этом см. в гл.4 в связи с концепциями Д.Андреева и Б.Бермана).
Как бы то ни было, причины, побудившие Толстого присоединить князя Андрея именно к фамилии Болконских, приходится искать не в связи с прототипами (которых не было), а в связи с семантикой самой фамилии. Почему-то именно князь Андрей (а не Пьер, не Долохов, не Друбецкой, оставшиеся в произведении лишенными или почти лишенными семейного окружения) должен был оказаться принадлежащим к роду Болконских.
Конечно, родство всех Болконских подчеркнуто автором через общие психологические, портретные черты персонажей, что имеет место и в обрисовке семей Ростовых, Курагиных. Но фамильное сходство, по-видимому, закономерно явилось следствием, а не причиной родственного присоединения «ничем не связанного с романом лица» к старому князю и княжне Марье, прототипы которых, т.е. дед и мать Толстого, не имели сына и брата. Зато семантика фамилии, представляющей собою измененную только в одной букве фамилию деда Толстого и доставшейся героям «Войны и мира» старому князю и его дочери — «в наследство» от прототипов, для князя Андрея могла стать «говорящей». Эта семантика связывала героя с «волхвом» и «облакопрогонителем». Род Волконских владел землями на реке Волкон, название которой может быть сопоставлено с названием знаменитого Волхова (тем более, что фамилия известна и в варианте «Волхонский»). Подобные фамилии, образованные от гидронимов -названий небольших озер или рек (Нелединский, Кашинский) в русском обиходе звучали привычно (в отличие от чисто литературных типа Онегин, Ленский, Волгин). В гидрониме «Волхов» прослеживается связь не только с корнем «волг» (влага), но и с «волхвованием», т.е. чародейством. Согласно этимологическим словарям, слово «волхв» происходит от старославянского «волшь» (колдовство, непонятная речь; вода в мифологическом сознании нередко уравнивается с речью - «речь течет»). «Волшебство» и «влага» порой возводятся к общему индоевропейскому корню. «Чародейство, т.е. волхвование - это обращение к воде (влаге, «вологе»), которым занимались волхвы - облакопрогонители, т. е. жрецы, управляющие дожденосными тучами, колдуя с водой в священной чаре» (4). Именно образ Андрея Болконского связан с мифологемой реки, облаков, вообще мотивом воды во всех ее видах, исключая мотив «капли», который связан с Пьером, Петей Ростовым и Платоном Каратаевым. В христианстве Св. Андрей также покровитель мореплавателей и целительных источников. Даосский идеал непротивления как подражания воде (особенно в специфически даосском аспекте: только уподобившийся смиренной воде военачальник одержит победу) также реализован в «Войне и мире» в образах Андрея Болконского и Кутузова.
Волхвы как колдуны-облакопрогонители, связанные с культом воды, могли влиять и на исход битвы (вражеское войско недаром сравнивается в древнерусских памятниках с тучей). Вспомним подвиг князя Андрея при Аустерлице, хотя и не принесший победы, но закономерно завершившийся созерцанием облаков, в представлении Болконского наделенных сознанием, а с точки зрения мифопоэтики вполне сопоставимых с западно- и южноевропейской мифологической традицией: валькириями и планетниками (см. об этом в гл.З).
Образ пространства и концепт «пряжа». Концепт границы
Архетипическое значение креста, как было показано в предыдущей главе, проявляется не только скрыто на лексическом уровне (в мифологемах Андрея и Петра), но и явно на синтаксическом (хиазм), т.е. является в «Войне и мире» кросс-уровневой единицей (термин, примененный Б.Гаспаровым в анализе романа Булгакова «Мастер и Маргарита» — см. библиогр.).
С мифологемой Андрея (и даже самой заглавной Альфой) связана идея косого креста и, стало быть, мифологема священной горы как центра мира. Символика креста и связь его с горой и идеей центра является более древней, конечно, чем христианский концепт креста. Однако переплетение и наложение смыслов здесь весьма примечательно. Апокрифический апостол Петр, например, в своей проповеди на кресте раскрывает значение «вертикального устоя крестного древа» как «божественного в богочеловеке», а горизонтальной перекладины - как «человеческой природы в нем» (1). Таким образом, возвышенное понимается как сакральное и в христианской картине мира. «С точки зрения» апостола Петра (прямой крест) мир организован как вертикальная иерархия, «с точки зрения» апостола Андрея (косой крест) - мир организован не только по вертикали, но и концентрически.
Вершина мировой горы во многих мифологических традициях является местом обитания богов; гора ассоциируется с высотой духа, духовным ростом, восхождением к совершенству, отшельничеством, началом творения, местом откровения, инициатическим святилищем, связью между мирами. Эта семантика, по-видимому, присутствовала в сознании Толстого с детства, ведь старший из братьев Толстых, Николай, кроме игры в «зеленую палочку», придумал для своих младших братьев и Фанфаронову гору, условия восхождения на которую, будучи детской игрой, напоминали в то же время инициационный обряд. Как сакральный центр мира рассматривается в христианстве Голгофа, это еще и центр страдания и спасения. На горе искушает Христа дьявол, с горы произносится Нагорная проповедь, преображение совершается на горе Фавор. «...Горы фигурируют среди образов, символизирующих связь Неба и Земли. То есть предполагается, что горы находятся в «Центре Мира».... Для христиан вершиной космической Горы является Голгофа. Все эти верования выражают одно и то же религиозное чувство: «Наш мир» - это и есть святая земля, потому что это место наиболее приближено к Небу, потому что отсюда, от нас, можно достичь неба: следовательно, наш мир - это «возвышенное место»... Святые города и жертвенники располагаются в Центре Мира... Храмы воспроизводят космическую гору», - пишет М.Элиаде (курсив Элиаде 2).
Вершина мировой горы «служит также фокальной точкой инверсии -точкой пересечения огромного креста Св. Андрея, выражающей связь между различными мирами» (3). Андреевский крест, «с его двумя пересекающимися линиями, соответственно означающими падение и подъем» (4), сопоставим также со священной мандорлой буддизма. Итак, создается взаимосвязь между топонимикой и антропонимикой произведения (имение князя Андрея называется Лысые Горы), и это еще один ономастический феномен «Войны и мира», требующий объяснения и чрезвычайно значимый для толстовской концепции пространства.
С киевскими горами, как мы уже отмечали, связано пророчество апостола Андрея о благодати, которая «воссияет», и многих церквах, которые «воздвигнет Бог» (5). Как видим, обилие глаголов с приставкой «вое-» в фантастическом эпизоде «воздвижения» здания из «лучинок» князем Андреем, находящимся в измененном состоянии сознания, не случайно. Фигуры хиазма, рассмотренные нами в предыдущей главе, напоминают о воздвижении креста апостолом Андреем на месте, «где после возник Киев» (там же). Хиазм, кстати, ассоциируется именно с андреевским крестом в силу своей связи с греческой буквой «хи».
Интертекстуально мотив горы в «Войне и мире» связан не только с фольклорной Лысой горой, но и с Белогорской крепостью пушкинской «Капитанской дочки» и вообще с не раз отмечавшимся исследователями в творчестве Пушкина мотивом белого на горе (М.Мурьянов, И.Сурат). Связь двух произведений, содержащих сотериологические мотивы, «Капитанской дочки» и «Войны и мира», была показана нами в статьях «Мифологема горы и пещеры в «Капитанской дочке» А.С.Пушкина и «Войне и мире» Л.Н.Толстого» и «Гора, голова и пещера в «Капитанской дочке» А.С.Пушкина и «Войне и мире» Л.Н. Толстого» (см. прим. 74 к гл. 3). В этих работах также прослеживается объединение мифологем горы и головы в различных мифологических традициях вплоть до библейской (обезглавливание Юдифью Олоферна с целью спасения города на горе Ветилуи, которая в неоконченном стихотворном переложении Пушкиным Книги Юдифь «стоит, белеясь» — 6) и реплики этой темы в пушкинских произведениях, а также «Войне и мире». Мотив декапитации очень часто связан в мифологии с мотивом горы и спасением города от неприятеля, от осады, пророчеством о чудесном спасении и т. д. (голова Орфея, голова Мимира, голова Брана (в кельтской мифологии), закопанная на Белом Холме, многочисленные мотивы декапитации старого царя, исследованные Фрэзером и др., а позднее многочисленные легенды и сказки о головах, черепах, например проклятие черепа Якова де Моле). Само название «Капитанская дочка» означает «Дочь головы» (этимологически «капитан» связан с лексемой «caput» - латинское «голова»). На роль отца Маши - посаженого - претендует и уповающий перед обезглавливанием на спасение в Машиных молитвах Пугачев. Белогорская же крепость соотносится с мифологической Белой горой как сакральным топосом.
Так называемая «полюсная» (или «полярная») гора ориентирована на Полярную звезду и обнаруживается во многих «символических традициях, всегда порождающих сходную символику мировой оси», как говорит современный словарь символов (7). «Она также называется «белой горой» и в этом случае включает как основные символы горы..., так и символику белого цвета (ум и чистота)» (там же). Религиозные концепции горы, по мнению М.Элиаде, заключаются в том, что на вершину космической горы проецируется «привилегированная, наша территория» (8).
Лейтмотив как манифестант концепта (на примере концептов «дверь», «дерево», «небо», «вода», «камень», «ягоды», «пчелы», «муха», «куб», «сфера»). Мотив сакральных чисел
«Дверь» (или «окно») являются, в сущности, такой же «границей», как и «межа», однако сверхнасыщенность текста этим лейтмотивом заставляет посвятить ему отдельный раздел.
Долохов, пародирующий идею равновесия на подоконнике, персонаж и в самом деле пограничный. Что-то притягивает к нему, но больше все-таки отталкивающего. «Окно - неизменный атрибут мифологических сюжетов с любовным свиданием. Через него девица впервые видит своего избранника...» (1). Не одно, как обычно, а два окна разделяют князя Андрея и Наташу в Отрадном. Когда Наташа у окна высказывает предположения о способе полететь, Соня останавливает ее: «Ты упадешь». Налицо сходство с аналогичной игрой значений «полета» и «падения» в «Грозе» Островского. Пение Наташи на окне - занятие опасное не только для нее, но и для слушающего ее князя Андрея, в судьбе которого она сыграла роль, аналогичную роли сирен в судьбе увлеченных их пением мореплавателей, незамедлительно после этого пения находящих свою гибель в море (житейском или буквальном - все равно). Границу между мирами символизирует окно в лысогорском доме, распахнувшееся от метели, задувшей венчальную свечу. «Во время агонии или сразу после смерти человека отворяли окно... В поминальной обрядности через окно осуществлялось общение с душами умерших» (2). Открытая дверь (окно) связывалась с облегчением для покойника пути на тот свет. Поэтому именно из окна, распахнутого метелью, становится виден экипаж возвращающегося в Лысые Горы князя Андрея. «Плохо задвинутая задвижка» (5,43), из-за которой распахнулось окно, как символическая деталь встретится в описании мер, предпринимаемых старым князем Болконским для предотвращения войны в 1812 году. Итак, окно - дверь на небо, ведь и браки совершаются на небесах, пословица, вложенная в уста графини Ростовой.
Мотив двери подробно проанализирован Г.Я.Галаган, показавшей, что функция мотива двери «зависит от ориентации Толстого порою на новозаветную метафорическую символику мотива «дверей жизни», порою на античную традицию, в частности на толкование одного из древнейших римских богов - Януса - в качестве божества двери, свода, прохода, божества всякого начала, начинания. Ворота храма Януса в Риме в мирное время были закрыты. С началом войны они открывались и оставались открытыми до ее завершения» (3). На наш взгляд, здесь был бы закономерен вывод об еще одном языческом обряде, смоделированном Толстым в еще одном эпизоде, связанном с измененным состоянием сознания. Снова это князь Андрей, чье мифологическое и сновидческое сознание даже наяву, а тем более в состояниях сна, бреда, болезни, страдания наполнено архетипическими смыслами. Сон, в котором Болконский закрывает двери уже почти в состоянии предсмертной агонии, символизирует, а лучше сказать - моделирует последнее средство для прекращения войны, уже, так сказать, не по «Ведам» и не по волхвам, а по Янусу.
К сожалению, какая-то общая предвзятость по отношению ко всем Болконским, а особенно князю Андрею, идущая от ссылок еще на работы В.Ермилова и С.Бочарова, мешает ГЛЯ.Галаган увидеть в эпизоде предсмертного бреда героя именно этот смысл. Забота старого Болконского о задвижках, за которыми он посылает Алпатыча в Смоленск, чуть ли не в момент взятия города французами, также может рассматриваться вовсе не в плане общей недоброжелательности и склонности старого князя к вражде (как понимает это исследовательница), а в плане неосознаваемой мифологической модели: «закрытие дверей - прекращение войны». Именно обращение к мотивному анализу позволяет выстроить парадигму, о которой шла уже речь в первой главе настоящей работы, т.е. триада «старый князь -князь Андрей - Николенька» являет собой все более спиритуализирующуюся, одухотворяющуюся реализацию самых глубинных пластов человеческой психики, осознание и очищение их, ведущее к построению «Царства Божия внутри», а значит - и вокруг себя.
Одновременно с этим становится возможным в свете мотивного анализа и книгу Толстого, его проект всеобщего мира увидеть как бы через призму различных сотериологических традиций, причем не только современных автору, но и древнейших. Главный вопрос, на который ищет ответ автор, — это как спасти мир от войны, от вражды, от распадения и хаоса. В современной Толстому литературе не было более страстного протеста против войны, чем тот, что содержится в словах, поступках, сознании и подсознании Андрея Болконского. Противопоставление мира войне, объединения разъединению (а для Толстого это созидательно-демиургическая и сотериологическая функция) — вот главный мотив, сопровождающий образ князя Андрея в «Войне и мире». И мотив этот видоизменяется, представая в форме воспроизведения различных забытых и полузабытых человечеством ритуалов - то вишнуитского, то митраического, то связанного с античным Янусом, то с волхвованием. Заклеймив войну с христианской точки зрения в диалоге с Пьером накануне Бородинского сражения, князь Андрей трижды затем прибегает к языческим способам спасения мира - хождению по меже, «воздвижению мироздания», закрыванию дверей войны. И если они могут показаться современному читателю бредом, то для экуменического сознания Толстого (и его героя) создание, например, «паутины любви» ничуть не менее реально и важно, чем внесение в жизнь христианских заповедей. Все способы хороши для прекращения войны и объединения, даже нового воздвижения разрушенного злом и враждой мироздания. Христианско-буддистское непротивление совершенно сознательно воспроизводится князем Андреем в Бородинской битве, а более закодированные индоевропейские мифологические концепты предстают во сне или в бреду как подсознательные архетипные формы, тем более, что уже в таком виде они содержались в верованиях древних славян.
Рассматривая концепт «дверь» в связи с образом князя Андрея, В.Камянов подчеркивает, что дверь — это «черта, рубеж, на котором как бы сфокусировано ожидание» (4), И.Виницкий вслед за Камяновым склонен рассматривать этот концепт как «идеологический фокус, «вопрос», который решает герой» (5). Это, в общем-то, вариации общемифологической символики двери как границы между жизнью и смертью. «Метафора борьбы «смерти» и «света», овеществленная в арке, воротах, двери, лучше всего видна в том, что гимнасии и палестры (здания, где происходила борьба) обычно устраивались возле ворот. Но не только двери и ворота означают загробно-небесный горизонт: как всякая межа и предел, носителями той же семантики оказываются и порог дверей, и дверные косяки, и дверные перекладины», пишет О.Фрейденберг (6). В русле этого мотива символика двери сопутствует описанию ухода жителей из Москвы, бреда князя Андрея в Мытищах и его борьбы со смертью, сценам прощания его с сестрой и женой, описанию смерти старого Болконского, эпизоду получения Ростовыми известия о смерти Пети. Мотив двери связывается даже с памятью о князе Андрее. Наташа после его смерти как бы «вглядывалась туда, где он был», «смотрела на угол двери» (7,184).
Христианские концепты «птица небесная» и «Отец и Сын». Танатопоэтика «Войны и мира»
В «Войне и мире» Р.Ф.Густафсон (Принстон) нашел «поэтику эмблематического реализма». Это значит, что, по мнению Густафсона, Толстой «подменяет описания интерьеров фиксацией эмблематических предметов: зеркала и свет на каждом балу; сфинкс на кровати Наташи...» (1). Таковы, в общем, и описания природы. В целом подмечено верно; «эмблематические предметы» большей частью могут, однако, быть названы мифопоэтическими предметами: их «эмблематичность» в подавляющем большинстве случаев объясняется принадлежностью к «семантическому ореолу» той или иной мифологемы, а порой и архетипа.
Сфинкс «на кровати Наташи» (строго говоря, не Наташи, а ее матери), остановивший внимание принстонского исследователя, входит в систему эзотерических символов «Войны и мира», вбирающую в себя и странные орнитоморфные характеристики (Наташа - «сфинкс», князь Андрей -«птица небесная», Каратаев - «соколик»), и деталь интерьера (перья на столе Николая Ростова), и имплицитный вестиментарный код («каски», нарисованные в упомянутом в «Эпилоге» издании Плутарха - это римские шлемы, украшавшиеся, как известно, гребешком из перьев). Есть еще многочисленные обращения героев Толстого друг к другу «голубчик», но их рассматривать в качестве орнитоморфных характеристик неправомерно.
Едва ли не единственный мотив реальной птицы на страницах «Войны и мира» - упоминания о петухе (символ бдительности и, конечно, евангельский символ покаяния), после крика которого Наташа отправляется в свой покаянный путь - просить у князя Андрея прощения. Петуха приносят Наташе и в Отрадном - для гадания на святках (обычай кормить «счетным курицу зерном» (В.А.Жуковский)), но она тут же велит его унести; петух еще с евангельских времен предвещает не только покаяние, но и отречение, и, в сущности, от князя Андрея Наташа уже отреклась. Это отречение подготовлено сценами охоты, обеда и экстатической пляски в Михайловке (о символике пляски см. гл 3). Угощение в доме дядюшки после охоты состоит из жареной курицы, грибков и орехов. Одно из значений охоты в архаических традициях (распространено повсеместно) -эротическое преследование. Орехи и грибы в славянском фольклоре также обладают ярко выраженной эротической символикой. В «Анне Карениной» повторится связь тех же мотивов: разговор Кити с Левиным об охоте на медведя во время встречи за обедом; Кити старается «поймать» вилкой гриб и увлечь Левина. В другом эпизоде «охота» на грибы Кознышева и Вареньки также сопровождается намеками на возможность любовного объяснения.
Наташа, как и Кита, озабочена не столько выбором возлюбленного, сколько собственной эротической реализацией: Болконский и Курагин, Вронский и Левин кажутся взаимозаменяемыми, потому что «запасаются» Наташей и Кити, как грибы и орехи — белками, исключительно в силу инстинкта. За это В.Н.Ильин даже назвал Кити «крайне развратной» (2).
В целом природа в «Войне и мире», с этим знаменитым небом, облаками, кометой, звездами, - это, как ни странно, природа без птиц, В сцене охоты есть дикие звери, лошади, собаки, но птиц нет. Мифологему птицы Толстой «приберегает» для самого важного: опыта о бессмертии, и этот мотив, как и мотив дерева и ягод, существует в «Войне и мире» еще и в библейском контексте.
Однако прежде следует рассмотреть связь «войнамирического» мотива птицы с разнообразными архаическими традициями. Сфинкс как существо гибридной природы обладает крыльями и рассматривается в качестве фантастической птицы, но главное его «назначение» - служить олицетворением таинственного, «Как высшее воплощение загадочности, сфинкс хранит запредельный смысл, который всегда должен оставаться вне понимания человека,,. Маска сфинкса имеет отношение к материнскому образу, а также к символизму природы» (3), «Природа - сфинкс» у Тютчева, княгиня Р, - сфинкс в представлении Павла Петровича в «Отцах и детях» Тургенева, в письмах Тургенева сфинкс - народ, для Штольца в «Обломове» Гончарова сфинкс символизирует загадку любви и семьи, Фиванский (беотийский) сфинкс воспринимается как Сфинга (акцент на фемининном аспекте), а загадочность Сфинги равносильна тайне женщины и природы. Сфинга-душительница связана, таким образом, и с танатосными мотивами, однако египетский Сфинкс, как хранитель пирамид, тоже имеет отношение к царству мертвых.
В связи с тем, что упоминание о сфинксе в «Войне и мире» связано с восприятием Наташи князем Андреем (в полубессознательном состоянии во время тяжелой болезни), возникает соблазн прочитать сцену по аналогии с оппозицией «сфинкс - Эдип» в «Отцах и детях» Тургенева, где загадку своего сфинкса - Одинцовой пытается, и, как всегда, безуспешно, разгадать новый Эдип - Базаров. В свете мифа об Эдипе Базаров предстает как жертва рока, предопределившего покушение «детей» на мудрость «отцов», а в свете романа «Отцы и дети» архаический, мифический Эдип, убивший отца, предстает первым в человеческой истории нигилистом.