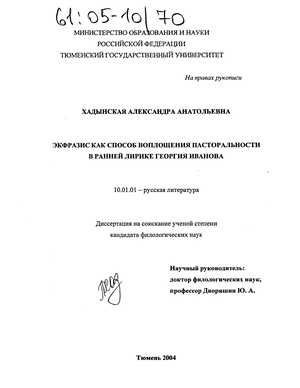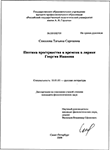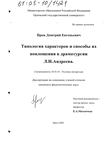Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Своеобразие поэтики экфразиса в ранней лирике Г. Иванова ... 22
1.1. Поэтическая интерпретация живописи в контексте "усадебного текста" 22
1.2. Символика цвета у Г. Иванова (на примере сборника "Сады"). 56
ГЛАВА 2. Традиция живописной пасторальности в восприятии и творческой интерпретации Г. Иванова 79
2.1. Г. Иванов и Жан Антуан Ватто 79
2.2. Совокупный опыт Гейнсборо, Лоррена, Ван Дейка и Кустодиева в интерпретации Г. Иванова 123
Заключение 153
Литература 157
- Поэтическая интерпретация живописи в контексте "усадебного текста"
- Символика цвета у Г. Иванова (на примере сборника "Сады").
- Г. Иванов и Жан Антуан Ватто
- Совокупный опыт Гейнсборо, Лоррена, Ван Дейка и Кустодиева в интерпретации Г. Иванова
Введение к работе
Современная русская культура сейчас уже немыслима без Г. Иванова, по свидетельству многих, лучшего поэта русской эмиграции. Это имя вернулось к нам в 90-х годах XX века и стало поистине открытием. Его зрелые стихи потрясают как простотой языка, так и глубиной своего трагизма. Творческое наследие поэта еще ждет своего исследователя; все, что написано о нем до сих пор, касается главным образом его эмигрантской лирики. Раннее же творчество в работах литературоведов практически не затрагивается, так как во многом имеет репутацию юношеских опытов, тогда как настоящий Г. Иванов, с этой точки зрения, родился только в эмиграции.
Долгое время ранняя лирика Г. Иванова воспринималась как нечто "второсортное" в противовес "первосортности", зрелости лирики эмигрантской. До сих пор встречаются подобного рода характеристики его петербургской поэзии. Например, И. Роднянская в статье "Возвращенные поэты" пишет о значимости именно поздней лирики поэта, "отказавшегося от прежней манерности и решившегося искренне и правдиво передавать жизнь души" (115. С. 21).
В работе Н. А. Кузнецовой "Творчество Георгия Иванова в контексте русской поэзии первой трети XX века" дан широкий обзор критических высказываний современников поэта и литературоведов, в большинстве своем подтверждающих нашу мысль о недостаточной изученности ранней лирики Г. Иванова, следствием чего явилась тенденция считать петербургскую поэзию затянувшимся периодом ученичества, неким тупиковым путем, который поэт, будучи зрелым мастером, впоследствии отверг. В указанной работе автор делает очень важный вывод, ставший для нас отправной точкой в исследовании: "Мир Георгия Иванова един как хронологически, так и в его составляющих, говорить о перерождении поэта нам не представляется возможным" (73. С. 11).
Развеивать миф о "двух разных Ивановых" начал еще В. Крейд, который в монографии "Петербургский период Г. Иванова" (69) впервые дал серьезную характеристику ранним сборникам поэта, отмечая их самобытность. Главная особенность петербургского творчества Г. Иванова, по мысли автора, заключается в оперировании различными культурными моделями прошлого, что рождает новые смыслы.
Ряд современных литературоведов последовал по пути, проложенному американским критиком: В. Блинов, Е. Алекова, В. Заманская, А. Арьев, Е. Витковский и др. Но все же большинство работ посвящено именно эмигрантскому периоду творчества поэта, исследователей интересует больше зрелый, "экзистенциальный" (В. Заманская) Г. Иванов, хотя и учитывается факт эволюции творчества, определяются влияния, сформировавшие его художественное сознание. На наш взгляд, в научном осмыслении поэтического пути Г. Иванова уже в самом его начале имеется определенный "пробел", когда при верных указаниях на различные темы и мотивы в корпусе ранних текстов не показан механизм их функционирования, отсюда многие поэтические находки ускользнули от внимания исследователей, будучи затерянными в определении "подражательные". Иными словами, чтобы понять такую резкую смену тематики и даже миропонимания у позднего Г. Иванова, необходимо выяснить его истоки, основополагающую позицию, из которой он исходил в начале творческого пути.
Самое начало поэтической деятельности Г. Иванова осуществлялось в рамках эгофутуризма (И. Северянин); этот период был весьма коротким. Прежде всего, несомненно влияние на его поэзию М. Кузмина, которого иногда называют предтечей акмеизма. В частности, В. Крейд отмечает, что "поэзия Кузмина была одной из ранних реакций на символизм" (68. С. 58). Но он же и справедливо подчеркивает, что этого влияния не стоит преувеличивать. Художественный вкус юного поэта только формировался, он пробовал себя в разном качестве, отголоски его встреч-бесед с совершенно разноплановыми поэтами (А. Блоком, Н. Кульбиным, Вяч. Ивановым, Н. Гумилевым,
5 О. Мандельштамом и т.д.) мы найдем во многих его ранних стихотворениях. Поиск своего стиля, как это чаще всего случается, проходил в рамках освоения культурных традиций, и акмеизм в этом смысле стал для Г. Иванова, чувствовавшего свою кровную связь с Культурой, подлинным поэтическим лоном, хотя символизм, в его "блоковском варианте", тоже оказался ему не чужд.
Поэтическое мастерство Г. Иванова сомнению практически не подвергалось, но его интерес к интерьерным описаниям, живописи, разного рода предметам дворянского быта многим казался темой, недостойной пера серьезного поэта. Сам Г. Иванов никак его не объяснял, на выпады критиков или не реагировал или отвечал в свойственной ему иронической манере, когда трудно понять, что в шутку, а что всерьез. Обилие обращений к живописным и скульптурным изображениям действительно характерно для его ранней лирики, их описание всегда отличается у него выразительностью, поэтичностью, вниманием к деталям, знанием культурной эпохи, которой принадлежит полотно или скульптура. Аналогии между его стихами и другими видами искусств, о которых он пишет, проводились неоднократно. Сошлемся на мнение Т. Ю. Хмельницкой: "Стихи — отточенные, ясные, мелодичные, как живописный интерьер или со вкусом сервированный натюрморт" (139. С. 46). Н. А. Богомолов объясняет этот интерес Г. Иванова именно его акмеистической выучкой: для этого течения были характерны сопоставления поэзии с изобразительными искусствами (живописью, графикой, скульптурой, архитектурой), тогда как враждебный ему символизм соотносил поэзию с музыкой. Г. Иванов, как пишет исследователь, "переносит это представление в стихи с поразительным старанием, так что любой желающий может выстроить замечательно цельные ряды оппозиций. Вот названия его стихотворений: "Книжные украшения", "Литография", "Скромный пейзаж"...Примеры можно множить..." (19. С. 140).
Ранняя лирика Г. Иванова отчетливо выражает важнейшие поэтические тенденции начала XX века, прежде всего мысль об универсальности Слова, его
уникальной способности творить "вторую реальность", а также теснейшую связи литературы с другими изобразительными искусствами. Его ближайшие соратники по "Цеху поэтов" Н. Гумилев, А. Ахматова, О. Мандельштам во многом еще тяготели к символизму, но уже их раннее творчество достаточно ярко продемонстрировало четкую поэтическую индивидуальность, несводимость к определенному течению, в том числе и к провозглашенному акмеизму. Ранний же Г. Иванов гораздо более последовательный акмеист, чем сам "мэтр" Н. Гумилев, его первые поэтические опыты свидетельствуют о несомненно акмеистическом стремлении запечатлеть в Слове мельчайшие оттенки увиденного, создать яркий зримый образ действительности. Отсюда в его ранних сборниках любовь к мелочам, скрупулезным описаниям, акцент на статических изображениях. Слово в представлении акмеиста должно быть зримым, выпуклым, максимально реализовывать эмоции, рожденные при созерцании мира. Сопряжение такой поэзии с живописью совершенно закономерно: у двух изобразительных видов искусств оказываются сходными принципы отражения действительности.
Интерес к "вещности" Слова характерен для всего акмеистического окружения Г. Иванова, но выражается у поэтов по-разному. Для Ахматовой характерна материализация как веши, так и чувства, отражающего ее восприятие. Например, в ее ранних сборниках очень часто деталь костюма лирической героини "материализует" ее душевное состояние (хрестоматийные "перчатка", надетая не на ту руку, и "вуаль", под которой она "сжала руки", передают смятенное состояние, тревогу).
Центральный образ знаменитого "Камня" Мандельштама демонстрирует изменчивость, "текучесть" материи, способность ее к причудливым метаморфозам, что роднит ее со Словом, духовной субстанцией:
Кружевом, камень, будь,
И паутиной стань:
Неба пустую грудь
Тонкой иглою рань.
7 Будет и мой черед -Чую размах крыла. Так - но куда уйдет Мысли живой стрела?
(82. С. 17)
Романтический мир ранних сборников Гумилева наполнен действием, энергией, изображенный им материальный мир помечен активным присутствием лирического героя, отсюда обилие "движущихся" описаний ("бегущие линии", "летящие дымы пожара", "взлетающий фламинго", "мчащиеся обезьяны", "рычащие разъяренные звери" и др.). Весь мир пришел у поэта в движение, передавая душевный непокой лирического героя.
По сравнению с собратьями по перу, ранний Г. Иванов настолько подчеркнуто изобразителен, "плоскостей", живописен, что порой дает повод обвинить себя в эпигонстве. Его поэтическое мастерство, виртуозность описаний, классическое изящество стиха иногда удачно скрывают "незатейливое" содержание, откровенные литературные штампы. Из всех акмеистов он наиболее последовательно, добросовестно и тщательно разрабатывает основной художественный посыл течения — поэтизацию материального мира. Его первые поэтические опыты не лишены подражательства, круг тем неширок, главным образом это различные описания статичных объектов (сады, парки, фонтаны и скульптуры в них), традиционные для всякого юного поэта "подражания древним" (античные и восточные мотивы). Особенностью его художественного мира на тот момент станет принципиальная установка на "живописность" изображения, попытка передать словом увиденный пейзаж или скульптуру, причем в мельчайших подробностях. В раннем творчестве Г. Иванова акмеистические установки еще во многом определяют его мировосприятие, опоэтизированный материальный мир в его изображении имеет статус духовного, поскольку с усадебными пейзажами, интерьерами и отдельными их составляющими у лирического героя
8 связаны ностальгические воспоминания. Природные объекты (цветы, деревья, ручьи и пейзажи в целом) равны для него по духовной ценности предметам материальной культуры (мебели, старинным картинам и сервизам). Думается, вполне можно говорить о так называемом "усадебном тексте" в интерпретации Г. Иванова, так как мир его ранней лирики демонстрирует типичные его приметы: описание дома и усадьбы и связанные с этим чувства ностальгии, утраты дворянской культуры. Идеализированное прошлое - главная тема ранней лирики поэта. Это отнюдь не "приукрашивание" действительности, а отражение особого идиллического миропонимания на заре XX века, когда духовная ценность определенной культуры определяется осознанием ее скорой гибели. Жизнь идиллии в совсем неидиллическое время — одна из излюбленных тем многих поэтов - современников Г. Иванова, из всех акмеистов он, пожалуй, был единственным, кто в период ученичества так целенаправленно и точно воспроизводил пасторальный дух русской усадьбы, особое настроение увядания, угасания огромной культурной эпохи, которая, тем не менее, прекрасна в своем умирании. То, что многие критики принимали у Г. Иванова за слащавость и даже пошлость, есть на самом деле живая реализация пасторали.
Термин "пастораль" мы употребляем в широком смысле, как "модальность", особый способ мирочувствования, главным в котором станет декларация гармонии человека и мира, воспевание счастливой жизни на лоне природы, особое умонастроение, некий комплекс эмоциональных представлений (безмятежности, влюбленности, тихой радости, покоя и пр.). В узком смысле это система жанров, точнее, некий метажанр с рядом характерных признаков, проявившийся в разных видах искусства. Н. Т. Пахсарьян указывает на такое разграничение как на исторически сложившееся, когда начинает расширяться сфера применения пастушеской тематики, что было связано с процессом "натурализации пасторали" (106. С. 51). У истоков такого понимания идиллии стоит, в частности, В. фон Гумбольдт, определивший ее еще и как "известное настроение ума", "способ
чувствования", а идиллический человек — это тот, "все существо которого состоит из чистейшей гармонии с самим собою,... с природой" (36. С. 244-245). При этом рождается понятие так называемого "идиллического хронотопа" как "сочетание человеческой жизни с жизнью природы, единство их ритма" (известная формулировка М. М. Бахтина), как "безмятежная патриархальность и замкнутость "тихих" событий в семейном кругу" (Н. Т. Пахсарьян). В художественном слове пастораль проявила себя во всех литературных родах и в довольно большой группе жанров (эклога, поэма, роман, драма и др.). Оговоримся, что термины "идиллия", "пастораль" и "буколика", при учете различных терминологических расхождений у разных авторов, все же используются нами как синонимы.
Интерес к пасторальным жанрам, модальности и отдельным составляющим этой традиции наблюдается практически во всех эстетических системах и художественных направлениях. По справедливому утверждению историка литературы Н. О. Осиповой, анализирующей проблемы развития пасторали в русской культуре начала XX века, "пасторальный комплекс является одной из устойчивых метажанровых систем" (105. С. 100), легко вписывающихся в любое культурно-художественное пространство. Причина такой ее "живучести" во многом объясняется тем, что пасторальные ценности существовали всегда и являлись своеобразным "противоядием" энтропийных процессов в культуре.
Изучение пасторали долгое время находилось на периферии отечественного литературоведения. Т. В. Саськова, анализируя причины неразработанности этой проблемы в нашей литературной науке, приходит к выводу, что это было следствием суммарно-негативных оценок, инерция которых еще не преодолена до сих пор. В художественном наследии прошлого советское литературоведение привлекали внимание, главным образом, идейные позиции писателей, а пастораль всегда интересовалась частной жизнью человека, социальные коллизии не входили в сферу ее интересов, что в свое время и дало основание Г. А. Гуковскому сказать, что "самым неприятным, что
10 оставило нам XVIII столетие в области искусства", были "лицемерная пасторальность и чопорное барство" (34. С. 3). Исследователь объясняет это и особой социокультурной ситуацией в России с ее гнетом крепостного права и давлением мощной бюрократической машины, что вызывало народную враждебность к искусству, творимому элитой общества и составляющему резкий контраст с общественной практикой. То есть, пока эстетическая ценность литературных произведений ставилась в зависимость от идеологических конструкций, пастораль воспринималась как низкосортное искусство с мелкими темами, "лакированным" изображением действительности. Эстетика тривиального, как справедливо считает Т. В. Саськова, нуждается в изучении, "игнорирование огромного историко-литературного пласта приводит к неполноте представлений о характере культурного процесса, к неизбежным смещениям, неточным расстановкам акцентов, искажениям в его понимании" (121. С. 9).
Трудность восприятия пасторальности современным читателем и даже исследователем обусловлена еще и тем, что классическое литературное наследие XIX века, занявшись глобальными проблемами, буквально затмило XVIII век, интереснейший культурный период, иллюстрирующий уникальное соединение в рамках пасторали барочных, классицистических, рокайльных, сентименталистских и предромантических стилевых течений.
Актуальной проблема взаимодействия стилей станет в начале XX века, и интерес к пасторали вспыхнет снова совершенно закономерно. В эпоху рубежа XIX-XX веков, когда русская культура, по словам Н. О. Осиповой, вступила на путь "мощного синтеза художественного и философского мышления" (105. С. 99), пастораль оказалась созвучна времени своей идеей возврата к мифологическим культурным моделям. Ситуация надвигающегося хаоса, обострив потребность в гармонии, насущно требовала возврата пасторали на первый план.
Как убедительно доказывается в докторской диссертации Т. В. Саськовой (121), пастораль была достаточно хорошо освоена русской
художественной культурой XVIII - XIX веков (рассмотрено на широком историко-литературном материале от Ломоносова до Пушкина). В XX веке этой традиции отдали дань А. Белый, М. Кузмин, Вл. Нарбут, Б. Лившиц, Ф. Сологуб. Известны также маскарады К. Сомова, гравюры А. Бенуа, постановки С. Судейкина на пасторальную тематику. Художники Серебряного века, ратовавшие за идею возврата к мифу, дали вторую жизнь "галантному" восемнадцатому веку с его маскарадностью, склонностью к условности, иллюзорности и утонченной чувственности. Получили новую жизнь идиллии, пасторальные элегии и песни, эклоги (характерные для пасторальной традиции жанры), ожила сама атмосфера изысканной театральности, переменчивости настроений, легкой эротичности.
Изучением пасторальности в русской литературе XX века плодотворно занимается Н. О. Осипова, ее статьи посвящены анализу с этой точки зрения романа Д. С. Мережковского "Юлиан Отступник" и поэзии первой трети XX века (105, 104).
Интересна работа литературоведа Л. А. Сугай, обнаружившая не привлекавшей прежде внимания исследователей живописной пасторали К. Сомова полемику "пушкинского" и "гоголевского" направлений в литературе (128).
Предмет особого интереса современных литературоведов - пасторальная драматургия. В 1920-х годах был предпринят ряд попыток реанимирования театральных постановок, считавшихся в пролетарской России явным анахронизмом. Причина этого в том, что, по утверждению Т. Н. Фоминых, пастораль, "скомпрометировавшая" себя "связью" с великосветскими балами, празднествами и развлечениями, "в культурном сознании 1920-х годов воспринималась как готовая жанровая форма художественного изображения жизни господствовавших раньше классов, как орудие разоблачения порочного образа жизни эксплуататоров" (137. С. 94). Подобная травестийная обработка пасторали была предпринята С. С. Заяицким в романе "Красавица с острова Люлю" (1926) и в его авторской инсценировке (1928). Как пишет первый
12 исследователь этой пьесы Т. Н. Фоминых, автор, работая с пасторальным жанром, "актуализировал прежде всего его сатирический потенциал" (137. С. 95). Она же занималась изучением пасторальной традиции в комедии П. Муратова, известного искусствоведа, переводчика и прозаика начала XX века, "Приключения Дафниса и Хлои" (1926). Интереснейший комментарий к балету С. Судейкина по гоголевской "Женитьбе" представила Л. А. Сугай: анализ либретто как "наивной ретроспекции" идиллии (128). Но исследований не так много, видимо, определенная инерция в этом вопросе в отечественном литературоведении действительно существует.
Специальных исследований по проблеме влияния пасторальной традиции на формирование художественного сознания Г. Иванова нами не обнаружено, но большинство литературоведов и критиков отмечали идиллическое восприятие им действительности в раннем творчестве. Практически все указывали на красоту и гармоничность его поэтического языка, но бесконфликтность его ранней лирики большинством критиков, как современников поэта, так и нынешними, воспринималась как серьезный недостаток. Для А. Блока, например, гладкость и "безмятежность" его стихов означала их бессодержательность. "Слушая такие стихи,... можно вдруг заплакать — не о стихах, не об авторе их, а о нашем бессилии, о том, что есть такие страшные стихи ни о чем, не обделенные ничем - ни талантом, ни умом, ни вкусом, и вместе с тем — как будто нет этих стихов, они обделены всем, и ничего с этим сделать нельзя", - так сказал он о поэзии Георгия Иванова. И добавил, рецензируя в 1919 году его книгу стихов "Горница": "Это — книга человека, зарезанного цивилизацией, зарезанного без крови, что ужаснее для меня всех кровавых зрелищ этого века, - проявление злобы действительно нечеловеческой, с которой никто ничего не познает, которая нам — возмездие". (16. С. 377) Столь резкая оценка во многом обусловлена тем, что символист Блок, весьма сдержанно относившийся к только что появившемуся акмеизму, не мог принять акмеистических, а порой и откровенно эпигонских, на тот момент, стихов поэта. В середине XX века Г. Иванов занимает, по словам
13 Р. Гуля, "грустное и бедное, и в то же время почетное и возвышенное место первого поэта российской эмиграции", которое он "заслужил тем, чем заслуживают все большие поэты". (35. С. 194)
Блоку вторит Л. Н. Лунц, давая отклик на только что вышедшие "Сады": "В общем, стихи Г. Иванова Образцовы. И весь ужас в том, что они Образцовы" (79. С. 49). В. Ходасевич, рецензируя "Вереск" и отдавая дань мастерству поэта, тем не менее, пишет: "Его поэзия загромождена неодушевленными предметами и по существу бездушна даже там, где сентиментальна"; ориентацию на декоративность в сборнике он характеризует так: "Это не искусство, а художественная промышленность - беру это слово в благородном значении. Стихи, подобные стихам Г. Иванова, могут и должны служить одной из деталей квартирной, например, обстановки. Это красиво, недорого и удобно" (140. С. 512).
Е. Эткинд в работе "Кризис символизма и акмеизм" признает справедливой оценку В. Жирмунского (статья "Преодолевшие символизм" — живой отклик на рождение акмеизма): " Предостережение Жирмунского было суровым: в самом деле, опасность смысловой облегченности грозила акмеистам. К счастью, творчество Гумилева, Ахматовой и Мандельштама она миновала. Однако Жирмунский оказался прав по отношению к другим: Городецкому, Нарбуту, Зенкевичу, отчасти (все-таки отчасти! — А. X.) Георгию Иванову" (148. С. 481).
Думается, отсутствие научного интереса к функционированию пасторального комплекса в поэзии Г. Иванова объясняется как общей литературоведческой тенденцией в этом вопросе, о чем говорилось ранее, так и сравнительно небольшим количеством серьезных работ по его лирике вообще. Изучение этой темы таит немало интересного, особенно это важно, с нашей точки зрения, для осмысления его раннего творческого наследия, с нашей точки зрения, несправедливо обойденного вниманием исследователей.
По нашим наблюдениям, своеобразие преломления пасторальной традиции у Г. Иванова заключается в том, что в его стихах присутствует прежде всего "живописная" пастораль: словесные описания творений художников,
14 работавших в этом жанре, создание собственных идиллических пейзажей в их духе, вообще стремление запечатлеть мир как некую буколическую картинку.
Для проведения параллелей между живописным искусством и словесными изысканиями Г. Иванова воспользуемся очень точной и емкой категорией "экфразиса", восходящей к культуре античности, разрабатывавшейся в эстетике Ренессанса, классицизма, барокко, других художественных систем и ныне активно употребляющейся при анализе межвидовых связей в искусстве, особенно - при описании специфики живописи средствами поэзии. Исследователи по-разному его трактуют. Л. Геллер, автор вступительной статьи сборника "Экфрасис в русской литературе", предлагает использовать его не только в узком смысле, как "украшенное описание произведения искусства внутри повествования, которое он прерывает, составляя кажущееся отступление" (30. С. 13), но и в широком смысле, как воспроизведение одного искусства средствами другого. Этот термин, по утверждению того же автора, "одновременно техничен и историчен, он заставляет обратить внимание на укорененность явления в традиции, а следовательно, на эволюцию связанных с ним приемов, топосов, жанров. И этот же термин указывает на прерывность традиции, на ее историческую необязательность, а значит, на особую значимость тех моментов, когда она возрождается" (30. С. 13). Экфразис известен со времен греко-римской риторики, там он понимался как "украшенное описание произведения искусства внутри повествования, которое он прерывает" (30. С. 5); характерный пример — описание щита Ахилла в "Илиаде".
Известная мысль о живописи как "немой поэзии" и поэзии как "говорящей живописи" иллюстрирует тот диалог, который они завели еще в античности.
Как отмечает Л. Геллер, русская литература издавна пользовалась экфразисом, перед которым стояли важные художественные задачи. Вспомним "Арабески" и "Портрет" Гоголя, "Запечатленный ангел" Лескова, описание картины Клода Лоррена у Достоевского, поэзию постсимволистов. Л. Геллер отличает это понятие от "взаимосвязи искусств" и так называемой
15 интермедиальности. Исследователь последней Ганс Лунд (30. С. 6-7) предлагает различать три ее формы (не вдаваясь в подробности, рассмотрим по существу):
комбинация (взаимодействие литературы и пластических искусств)
интеграция (словесные произведения в визуальной форме)
трансформация (предмет изобразительного искусства передается словами)
Последняя форма и есть экфразис в узком смысле, в котором мы и намерены его использовать. В более широком смысле о нем говорят как о передаче специфики одного вида искусства средствами другого.
Ролан Барт в связи со спецификой литературного описания отмечал, что при любом его виде автор сначала мысленно преображает его в живописный, словно помещая в раму, и потом уже начинает описывать как объект, отделенный от прочего мира границей рамы (30. С. 8). То есть описательное слово в литературе изначально экфрастично.
Совершенно справедливо, на наш взгляд, высказывается Л. Геллер по поводу необходимости пересмотра экфразиса как "копии второй степени", так как этот интеллектуальный акт, представляя "перевод чувственных восприятий и интуитивного знания на язык искусства", есть значительно более сложный уровень, чем снятие копии с действительности (картина). Поэтому следует различать лирический пейзаж, в тексте стихотворения не связанный с картиной, и собственно экфрастический пейзаж, передающий ее словами, хотя у них может быть общий стилистический инструментарий. В экфразисе в слово переводится не объект, а его восприятие, не образ картины, а ее видение литератором. Писатель Мишель Бютор, в своих произведениях часто прибегающий к экфразису, резонно подчеркивал, что у картины и у ее описания разные логики и динамики (30. С. 11).
Слово в экфразисе может быть подвижным и передавать динамику, даже когда описывает статичный объект (например, описание чайного пара над чашкой, рождающего причудливые, тут же исчезающие фигуры в
стихотворении М. Кузмина "Фузий в блюдечке", 1917). Также слово может акцентировать наше внимание на статичности объекта: почти всегда так будет в экфразисе Г. Иванова.
Нетрудно заметить, что ближайшее акмеистическое окружение поэта тоже использовало экфразис в своей художественной практике. Для Ахматовой с ним связана прежде всего тема Царского села, описание парков, садов и скульптур в них ("Царскосельская статуя"). Мандельштама отличает пристрастие к описанию архитектурных сооружений ("Айя - София" и "Notre Dame", "Адмиралтейство"). Гумилев любил "писать" "словесные портреты" воображаемых персонажей ("Портрет мужчины", "Царица", "Русалка").
В работе Р. Мниха "Сакральная символика в ситуации экфразиса" анализируется специфика этой категории в интерпретации акмеистов. Автор опирается на мысль В. Топорова о наметившемся в 10-х годах XX века противостоянии двух поэтических систем: ориентацию на непрерывное, изменяющееся (процесс), стремление растворить слово в тексте (отсюда связь слова с музыкой) у символистов и тяготение к дискретному, четко ограниченному и самодовлеющему (вещность, предметность), подчеркивание "скульптурного" и "архитектурного", стремление к слову, которое сохраняет свою независимость у акмеистов (91. С. 91-92). Особенно ярко это проявляется у Ахматовой и Мандельштама.
Например, в стихотворении Ахматовой "Царскосельская статуя" экфразис, по точному наблюдению Р. Мниха, связан прежде всего с темой воспоминания: творческая память автора... в ситуации экфразиса "открывает действительность" вечной каменной статуи и одновременно соотносит судьбу ожившей таким образом статуи с судьбой лирической героини" (91. С. 94).
Манделынтамовский "Камень" "архитектурен" по самой своей природе, экфрастические описания сооружений зодчества служат живым доказательством могущества Слова в изображении материи.
Мало представителен в этом плане Гумилев, чьи "словесные портреты" лучше квалифицировать как психологические, так как они более походят на
17 рассказ о персонаже, нежели на описание статичного объекта; у каждого из его героев своя драматичная судьба, и это в большей мере интересует поэта, чем фиксация внешнего облика.
У Г. Иванова экфразис играет несравнимо большую роль, чем у его единомышленников по "Цеху поэтов", что видно хотя бы по количеству стихотворений с описаниями скульптур, живописных полотен, архитектурных строений и предметов интерьера. В своем ретроспективизме и экфрастическом стремлении запечатлеть в слове красоту статического объекта он близок именно Ахматовой и Мандельштаму, подтверждая свое акмеистическое "происхождение", но отличается от них ярко выраженным пасторальным началом, для которого экфразис стал оптимальной формой выражения.
Проблемами экфразиса на материале литературы XX века занимались Р. Мних (91), И. А. Есаулов (48), Е. Берар (14), М. Рубине (117). Участники проведенного недавно симпозиума по экфразису в Лозанне коллективно пришли к выводу о том, что экфразис может быть принципом религиозным, философско-эстетическим, эвристическим, семиотическим, культурно-историческим, межтекстовым, поэтическим, тропологическим. Мы, в свою очередь, предлагаем рассматривать его в контексте ранней лирики Г. Иванова как способ воплощения пасторальности, что еще не входило в спектр литературоведческих изысканий по творчеству Г. Иванова.
Пастораль в XX веке имеет сложную судьбу, так как век, начавшийся кроваво и жестоко, совсем не идиллический, и Г. Иванов не был бы настоящим поэтом, если бы не заметил этого. Пасторальное настроение, роднящее между собой все ранние сборники поэта, осложнено у Г. Иванова иронией, постоянно подвергающей сомнению истинность идиллических идеалов. Иронический взгляд помогает поэту сохранить веру в "правдивость искусства", оставаться реалистически трезвым и искренним художником. Правда, юному поэту не всегда это удается, особенно это заметно в самых первых сборниках, "Вереске" и "Лампаде", когда он увлекается описательством и не замечает "картинности", искусственности образов, но уже в "Садах", последнем петербургском
18 сборнике, ирония станет заявлять о себе все чаще, а в эмигрантском творчестве займет главное место, станет характернейшей приметой его поэтики, обретет самые разные способы выражения, вплоть до едкого сарказма. Исследованию эволюции иронии в художественном мире Г. Иванова посвящена глубокая и содержательная диссертация И. Н. Ивановой, где автор, в частности, указывает на влияние М. Кузмина, чью ненавязчивую, примиряющую иронию, скорее несерьезность, и воспринял ранний Г. Иванов: "Пафос кузминской иронии, как и ранней ивановской, - любование миром с его "отрадным", "милым вздором" и стремление ничего не усложнять" (58, 34). Эту ироничность ив жизни, и в творчестве многие современники поэта не принимали, например, Ахматова, рассердившаяся на поэта из-за его "неправдоподобных" мемуаров "Петербургские зимы", но без ее учета ранний Г. Иванов отсутствием "серьезных" тем действительно порой напоминает апологета акмеизма.
Авторитетный исследователь литературы XX века Н. А. Богомолов, казалось бы, тоже присоединяется к современникам Г. Иванова: "При чтении "Горницы" (1914) и "Вереска" (1916) нередко создается впечатление, что при всей умелости и мастеровитости поэта ему просто не о чем писать". Но далее автор отмечает то, что прошло мимо внимания современников поэта: "Поэзия Г. Иванова эпохи "Горницы" и "Вереска" все время балансирует на грани между серьезным описательством и тонкой самоиронией" (18. С. 143).
Таким образом, в нашем исследовании мы исходим из того, что характерный для ранней лирики Г. Иванова пасторальный комплекс экфрастически выражен и постоянно "корректируется" иронией, что придает идиллической тональности оттенок зыбкости, непрочности, но вместе с тем, превращенный с помощью экфразиса в "произведение искусства", он утверждается и "закрепляется" как культурная традиция и тем самым обеспечивает себе "долгую жизнь".
Наличие идиллической составляющей во всех петербургских сборниках, ряд общих пасторальных примет позволяет нам рассматривать всю раннюю лирику поэта как единый культурный текст, в рамках которого мы отметим
19 определенную эволюцию в интерпретации поэтом пасторали, с учетом изменения качества ее экфрастической выраженности и увеличения доли иронического компонента.
Актуальность исследования обусловлена возросшим в последнее время интересом к творчеству поэтов Серебряного века и к Г. Иванову в частности, а также необходимостью теоретического осмысления некоторых явлений поэтики, сложившихся в отдельных авторов указанного периода в связи с общей культурной установкой на принцип художественного синтетизма (экфразис). Помимо того, в последнее время наметилась явная тенденция к "реабилитации" идиллического как способа мирочувствования, продуктивность которого как культурной модели доказана самим временем.
Таким образом, объектом нашего исследования является корпус ранней лирики Г. Иванова, все петербургские сборники поэта как единый культурный текст идиллической тональности.
Цели и задачи работы: выявление пасторальности как единого умонастроения, объединяющего ранние сборники поэта в идейно-тематическое единство; определение своеобразия поэтики экфразиса у Г.Иванова как способа воплощения пасторального начала в рамках "усадебного текста"; выявление механизма его функционирования в ряде интерпретаций поэтом творчества отдельных художников.
Методологической базой служит сочетание сравнительно-исторического и системно-типологического подходов к анализу ранней лирики поэта, которые были научно обоснованы в трудах В. Жирмунского, Ю. М. Лотмана, Л. Я. Гинзбург и др., а также структурно - функциональный принцип, выявляющий элемент художественной системы и его функции, в данном случае это экфразис как способ воплощения пасторальности. Использовался также принцип структурно - семантического анализа, в частности, в определении различной символики в лирике (цвета и пр.). Важная проблема взаимодействия слова и живописи как видов искусств в художественном мире раннего Г. Иванова обусловила обращение к ряду искусствоведческих и
20
культурологических работ А. К. Якимовича, И. С. Немиловой,
А. В. Повелихиной, Е. Ф. Ковтуна, Ю. К. Золотова, А. Д. Чегодаева, Л. В. Никифоровой, а также к зарубежным авторам (Жермен Базен, Леонард Дж. Нортон). Учтен опыт исследования творчества Г. Иванова российскими и зарубежными учеными (Н. А. Богомолов, Е. А. Алекова, И. И. Иванова, Н. А. Кузнецова, В. Крейд, Р. Гуль, В. Марков и др.)
Теоретическая значимость работы состоит в изучении своеобразия экфразиса как художественной категории, выявление механизма его функционирования в лирике, а также определение специфики пасторали как особого способа мирочувствования конкретного автора.
Практическая значимость работы заключается в том, что материалы исследования могут быть использованы в курсе лекций по истории русской литературы (раздел "Русская литература рубежа XIX - XX веков") и на спецкурсах и семинарах по лирике Серебряного века.
Новизна работы состоит в том, что ранее пасторальность как главное умонастроение раннего Г. Иванова не была предметом отдельного изучения, равно как и поэтика экфразиса в качестве способа воплощения пасторального начала в петербургской лирике поэта.
Апробация работы. Отдельные положения работы были освещены на аспирантских семинарах, на заседаниях кафедры литературы СурГПИ, в докладах на научных конференциях в Москве и Сургуте. Материалы исследования отражены в 8 публикациях автора (2002 — 2004 г. г.).
Структура работы: диссертация состоит из двух глав, введения, заключения и библиографии.
Во Введении рассматривается историография вопроса, определяются теоретические положения, ставятся задачи исследования, а также обосновывается научная новизна темы и ее актуальность.
В первой главе выявляется своеобразие поэтики экфразиса в ранней лирике Г. И. Иванова: живописный подтекст рассмотрен в рамках "усадебного текста", выявляется роль цветовой символики.
Во второй главе определяется влияние творчества ряда художников на раннюю лирику Г. Иванова (западноевропейских Ван Дейка, Ватто, Лоррена и Гейнсборо и русского Б. Кустодиева) в контексте поэтики экфразиса как принципа воплощения пасторальности.
В Заключении подводятся итоги исследования, намечаются дальнейшие перспективы изучения лирики Г. Иванова.
Поэтическая интерпретация живописи в контексте "усадебного текста"
Тесная связь ранней лирики Г. Иванова и живописи очевидна даже при беглом прочтении его петербургских сборников. Часто упоминаются живописные детали, нередко само слово "живопись", постоянно можно встретить или сравнение "как на картине", или обнаружить его косвенно. Изображаемые персонажи часто статичны, словно застыли для позирования, показаны на фоне окна, играющего роль своеобразной рамы, на фоне паркового пейзажа, что адресует нас к классическому портрету. Связь поэзии Г. Иванова с изобразительным искусством прослеживается, в частности, на уровне попытки передачи различных живописных жанров словом. В сборниках петербургского периода мы найдем поэтические пейзаж, натюрморт, портрет. Поэт пробует освоить "технику" книжной графики: одно из стихотворений называется "Заставка" — рисунок в книге, предваряющий текст, другое - "Литография", оно посвящено описанию старинной гравюры на камне. С нашей точки зрения, все перечисленные жанры вписаны у Г. Иванова в более крупную систему — так называемый "усадебный текст". Пасторальное начало проявляется прежде всего в том, что вся ранняя лирика поэта буквально пронизана ностальгией по усадьбе, тоской по ушедшей дворянской культуре. Этому есть и биографическое объяснение: Г. Иванов вырос в родовом имении Студёнки, что под Ковно, с самого детства впитал в себя тот неповторимый дух "дворянского гнезда", где со стен говорит сама история, где неспешный быт словно останавливает время, где царит Культура. "Усадебный" миф имеет давнюю историю. На русской почве он появляется в XVIII веке (поэзия Державина, Хераскова, Львова). По мысли историка литературы Е. Е. Дмитриевой, плодотворно занимающейся его изучением, помещичья усадьба занимала промежуточное положение в извечной оппозиции "город-деревня", изначально являясь "пространством культуры в естественном, природном ландшафте,... и поэтому в начале века (двадцатого - А. X.) гибель усадьбы воспринимается как гибель культуры, на смену которой приходит скифское ("городское") начало". Это особое пространство непременно ассоциировалось с Аркадией и, по сути, являлось "разновидностью мифологемы о Золотом веке" (44. С. 9-18). К концу XIX века происходит неизбежная ассимиляция усадьбы, а в начале XX века и вовсе происходит ее "отчуждение".
Ранняя лирика Г. Иванова явно находится под влиянием акмеизма; хотя она и не исчерпывается им, но ярко демонстрирует культурные приоритеты этого литературного течения. Идея сохранения Культуры в Слове вылилась у молодого поэта в создании особого "усадебного варианта пасторального топоса", ставшего структурообразующим принципом всех его ранних стихотворных циклов. Все они объединены одной ностальгической тональностью и выглядят как лирическая "прогулка" по уже не существующей усадьбе Русской Культуры (последний цикл "Сады" написан в 1922 году, когда время усадеб закончилось). В поэтической ивановской усадьбе есть и господский дом с соответствующим интерьером и предметами помещичьего быта, с картинами на старых стенах, старинными сервизами и гобеленами, и сад с беседками, скульптурами и неизменным фонтаном, и та неповторимая атмосфера Культурного прошлого, в союзе с настоящим рождающая вечность.
В помещичьем доме на стенах размещались картины, свидетельствующие о вкусе и интересах хозяина. Есть такая "галерея" и у Г. Иванова. Предпочтение в ней явно отдается западноевропейским художникам XVTI — XVIII веков. Ватто, Лоррен, Гейнсборо, Ван Дейк — эти имена названы в тексте, а есть и не названные, но незримо в тексте присутствующие — Пуссен, Фрагонар, Буше. Из русских художников встречается имя Галактионова, но прочитываются Кустодиев, Мусатов, Ларионов, Кандинский. Все эти имена объединяет пасторальный модус, в той или иной форме присутствующий в их творчестве и актуализированный Г. Ивановым в контексте собственного мировидения. Таким образом, интерпретация живописи средствами поэзии напрямую связана в ранней лирике поэта с "усадебной" символикой.
По распространенности пейзаж занимает у поэта первое место. Пейзажные экфразисы в этом плане следует отличать от лирических описаний природы, поэт передает словом уже готовую картинку, пользуется набором словесных формул, как это делает художник при копировании полотна, используя ряд цветовых сочетаний оригинала. Важным сигналом того, что перед нами именно экфрастическое описание картины с пейзажем, служит у Г. Иванова литературная или живописная аллюзия.
Подобный пейзаж мы рассмотрим на примере стихотворения "Снова снег синеет в поле..." (сб. "Лампада"), где аллюзивным планом станет зимний пейзаж А. С. Пушкина. Это великое имя сыграло колоссальную роль для искусства начала XX века, ведь по достоинству Пушкин был оценен именно тогда, имя его стало символом совершенства поэзии для всего Серебряного века и для Г. Иванова в частности, оказавшись потом спасительным для русской эмиграции, оторвавшейся от родной культурной почвы. В 1921 году А. Блок написал такие строки: Пушкин! Тайную свободу Пели мы во след тебе! Дай нам руку в непогоду, Помоги в немой борьбе! (17. С. 377)
Символика цвета у Г. Иванова (на примере сборника "Сады").
Живопись - это, прежде всего, господство цвета. Мировоззрение художника во многом можно определить по его колористическим предпочтениям, цветовым и световым решениям. Г. Иванов, тонко чувствовавший живопись и хорошо в ней разбиравшийся, демонстрирует в сборнике индивидуальный художнический почерк, оригинальную цветовую палитру, искусно сопряженную с поэтическим словом. Г. Иванов выразил идею начала XX века о новом синтезе искусств в рамках экфразиса, где живопись и лирика сольются в слове. Именно слово, став для поэта "кистью", окажется способным отразить теснейшую взаимосвязь этих видов искусств. Традиционное в культуре уподобление пера кинжалу как оружию пиита (Пушкин, Лермонтов) уступает у Г. Иванова место новой поэтической метафоре: перо - это кисть "поэта тире художника", рисующая окружающее в цвете, способная отражать малейшие колористические нюансы, то есть использующая типично живописные приемы при создании художественного образа.
Прежде чем рассмотреть специфику колорита у Г. Иванова, необходимо сделать краткий экскурс в теорию цвета. В работе известного искусствоведа Н. Н. Волкова "Цвет в живописи" (25) рассмотрены самые разные колористические концепции и выявлены важнейшие цветовые закономерности в живописи. Несмотря на явное предпочтение автором реалистической живописи перед модерном и отрицание значимости экспериментов с цветом в последнем, исследование сохраняет свою актуальность и в наши дни, особенно в теоретическом аспекте. В дальнейших рассуждениях мы будем опираться на эту монографию.
Н. Н. Волков сравнивает понимание цвета у ученых, художников, а также традиционное, исторически сложившееся в обществе представление о нем. Для науки цветоведения существует три основных цвета: красный, зеленый, и синий, что соответствует цветовым рецепторам человеческого глаза. Эта триада лежит в основе исчисления цветов, начало которому положил Ньютон. Он графически изобразил это в виде известного цветового круга с семью секторами (пресловутая "радуга"). Число семь восходило у Ньютона к пифагорейскому представлению о единых числовых законах мировых гармоний (семь тонов в музыкальной гамме пр.). Для художника этот тройной союз не так актуален, как триада красного, желтого и синего. Указанные цвета соответствуют трем краскам, из которых можно получить путем смешения наибольшее число цветов. Кроме того, существует представление о четырех основных цветах: красный, желтый, зеленый и синий. Они совершенно друг на друга не похожи, тогда как остальные похожи на один из основных. Кстати, в европейских языках именно они обозначаются словами, корни которых уходят вглубь времен. Все остальные цвета обозначаются или составными словами (желто-зеленый, сине-зеленый и т. д.), или словами, происходящими от слов, обозначающих конкретные предметы (фисташковый, лимонный, оранжевый и т. д.).
Перечисленные основные цвета относятся к так называемым хроматическим, то есть тем, которые обладают цветовым тоном. Существуют еще ахроматические цвета, соответственно, им не обладающие: белый, серый и черный.
В качестве демонстрации значимости цветовой символики у Г. Иванова рассмотрим "Сады" как наиболее зрелый и сложившийся из всех ранних сборников, тем более что он завершает петербургский период творчества поэта, играя роль своеобразного переходного "моста" в эмигрантское творчество; в нем, с нашей точки зрения, в концентрированном виде содержатся все основные особенности поэтики раннего Г. Иванова.
В "Садах" у поэта уже сложились собственные колористические предпочтения. Цветовая палитра сборника включает в себя традиционную триаду основных хроматических цветов, среди которых доминирующим является зеленый (" зеленые очи", "зеленою кровью дубов", "зелена кругом трава", "зелен ясень", "зелен клен", "блестит зеленая звезда", "на воде зеленой", "зеленое сукно"), пару раз встречается синий ( "синий рай", "сгущался в синий") и красный ("заката красный дым", "окна красны от зари"). Из ахроматических назовем черный черные ветки шумят", "на черном цоколе"), серый ("отблеск серый") и белый ("локоть белый"); их значительно меньше. Из "ньютоновского радужного круга" присутствует главным образом голубой ("к голубому раю", "за голубым голубком", "по голубым эмалевым волнам", "в голубом окне", "на чайнике, как небо, голубом"), редко желтый ("по желтому ковру"). Но богатство колорита не исчерпывается у Г. Иванова использованием общепринятых в языке "цветовых" прилагательных, он находит много других способов обозначить свою палитру. Прежде всего, это традиционные глаголы, образованные от таких прилагательных: "трава пожелтеет", "на западе желтели облака", "так же небо синело", "а вдалеке чернеют снасти" "звезда зеленеет", "там зеленел моей Гюльнары взор", а также подобные причастия: "листвой пожелтевшей играет", "с желтеющих листов".
Кроме того, словно опытный художник, поэт "разбавляет" основные цвета (в живописи это именуется "разбелкой"), что рождает множество оттенков, а выбранные им прилагательные, в свою очередь, демонстрируют богатство их выражения в слове (" зеленоватый серп", "сумрак розовый", "розовый летит голубок", "бледно-розовая пена", "из пены розоватой", "я видел желтоватую луну", "бледно-синее небо", "в синеватом вечернем дыму).
Среди редких, сложных цветов отметим оттенки красного: багровый ("закат багровый"), пурпурный ("плащом пурпуровым подбит"), лиловый ("с лиловых облаков"), малиновый ("малиновые крупные цветы"). Оттенки желтого обозначены в основном прилагательными золотой и золоченый, в данном контексте акцентируется именно цвет металла (примеры были приведены выше). Аналогичную функцию имеет прилагательное серебряный.
Г. Иванов и Жан Антуан Ватто
Во "Введении" уже указывалось, что интерес Г. Иванова к пасторали был вполне в духе времени. Первая книга его стихов под названием "Отплытье на о. Цитеру" (1912) была написана под влиянием эгофутуризма с характерным подзаголовком "Поэзы" и была выпущена в издательстве "Ego". Но, как верно заметил В. Крейд, несмотря на такой футуристический привкус, в сборнике содержались в большом количестве "мечтательные романтические элегии с осенними закатами, туманами, меланхолией", налицо "преобладание зрительных впечатлений, привязанность к поэтическим сюжетам на манер XVIII века" (68. С. 61).
Наиболее полно на сегодняшний момент сборник рассмотрен в монографии В. Крейда "Петербургский период Г. Иванова" (69). Это не комплексный анализ, а скорее попытка обозначить круг тем и интересов молодого поэта. Автор исходит из представления о серьезном влиянии акмеизма на поэтику Г. Иванова, хотя тот был "открыт" как символистам, так и футуристам. Сборник во многом еще подражателен, стихи не зрелы, неслучайно раздел монографии В. Крейда, где он рассматривается, назван "На пути к акмеизму". По свидетельству исследователя, книга включала в себя 40 стихотворений, большая часть которых была написана в 1911 году. Хотя сборник посвящен И. Северянину, а эпиграф взят из Ф. Сологуба, это было скорее "знаком восхищения и данью признания" (В. Крейд), чем сознательной ориентацией на их творчество. Н. А. Богомолов, во многом не соглашаясь с В. Крейдом из-за слишком вольного обращения последнего с материалом и излишней его доверчивости к "мистифицирующим" мемуарам Г. Иванова "Петербургские зимы", называет сборник "единственным безусловно эгофутуристическим" (20. С. 422). Научная полемика по этому вопросу стоит за гранью нашей темы, поэтому мы обращаемся к сборнику с позиции наличия в нем пасторальных традиций.
Композиционно сборник состоит из пролога, эпилога и основной части, стихотворения которой сгруппированы по тематическому принципу ("Любовное зеркало", "Клавиши природы", "Когда падают листья", "Солнце Божие"); вне разделов имеется сонет, посвященный И. Северянину. Представлена самая разнообразная палитра жанров: романс, газелла, триолет, баллада, элегия, стансы, послания. Как точно подмечено В. Крейдом, сборник оставляет ощущение "пестроты, разнородности, разноцветности" (69. С. 28).
В. Крейд уже в самом первом сборнике находит одну из важнейших особенностей поэтики Г. Иванова - обращение к "созданным уже до него человеческим образцам" (так сказал П. Громов об О. Мандельштаме, что вполне приложимо и к нашему поэту) (69. С. 28). Акмеистическая "тоска по мировой культуре" выразилась у него прежде всего в ориентации на пасторальную традицию. Своеобразие отражения ее у Г. Иванова заключается в том, что в его стихах присутствует прежде всего "живописная" пастораль: словесные описания творений художников, работавших в этом жанре, создание собственных идиллических пейзажей в их духе, вообще стремление запечатлеть мир как некую буколическую картинку.
В этом плане обращает на себя внимание прежде всего название сборника, совпадающее с названием известного полотна французского художника XVIII века Жана Антуана Ватто. Здесь следует сделать небольшой экскурс в историю возникновения у поэта интереса к живописи вообще и к Ватто в частности. Можно обнаружить несколько факторов. Прежде всего огромную роль сыграли детские впечатления от обстановки старинного дворянского дома, где он вырос. По свидетельству самого поэта, "и Ватто, и Шотландия (частая тема у Г. Иванова — А. X.) у меня из отцовского (вернее прадедовского) дома. Я родился и играл ребенком на ковре, где портрет моей прабабушки - "голубой" Левицкий висел между двух саженных ваз императорского фарфора, расписанного мотивами из "Отплытья на о. Цитеру" (из письма 11 июля 1957 года В. Ф. Маркову) (57. С. 527). Дворянский ребенок, традиционно росший в атмосфере утонченной культуры, не мог не впитать ее в себя, как говорится, "с молоком матери". Важно и то, что Г. Иванов, по словам В. Крейда, "рано увлекся живописью и рано научился понимать язык этого искусства, что (как ни парадоксально), не столь уж типичная способность у писателей" (69. С. 15). Литературное окружение молодого поэта тоже имело большой интерес к этому виду искусства, в частности, И. Северянин, привлекший Г. Иванова своей способностью к "поэтической живописи", а также М. Кузмин, который с "мирискусником" К. Сомовым "был едва ли не первозачинателем ретроспективности и стилизации как артистической моды" (69. С. 58), что впоследствии удачно переймет сам поэт.
О типологической близости представителей "Мира искусства" и мировосприятия Г. Иванова ранее уже шла речь, добавим только об интересном творческом союзе Г. Иванова с художником М. Добужинским, который оформил его вышедшую позже книгу стихов "Сады" (книжная графика как раз переживала тогда пору расцвета).
Наконец, Г. Иванов жил и творил в эпоху, переживавшую великую идею "нового синтеза искусств", впервые оформившуюся и получившую свое теоретическое обоснование у символистов (88). Идея "нового синтеза" и "новой стилизации", ставшая одной из характерных черт символизма, по - своему преломилась в различных постсимволистских течениях, акмеизм, как мы уже упоминали, интерпретировал ее как "строительство" стиха, как моделирование, архитектуру словесного творчества ("Камень" О. Мандельштама: слово как "строительный материал" поэзии).
Совокупный опыт Гейнсборо, Лоррена, Ван Дейка и Кустодиева в интерпретации Г. Иванова
Имя еще одного художника упоминается в ранних стихотворениях Г. Иванова — Томаса Гейнсборо. Искусствоведы в большинстве своем избегают говорить о его художественном методе, невозможно точно определить стиль, в котором он работал. Он считался признанным портретистом и, как часто это бывает, писал портреты на заказ и мог, вероятно, несколько уступать заказчикам в просьбах, отчего авторская заданность подвергалась некоторой корректировке. Его манера письма более тяготеет к сентиментализму и предромантизму, хотя есть и признаки рококо. Пейзаж на его картинах типично пасторальный, в английском варианте, современники даже угадывали в портретном фоне изображение реальных мест, где подолгу жил и творил художник - графство Суффолк, Ипсвич, зимний курорт Бат. По свидетельству искусствоведов, для Томаса Гейнсборо, английского художника, характерен интерес к фламандской культуре, а также к пасторальным жанровым сценкам в духе французского рококо. Он любил изображать своих персонажей на фоне идиллического пейзажа ("Чета", "Лес Корнара", "Портрет Роберта Эндрюса с женой Фрэнсис"). Очевидно, что Гейнсборо сильно привлекало французское искусство, но при этом он не стал подражателем, а наоборот, обрел собственный почерк.
Его очаровательный "Дровосек, ухаживающий за пастушкой", к примеру, показывает, что он в свое время увлекался игриво-буколическими картинами своих французских современников школы Буше, ярких представителей рокайльной живописи. "Дровосек..." и подобные ему полотна содержат скрытую иронию, соседствующую с пасторальным настроем и умиротворенностью, что было точно подмечено английским искусствоведом Леонардом Джонатаном Нортоном: "Хорошенькая пастушка одета в соблазнительное платье с глубоким декольте, напоминающее излюбленные французскими художниками наряды, которые ни одна английская мать не позволила бы надеть своей дочери для работы. И она, и красивый юный дровосек (нарубивший весьма мало дров) — готовые персонажи французских пасторалей, но все остальное на картине — это истинный Гейнсборо.... В "Дровосеке..." он добивается ощущения чудесного покоя, наступающего в конце трудового дня. Солнце склонилось уже довольно низко...Подойник пастушки полон; ей с красавцем дровосеком... сейчас перепадет немножко приятного флирта..." (103. С. 42-43).
Французское рококо повлияло на художественное мировидение Гейнсборо не только через картины его ярчайших представителей, Буше и Фрагонара, но и через живопись их старшего современника, Антуана Ватто. Таким образом, Гейнсборо оказался связан с Ватто не только в художественном мире Г. Иванова. Английский художник многому учился у своего французского коллеги. Но заимствование некоторых тем и образов было со стороны Гейнсборо творческим переосмыслением, порой тонкой пародией, освещенной мягким юмором. Например, в начале 1750-х годов художник пишет портрет Джона Плэмпина, где поза модели полностью скопирована с картины Ватто, на которой так сидит элегантно одетый аристократ, окруженный нимфами и сатиром. Однако, как нам кажется, верно угадал Леонард Дж. Нортон, "в его варианте пасторально-гривуазную сценку заменила собой панорама английской природы ... Возможно, именно необыкновенное внешнее сходство сквайра с персонажем Ватто и натолкнуло Гейнсборо на мысль использовать композицию французского мастера: молодой художник просто не устоял перед искушением подобного историко-культурного розыгрыша" (103. С. 52). Как видно, пасторальная тематика осваивается художником тоже в рамках эстетической игры, что оказывается весьма близким Г. Иванову. В конце жизни художник увлечется новым жанром "fancy pictures" ("воображаемые сцены"), где портреты персонажей поместит на фоне прекрасных английских пейзажей ("Молодой свинопас", "Жнецы", "Сборщики хвороста", "Сенокосец и спящая девушка", "У дверей хижины"). В отличие от первых подобных опытов на заре своей творческой карьеры, теперь Гейнсборо изображает в подобном антураже не изнеженных аристократов, а бедняков, одетых порой в лохмотья, но для художника остающихся милыми объектами для идеализированных пасторальных сюжетов, поэтому он и называет их "фантазиями". В них Гейнсборо, по тонкому замечанию Леонарда Дж. Нортона, "упивается откровенной сентиментальностью", показывая, что "природа поистине добрее к этим обездоленным, чем люди" (103. С. 178).