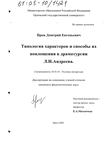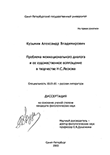Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Человек на войне и проблема исторического оптимизма в батальной прозе 12
1. К. Воробьев - известный и неизвестный. Биографический подтекст <в рассказах и повестях «Седой тополь», «Дорога в отчий дом», «Это мы, Господи!..», «Крик» 22
2. «Проклятое прошлое» как дилемма, или Что не поддается конъюнктурному толкованию литературно-критической мыслью. «Убиты под Москвой» как родословная народного подвига 60
Глава II. Личность и власть: о константах и переменных в составе лиро-эпических персонажей К. Воробьева 91
1. Диалектика героического и антигероического как моделирующая система в повести «Друг мой Момич», «Сказании о моем ровеснике», рассказах «Ермак», «Синель» 94
2. Героическая аскетика и проект освобождения Подвига в повестях «Вот пришел великан», «Генка, брат мой» («Записки таксиста»), рассказах о детях 137
3. Трагический парадокс: праведное прошлое в роли праведного предстоящего. Кровное и завоеванное перед испытанием будущим 166
в повестях «Почем в Ракитном радости», «... И всему роду твоему»
Заключение 204
Библиография 212
- К. Воробьев - известный и неизвестный. Биографический подтекст <в рассказах и повестях «Седой тополь», «Дорога в отчий дом», «Это мы, Господи!..», «Крик»
- «Проклятое прошлое» как дилемма, или Что не поддается конъюнктурному толкованию литературно-критической мыслью. «Убиты под Москвой» как родословная народного подвига
- Диалектика героического и антигероического как моделирующая система в повести «Друг мой Момич», «Сказании о моем ровеснике», рассказах «Ермак», «Синель»
- Героическая аскетика и проект освобождения Подвига в повестях «Вот пришел великан», «Генка, брат мой» («Записки таксиста»), рассказах о детях
Введение к работе
В последнее время в российской печати наконец стала возможной публикация многих произведений ранее запрещенных или замалчиваемых художников слова. В духовную жизнь общества возвращаются незаслуженно забытые имена XX столетия, творения, намеренное умолчание о которых не лучшим образом повлияло на развитие отечественной гуманитарной мысли.
j В числе «возвращенных» и один из значительных представителей литера-
турного процесса послевоенных лет Константин Дмитриевич Воробьев (1919-
1975). Творческое наследие и жизненная судьба этой выдающейся личности вы
зывают сейчас возрастающий интерес. Весомым вкладом в признание писатель
ских заслуг стало присуждение К. Воробьеву в 2001-ом году, спустя четверть ве
ка после смерти автора, литературной премии А.И. Солженицына. О К. Воробье
ве заговорили как о большом таланте, бесстрашном и кристально честном ху-
дожнике и мыслителе. Начинается осознание того, как отсутствие этого голоса в
русской культуре губительно отразилось на нашем миропонимании. Жизнь писателя, полная трагизма, незаурядного мужества и творческого горения, дала ему право на народное признание и активное бытование в мире русской словесности, опирающейся на национальные традиции.
Судьба К. Воробьева красноречиво выразила типичную участь русских опальных мастеров художественного слова. Вспоминаются слова А. Левинсона,
(V сказанные более восьмидесяти лет назад о Н. Гумилеве: русский художник сло-
ва «должен сперва заклеймить своей смертью режим, убивающий поэтов. Тогда сподобится он венца мученического. Но пока в нем теплится жизнь, ничего, ни слова любви, уважения, простой памяти <...> Мы... торжественно, мы истово хороним мертвых поэтов наших, но нам слишком мало дела до живых» (63, 218).
Гражданские, нравственные, эстетические взгляды писателя, основанные на чувстве истинной любви к родной земле и ее народу, уважении к человеку и бескомпромиссной откровенности созданных страниц, шли вразрез с «незыбле-
мыми» догмами тоталитаризма. «Ни среднее, ни малое, что я написал, не лезет»; «...рык и брань сплошь. И не то чтобы я не понимал сути этой брани, не ведал истины за брехней, но сердце-то незащищенное!. Вот дело-то какое»; «...печатать меня не желают. Никто. Ничего. Вертают назад, не вскрывая пакета»; «... было горько и трудно жить, потому что дома я постоянно встречаю враждебность и хулу. Пакеты мои неизменно возвращаются назад, и все надо и надо не ожесточаться, не падать, чтобы уже не вставать. Это все тяжко. Однажды - давно - я предпринял попытку издаться в Совписе, но какой-то Гринберг, извините за невольную надменность мою, так страшно и бесстыдно надругался над телом моей Руси в моих отвергнутых рукописях, что я искренне жалел о том, что слишком поздно родился и не могу поставить его к барьеру!» (52, 300-328). Подобные признания в воробьевской переписке не редкость, но еще чаще встречаются щемящие душу слова убежденности в праведности избранного пути.
Ровесник Октябрьской революции, К. Воробьев оказался лично вовлеченным в самые драматические события советской эпохи. Трагедия германской и гражданской войн отразилась на обстоятельствах его рождения (будущий писатель появился на свет во время пятилетнего безвестного отсутствия воевавшего главы семьи от белого офицера Письменова, был воспитан возвратившимся отчимом как родной ребенок, но так никогда и не избавился от внутреннего чувства сиротства). Детство и юность «чистого мальчика» оказались «обворованными» машиной тоталитаризма (в подростковом возрасте К. Воробьев стал свидетелем уничтожения деревни: ее грабительского раскулачивания, голодного мора, разрушения церквей, массовых репрессий). Кремлевским курсантом он на себе испытал неудачи начала Великой Отечественной войны (в 1941 году в боях за оборону Москвы К. Воробьев был контужен и захвачен в фашистский плен, а после героического побега из концлагеря возглавлял партизанскую группу). После победы писатель чудом избежал «своих» лагерей - участи большинства освобожденных военнопленных, - однако клеймо «политически незрелый писатель, бывший в плену», сопровождало его, по сути, до самой смерти.
Оказавшись очевидцем стольких народных бед, К. Воробьев счел своим долгом внести свой вклад в осмысление этого опыта современниками и передать это знание будущим поколениям. Отсюда и нечастое в литературе тех лет чувство писательской ответственности за каждую строчку своих книг - художественных летописей советской эпохи. Все наследие К. Воробьева можно назвать «сказанием о моем ровеснике»: автор считал себя вправе писать лишь о лично увиденном, прочувствованном и осмысленном. Творческие идеалы К. Воробьева нашли отражение в строках из его письма В.П. Астафьеву от 28.01.64: «... Вы человек богатый и щедрый сердцем. И очень русский Вы, что в наше отчаянное время - великое достояние! Мне известно, что жить и писать с этим чрезвычайно трудно, но Вы ведь знаете, что иначе нельзя, не стоит писать, а стало быть, жить. Черт с ними, с этой бандой верхушествующих в нашей литературе, всегда певших аллилуйю тому, кому надо было петь анафему, продававшихся оптом и в розницу за мишуру. Мы нищи хлебом, но зато «в моей душе лежит сокровище, и ключ поручен только мне», как сказал Блок» (52,305).
Трудности с печатью и пожизненная травля со стороны официозной критики все же не смогли задушить воробьевское слово и помешать рождению - и возрождению - его мастерской прозы. Лучшие книги писателя, пронизанные беззаветной любовью к родному народу и болью за его израненную террористической властью душу - веру, традиции, национальные идеалы нравственности, - стали примерами истинной гражданственности, справедливости, человеколюбия, уроками того, что сам К. Воробьев определил как «чувство родства и близости», без сохранения которого тщетны любые попытки духовного оздоровления нации.
Опыт изучения. Редкие публикации воробьевских книг при жизни автора (по данным В. Смирнова, вето на упоминание имени К. Воробьева в печати наложил сам М. Суслов), скудное количество рецензий или их разгромный характер (в дело травли К. Воробьева особый вклад внесли Г. Бровман, Г. Краснов, М. Синельников, И. Кузьмичев, И. Герасимов, В. Севрук, А. Киреева и др.) не могли не отразиться на судьбе писательского наследия. Как выразилась
В. Воробьева, имя автора «было занесено в список тех, кого не велено упоминать в прессе, кому суждено пережить погребение своего имени при жизни» (56,
(4 431).
О прозе К. Воробьева долгое время даже вскользь не говорилось в литературоведческих и критических работах, посвященных «литературе лейтенантов» и так называемой «деревенской прозе», хотя писатель является одним из зачинателей первого названного течения и идейно родственен второму. Скупая информация чаще всего носила ярко выраженный идеологический характер.
* Стремление понять сущность воробьевских книг и неискаженной донести ее до
читателя в 60-х - 70-х годах было присуще немногочисленным работам С. Воронина, В. Астафьева, Ю. Бондарева, И. Дедкова, Ю. Томашевского, литовским рецензентам П. Гельбаку, К. Амбрасасу, Г. Кановичу и др.
И все же прав был К. Воробьев, когда писал единомышленникам: «... как известно, не все рукописи горят», и это «хорошо, хоть и грустно оттого, что «все наше будет после нас...» (51, 350). Вслед за историческими переменами 80-х имя писателя стало возвращаться в культурный обиход страны. В периодической печати стали появляться статьи, авторы которых пытаются услышать воробьевское слово без идеологических «помех» (работы И. Золотусского, В. Астафьева, И. Дедкова, Н. Кузина, А. Кедровского, Л. Лавлинского, Л. Малкина, Е. Носова, П. Сальникова, Н. Сосниной, Ю. Томашевского, С. Федякина, В. Чалмаева, М. Шевченко и др.).
Творчеству К. Воробьева в его различных аспектах было посвящено и не-сколько диссертационных исследований. Эпизодические обращения к имени писателя, в различной степени отвечающие требованиям советской цензуры, встречаются в ряде диссертационных исследований 60-х - 70-х (В.Н. Севрук. Проблема гуманизма в современной советской прозе о Великой Отечественной войне. — М, 1967; Г.А. Баронова. Современный советский роман о Великой Отечественной войне: некоторые закономерности развития. - М., 1975; СИ. Журавлев.
^ Идейно-нравственные проблемы и художественное своеобразие современной со-
7 ветской прозы о Великой Отечественной войне (Ю. Бондарев, В. Быков). - М.,
1977 и др.).
В нескольких диссертационных исследованиях последних десятилетий наследие писателя рассматривается с новых позиций. По нашим сведениям, на данный момент существует только две диссертации, посвященные исключительно воробьевской прозе (И.В. Петракова (Соколова). Творчество К. Воробьева (Эволюция. Проблематика. Герой). — Л., 1986; Н.Н. Золототрубова. Нравственные аспекты войны и мира в прозе К. Воробьева. - Воронеж, 1995).
Большой вклад в изучение военной прозы писателя сделан в диссертационных исследованиях В.Д. Мирюшкина и М.В. Кульгавчук (В.Д. Мирюшкин. Нравственно-психологические аспекты современной советской прозы о Великой Отечественной войне (К. Воробьев, Ю. Пиляр, В. Семин). - М., 1990; М.В. Кульгавчук. Проза К. Воробьева и В. Семина в контексте литературного процесса (к проблеме авторской позиции). - М., 1990). Рассмотрение воробьевской повести о коллективизации «Друг мой Момич» является важным звеном докторской диссертации В.Т. Сосновского (В.Т. Сосновский. Постмодернизм и традиция: опыт монистического взгляда на литературно-культурологический процесс в преддверии третьего тысячелетия (слово и текст в динамике времени и в контексте континуальных дискуссионных проблем отечественной литературы 1980-1990-х годов). - Краснодар, 1999). На роль серьезного научного исследования, по нашему мнению, претендует щемяще-поэтичный и в то же время аналитический биографический очерк жены писателя В.В. Воробьевой «Розовый конь».
Остается малоизученным огромный пласт воробьевской прозы, одной из центральный проблем которой является, на наш взгляд, проблема взаимоотношений человека и времени, понимаемом и как эпоха («длительный промежуток времени, выделяемый по какому-нибудь характерному явлению, событию»), и как история («прошлое, сохраняющееся в памяти человечества», в его взаимосвязи с настоящим и будущим) (138; 809,229).
8
Материалом исследования являются повести, рассказы, очерки, днев
ники и записные книжки К. Воробьева, а также произведения многих отечест-
4і венных авторов XX столетия, рассмотрение которых позволяет глубже понять
место воробьевской прозы в литературном процессе 50-х - 70-х и русской словесности в целом. При исследовании военных повестей писателя мы обращались к творчеству В. Астафьева, М. Алексеева, Г. Бакланова, В.Богомолова, Ю. Бондарева, В. Кондратьева, Е. Носова, Н. Сапфирова, В.Семина,
A. Толстого, М. Шолохова. Для осознания значения «деревенских» повестей
'* К. Воробьева проводятся параллели между ними и произведениями А. Доро-
гойченко, А. Неверова (Скобелева), Ф. Абрамова, В. Белова, С. Залыгина, Б. Можаева, А. Твардовского, М. Шолохова и др. Прослеживаются связи во-робьевских книг с мифологией, фольклором и классической литературой - наследием Л. Толстого, Л. Андреева, Г. Ибсена, М.Сервантеса, С. Есенина,
B. Маяковского и др.
Предметом исследования является решение темы взаимоотношений личности и времени в повестях и рассказах К. Воробьева и способы ее художественного воплощения.
Целью диссертационного исследования стало выявление характера взаимоотношений человека с его прошлым, настоящим и будущим в художественном мире К. Воробьева, изучение путей художественного воплощения авторского замысла.
Из этого вытекают следующие задачи диссертационной работы:
выявить специфику воробьевского изображения человека в условиях Великой Отечественной войны;
рассмотреть авторскую позицию в вопросах взаимоотношений личности и власти в периоды гражданской войны, коллективизации, Великой Отечественной войны и первых послевоенных десятилетий;
проследить, как в прозе К. Воробьева осмысливается влияние тотали-iff тарной эпохи на судьбы нескольких поколений советских людей;
осмыслить концепцию личности в воробьевском творчестве;
рассмотреть пути художественной реализации темы «человек и время» в прозе К. Воробьева;
осмыслить специфику произведений писателя и их место в литературном процессе;
предложить собственные интерпретации ряда воробьевских произведений.
В качестве ведущих методов исследования были избраны культурно-исторический и сравнительно-типологический.
Теоретико-методологическая база исследования основана на литературоведческих идеях М. Бахтина, И. Волкова, В. Кожинова, Д. Лихачева, Л. Тимофеева и др.
Основные положения, выносимые на защиту:
Взаимоотношения человека со временем в воробьевской прозе обусловлены характером государственного устройства, общественными ценностями, воспитанием и жизненным опытом личности. Установившийся с приходом Советской власти тоталитарный режим путем разрушения традиций и насильственных методов управления способствовал уничтожению личности, характеризуемой писателем через понятия ответственности, свободы воли, поступка и саморазвития, а также через связь с нравственными нормами православной культуры.
Жестоким испытанием воспитанного Советской властью человека стала Великая Отечественная война с такими ее явлениями, как отступление, окружение, плен. Исторически правдиво раскрытая писателем сущность этих событий оборачивается разоблачением преступной роли государства в неудачах первых военных лет. Специфика проблематики и способов ее художественной реализации ставит К. Воробьева в ряд основателей «лейтенантской прозы».
Отнесение первопричин военных катастроф к периоду становления советской системы, годам гражданской войны и коллективизации породило произведения, в которых автор одним из первых в литературном процессе 50-х
- 70-х убедительно изобразил данные события как разбой и насилие новой власти по отношению к своему народу. С утратой традиционных нравственных ценностей, по убеждению К. Воробьева, народ перерождается в основанный на идеологических установках коллектив, исключающий и полноценное «я», и «соборное» «мы».
4. Лейтмотивом воробьевской прозы оказывается мысль о том, что заб-вение духовных основ прошлого, физическое устранение носителей лучших черт национального характера и другие проявления тоталитарного режима ведут к прогрессирующему явлению социального сиротства, накладывающему свой отпечаток на каждое новое поколение советских людей. В результате коррозии подвергаются все сферы человеческой жизни - социальная, нравственно-психологическая, интимная и др. Продолжение данной линии общественного развития, по убеждению К. Воробьева, грозит вырождением человека как носителя духовности.
Научная новизна исследования базируются на недооценке творчества К. Воробьева в критике и состоят в деидеологизации отношения к писательскому наследию, рассмотрении соотнесенности авторского взгляда на личность и время с общечеловеческими и православными нравственными ценностями, осмыслении малоизученных аспектов воробьевской прозы, некоторой переоценке значения его творчества в литературной жизни и в попытке дать новые интерпретации некоторых произведений писателя.
Теоретическая значимость. В диссертации рассматриваются основные черты концепции личности в произведениях К. Воробьева. Впервые ее содержательные аспекты обусловлены эстетикой православной культуры. Более точно определяется место воробьевской прозы в литературном процессе 50-х - 70-х годов.
Практическое значение работы заключается в возможности ее использования в курсах лекций «История русской литературы XX века», «Теория литературы», в формировании тематики спецкурсов, спецсеминаров, научно-исследовательских работ студентов, проведении занятий в общеобразователь-
ных учебных заведениях, а также в качестве комментариев к печатным изданиям сочинений К. Воробьева.
Апробация исследования проводилась на региональных научных конференциях и на заседаниях кафедры литературы и методики ее преподавания Армавирского государственного педагогического института. Результаты исследования использовались на занятиях по курсу «История русской литературы XX века» и на уроках в старших классах средней школы. По теме диссертационной работы опубликовано 5 статей и материалы.
Структура диссертационной работы представлена «Введением», двумя главами («Человек на войне» и «Проблема взаимоотношений личности и власти в прозе К. Воробьева»), «Заключением», «Библиографией», включающей 207 наименований. Общий объем диссертации - 226 страниц.
К. Воробьев - известный и неизвестный. Биографический подтекст <в рассказах и повестях «Седой тополь», «Дорога в отчий дом», «Это мы, Господи!..», «Крик»
Каждое воробьевское произведение требует дословного прочтения, особенно потому, что автор не приемлет «... позора отступничества, позора замалчивания правды... отчего интонация его прозы часто срывается на крик, граничит с криком. Крик - это громкий голос, освободившийся голос. Это право в полную силу говорить все обо всем» (86, 22).
Одним из первых произведений К. Воробьева подобного рода стала повесть «Крик», написанная и впервые опубликованная в 1961 году. Письма автора свидетельствуют, что эта повесть давалась ему трудно и требовала своего продолжения, о чем он писал С.А. Воронину 26.08.66: «Буду продолжать «Крик». Проведу Сергея Воронова по всем кругам войны, плена, «послеплена» -до 53 года. Там точку поставлю, огляжу содеянное и скажу - «хорошо!» (52, 274). В письме писателя Ю.В. Томашевскому от 15.08.71 есть строки: «... я сажусь за роман «Крик»... (52, 336). Но в процессе работы автор решил оставить «Крик» небольшой повестью с финалом, в котором разведка боем заканчивается для Воронова пленом. В архивах сохранился вариант продолжения произведения, где главный герой, теперь уже унтер-офицер, «украйнерхундертшафт» Климов (ранее центральный образ с этой фамилией и сходной судьбой встречается в рассказах 1948 года «Дорога в отчий дом» и «Седой тополь»), продолжает борьбу в плену вместе с сообщниками и терзается сомнениями по поводу правильности своего выбора между самоубийством - ради собственной чести -и неприемлемой сталинской властью борьбой в плену - во имя родины (См. 52, 244-250).
Оба варианта повести подчинены единой главной цели: правдиво, а не согласно партийным установкам, отобразить события 1941-45 годов. В.В. Воробьева, жена писателя, вспоминала, что Константин Дмитриевич «... приходил в ярость от мысли, что ... тенденция поэтизировать, идеализировать, наконец, фальсифицировать события стала главенствующей, страница истории стала легендой; что Сталин, бросив безоружных людей под немецкие танки в первые дни войны, назвал их предателями и оставшихся в живых после плена истребил в своих лагерях; что солдаты были поставлены в нечеловеческие условия...» (56, 427).
Подобно большинству произведений Воробьева, повесть «Крик» в своей основе автобиографична, что свойственно и всей «лейтенантской прозе», а образ Сергея Воронова максимально близок его создателю. Как верно отмечалось в критике, главные воробьевские герои - «один психологический тип, кровно родственный самому автору» (Л. Лавлинский (113, 170)), более того, центральный образ «не только автобиографичен, но и автопсихологичен, что является одним из способов выражения авторской позиции» (И.В. Петракова (145, 55)). К числу таких образов можно отнести и второстепенного героя «Крика» сержанта Васюкова, отличающегося от Воронова лишь большей импульсивностью и неосторожностью. Подобно персонажам своих книг, К.Воробьев был на фронте с первых дней войны, перенес муки плена в шести лагерях (клинском, ржевском, смоленском, каунасском, саласпилсском, паневежисском), откуда дважды бежал, но лишь 24 сентября 1942 года - в день своего двадцатитрехлетия - удачно, после чего возглавил отдельную партизанскую группу отряда «Кестутис» в Литве.
В повести много и других автобиографических моментов: главный герой Воронов носит фамилию друга писателя в шауляйском лагере для военнопленных Ивана Воронова, кроме этого, явственно ощутимо фонетическое и этимологическое сходство в паре «Воронов-Воробьев». Название повести, по воспоминаниям В. Воробьевой, помимо глубинного смысла, имеет и фактическую основу: Константину Дмитриевичу запал в душу крик незнакомой девушки, подорвавшейся на мине в подмосковной деревне, где стояла его рота (позже это воспоминание будет развито в один из самых психологически мощных эпизодов «Крика» - описание гибели Маринки).
Произведение написано от первого лица, в настоящем времени, что позволяет автору предельно слиться со своим героем, уничтожить способную все затуманить и исказить временную дистанцию, дать читателю возможность услышать саму войну, а не одинокий голос писателя. Основным выразителем авторских идей является главный герой повести Сергей Воронов, двадцати одного года, лейтенант, несколько дней командующий вторым взводом третьей роты 418 стрелкового батальона. В начале произведения его отношение к присвоенному званию - всеохватное чувство гордости за новые кубари, оно еще не несет в себе осознания тяжести своей командирской ответственности: «Встречая бойца из чужого взвода, я шагов за десять от него готовил правую руку для ответного приветствия, и, если он почему-либо не козырял мне, я окликал его радостно-гневным: «Вы что, товарищ боец, не видите?» До начала боевых действий лейтенант внутренне зависим от комбата майора Калача: Воронов слово в слово повторяет своему помощнику и другу Васюкову фразу майора о том, что отсюда батальон не уйдет; перед Маринкой герой «покачивался с носков на каблуки сапог, как... Калач». И все же вполне обоснованно недоверие майора к лейтенанту, вызванное многими причинами: личной неприязнью к цельности и жизнелюбию Воронова, докладами стукача-комсомольца Крылова. Опала начинается с того, как Калач услышал, каким «дурацким бездумным смехом» лейтенант отреагировал на его прозвище. Без разрешения комбата Воронов изъял и выдал своему замерзавшему взводу валенки из сельского склада. Главный герой недопустимо безответственно, с точки зрения партийной морали, отнесся к своему верующему подчиненному: «Еще в Мытищах Крылов доложил мне, что Пере-мот верующий, крестик носит латунный.
«Проклятое прошлое» как дилемма, или Что не поддается конъюнктурному толкованию литературно-критической мыслью. «Убиты под Москвой» как родословная народного подвига
Отчаянное положение советских войск в первые месяцы войны наиболее полно отражено в воробьевской повести «Убиты под Москвой». Она создава- лась в 1961 году, еще до написания «Крика», однако была отвергнута журналом «Нева» и опубликована лишь в 1963 году во втором номере «Нового мира» по настоянию А.Т. Твардовского, ответившего автору: «Вы сказали несколько новых слов о войне. Повесть мы решили печатать» (196, 6). К. Воробьев так вспоминал эту встречу: «Я тогда позорно сконфузился. Я заплакал, стыдясь и пытаясь спрятать глаза от Твардовского. Александр Трифонович молчал, глядя мимо меня в окно, - давал мне возможность, как я понимаю сейчас, привести себя в порядок, но тогда мне почему-то подумалось, что он уважает мои слезы, раз молчит, и от этого они были горше и отрадней» (Цит. по: 179, 36).
Волнение писателя понятно: он писал о пережитых им страшных событиях, писал честно, и теперь эта правда получила возможность стать достоянием читателя. Однако в письме В.П. Астафьеву от 22.05.64 автор заметил: «Жаль, что «Убитых под Москвой» ты читал в журнале, там до черта было купюр, в сборнике же это полнее».
Совершенно очевидно, что произведение «Убиты под Москвой» является продолжением написанной в 1960 году повести «Сказание о моем ровеснике» (первоначальное название - «Алексей, сын Алексея»): об этом свидетельствуют и переписка автора, и содержание произведений. Известно также о существовании так и не реализовавшихся планов продолжения этих повестей: «Я еще буду писать третью и четвертую части, и буду их писать так, как хочу я. Но я не уверен, что будут они, так сказать, своевременны. А мне буквально нечем жить» (К. Воробьев - С.А. Воронину. 20.10.61.) (52,264).
Основным связующим элементом «Сказания» и «Убитых» является образ Алексея Ястребова, но и во второй части идейно важное место занимают дорогие его сердцу дед Матвей, Шелковка, Бешеная лощина. С содержательной точки зрения оба произведения могут восприниматься самостоятельно, однако без рассказа об Алешкином детстве нельзя проследить истоки его характера и поступков. Объяснение есть в заключительных строках «Сказания»: «Потом, годами позже, Алешка понял, что в жизни нельзя уйти куда-нибудь всему разом, потому что тогда не с чем будет жить памяти. Видно, поэтому позади у него остался грустный неуют двора ... таинственная Бешеная лощина, горячий лепет Любача... Все-все это, лополам с живой памятью о деде, осталась там, где ему и положено быть, и, причудливо тесно вместившись в Алешкино сердце, навсегда стало для него тем, что люди извечно называют любовью к Родине» (50, 94).
Жестокой проверкой этого чувства станет исполнение Ястребовым воинского долга в годы Великой Отечественной, точнее - в ее первые, самые «безнадежные» месяцы. Изображенные в повести «Убиты под Москвой» события относятся к ноябрю 1941 года, периоду напряженной и драматичной обороны Москвы: к середине октября немцы были в 80 км от столицы, к концу месяца - в 50 км, в начале ноября в отдельных точках - в 20 км. По словам В. Воробьевой, многие эпизоды и персонажи произведения являются автобиографичными. Писатель с болью «... вспоминал, какими беспомощными они оказались в схватке с немцами. Как победно немецкие танки давили наших солдат, играючи, легко и уверенно ... с чувством ненависти вспоминал отечественные заградотряды, тоже вооруженные немецкими автоматами и так же браво готовые послать пули в головы тех, кто под натиском дьявольской немецкой силы нарушали закон Сталина «Ни шагу назад». Летом обо всем этом он напишет в повести «Убиты под Москвой» (56,367).
Работа над произведением, как всегда у Воробьева, шла с большой тратой душевных сил: «Уха без соли» опротивела, - признавался он в письме Ю.В. Томашевскому от 21.11.70, - хотя в свое время мне так же представлялись «Убитые»... Может, это оттого, что я всегда был вынужден говорить на бумаге 40 из 100? Возможно» (52, 333).
Трудно представить, что же довелось пережить писателю, если содержанием его ошеломляюще трагичной книги стали лишь «40 из 100». В ней даются ответы на многие вопросы о войне, сама постановка которых даже в хрущевскую эпоху казалось немыслимой. Вина сталинской политики в неблагоприятном развитии событий на фронте убедительно проявилась в катастрофической нехватке вооружения, проблеме кадрового состава командиров, психологиче- ской неподготовленности войск, деморализующей деятельности НКВД. Конечно же, эти рассуждения Воробьева оказались «опасной крамолой». Война в на f чальный период, глазами писателя, - не величественное сражение, а кровавая
бойня. По-видимому, не случаен был первоначальный трагический вариант финала повести, посланный в редакцию «Невы». Позже в письме редактору журнала С.А. Воронину от 20.10.61 писатель заметит: «... концовка во второй части, то есть в «Убитых под Москвой», может быть иной: герой, Алексей, жив и идет из окружения» (52, 265).
Диалектика героического и антигероического как моделирующая система в повести «Друг мой Момич», «Сказании о моем ровеснике», рассказах «Ермак», «Синель»
В прозе К. Воробьева тема коллективизации впервые звучит уже в про изведениях середины 50-х - в рассказах «Синель» и «Ермак». Своеобразие их во многом обусловлено тем, что трагические события воспринимаются еще совсем юными людьми (далее эта особенность станет основополагающей и в посвященных теме коллективизации воробьевских повестях). В названных рассказах писатель в новом ракурсе рассматривает судьбу своего поколения, рожденного революцией и выкошенного Великой Отечественной. Эти дети, не имевшие возможности сравнить жизнь до и после 1917 года, относятся к новой власти как к любому другому явлению окружающего мира. Их оценка происходящего является самой непосредственной и честной, а растущая зависимость от надуманных идеологических догм показывает мощь тлетворного влияния системы, пытавшейся любыми путями обратить этих «естественных людей» в своих бездумных рабов.
В этом аспекте примечателен рассказ 1955 года «Синель», отвергнутый несколькими журналами и издательством «Советский писатель». Приложен yi ные к возвращённой рукописи рецензии поражают своей противоречивостью: «...все в рассказе искусственно, сентиментально, подчас до приторности. Язык на том же уровне...» (В.Н. Матов, 23.09.57). «Рассказ обладает всеми литературными достоинствами, чтобы найти своё место в каком-либо журнале. Но журнал наш «малолитражный», а материала, ожидающего очереди, накопилось столько...» (Цит. по: 43, 236). Очевидно, что гнев первого рецензента и вежливый отказ второго были вызваны несоответствием произведения цензурным требованиям, тем более что ни в одном из журналов оно так и не появилось.
Кульминацией рассказа становится разрыв отношений повествователя Сергея с подругой детства Дашей-Синелью - разрыв, вызванный различием в степени осознания ими сущности советской системы. Падчерица раскулаченного, Синель многие годы носила на себе проклятье клейма «теоретическая кулачка», что и заставило ее скрыть этот факт биографии при поступлении в удаленный от родного хутора институт. Разыскавший там свою первую любовь Сергей, в силу своей бедности не сталкивавшийся лично с методами нового строя и свято веривший в его законность и справедливость, был шокирован ее опасениями: « - Дура! - придумал я наконец определение ее поступку. — Дура! Ты придумала себе боязнь - груз виноватых! Тебе нечего скрывать. На тебя не должно падать никакой тени никакого подозрения! Завтра же напиши заявление в комитет комсомола... Ты не должна жить с этим! Ты чистая!..» Пытаясь убедить друга в том, что главное - ощущение собственной невиновности и вера в это со стороны близких людей, девушка напоминает рассказчику о школьном случае с «украденным» им карандашом, когда никто, кроме Даши, не верил в бескорыстность его поступка. Однако незаметно сформировавшиеся взгляды Сергея оказались иными: после просмотра фильма о расправе белогвардейцев над красными матросами юноша бросил: « - ... и отец Штыхно, которого мы вчера исключали из комсомола, делал то же самое, когда служил у Врангеля! Завтра соберемся всем курсом и потребуем исключения его из института!» (52, 138).
Столкнувшись с новой стороной характера Сергея, Синель с недетской прозорливостью понимает, что только связующие их многие годы дружба и влюбленность делают ее в глазах юноши исключением из ряда социально опас- ных и чуждых родному государству элементов, что ее верный друг как-то исподволь становится одним из его «винтиков».
Остается неясным, насколько изменилось мировоззрение рассказчика после внезапного отъезда героини, объясненного ее дядей словами: « - Выкорчевываешь? Ну, давай, давай», но, судя по его дальнейшим действиям, что-то с ним все-таки произошло: «...так оборвалась пестрая сказка моего детства и юности: я бросил институт, уехал на Дальний Восток и поступил там в военно-морское училище...» (52, 140).
Своеобразный эпилог рассказа, повествующий о встрече персонажей восемнадцать лет спустя (композиционная особенность, характерная для многих произведений К. Воробьева), может показаться лишним, но выражает писательскую идею о примиряющем и, что еще важнее, обнажающем подводные течения прошлого влиянии времени. Годы смыли с поседевших героев инородные, противоестественные для них обиды и непонимание, оставив то, что было в их отношениях единственно значимым и истинным.
В рассказе «Ермак» (1955) история раскулачивания, очевидцем которой стал тогдашний школьник Петр Выходов, заканчивается изображением того, как спустя десять лет под влиянием настоящей общенародной беды бывшие враги - председатель колхоза Никифор Хомутов и раскулаченный им «зажиточный» крестьянин по прозвищу Ермак - оказываются в одном строю. В годы коллективизации их классовая вражда казалась непримиримой, подогреваемая соперничеством за любовь матери Петра, непризнанного сына Ермака.
Героическая аскетика и проект освобождения Подвига в повестях «Вот пришел великан», «Генка, брат мой» («Записки таксиста»), рассказах о детях
На фоне предыдущих произведений К. Воробьева неожиданное впечатление производит повесть «Вот пришел великан», задуманная автором в 1967 году и опубликованная в 1971-ом. Нетипичным для писателя стал выбор сюжетной основы произведения, представляющей собой сложные взаимоотношения внутри банального, на первый взгляд, любовного треугольника. Как объясняет В. Воробьева, для автора, известного своим тяготением к военной и социально-исторической тематике, это «был вызов себе — столько уже этих треугольников в литературе - рискованный» (56, 457-458). В тревожной «неуверенности, что это что-то похожее на мое», К. Воробьев признавался и в письме" Н. Фоминой от 02.02.1970 (52, 321).
Однако и в новой повести социальный аспект не уступает по значимости любовной линии. В период создания произведения К. Воробьев «говорил, что ему хочется написать о том, что в нашем обществе все достойное, благородное, честное, искреннее - будь то дружба, любовь, собственное мнение о жизни, индивидуальное поведение по законам чести и совести - обречено на неминуемую гибель. Что между людьми отношения строятся так, что все помогают немед-, ленно избавиться от «инородного тела», от тех чувств, мыслей, поступков человека, которые не сочетаются с «нашей» моралью» (56,457).
Сопровождавшие писателя на протяжении всего времени создания повести сомнения и неудовлетворенность во многом были вызваны оправдавшимся затем страхом перед разрушительной силой цензуры. В воробьевском дневнике есть строки: «И вот я закончил эту повесть. И вижу, что в нее вошло 60 процентов того, что у меня было ... я все боялся, что все не опубликуют...» (51, 461). И действительно, в произведении, напечатанном в 9 и 10 номерах «Нашего современника» за 1971 год (в том же году повесть вышла в Вильнюсе отдельным изданием), на поверхности «...остался один голенький и довольно подленький адюльтер, а все прочее, ради чего писалась эта штука, похерено. Произошло это без моего участия: откровенно говоря, я в тот раз не оценил способность нюха ребят из журнала на все подстрочное и дал согласие на урез .. . А когда прочел гранки, то душа моя уязвлена стала», - сетует автор в письме Ю.В. Томашевскому от 02.08.1971 (52, 337). Разочарование, связанное с «урезанием» повести, звучит и в другом послании тому же респонденту от 07.01.1972: «Великаном» же я недоволен сам. Мне ведь хотелось провести там мысль, что не стало личности, индивидуальности, что велик и подл страх личной смерти ... Но все это выпало. Книга должна была выйти, чтобы тоже жрать, мне и Сереге» (52, 338).
Прозвучавшая в этих строках идея повести еще более категорично выражена на страницах дневника писателя: «Не стало личности, индивидуальности. Страх личной смерти, неспособность на подвиг и жертву, готовность на любую обиду, - лишь бы жить, читать газеты и совокупляться. Таким обществом легко руководить: делай что хочешь, грабь, режь, жги, торгуй родиной, только дай жрать и радио. Такие подлые твари, что заселили сейчас Россию, не способны на избавление от рабства» (51,466).
Раскрытие этой социально-нравственной проблематики через любовные переживания главных героев придало повести ту специфичность, которая и поныне не позволяет дать произведению однозначную оценку. Критика 70-х отозвалась о «Великане» в большинстве своем резко негативно. Особым пафосом отличалась рецензия А. Киреевой «Великан в короткой курточке», появившаяся в мартовском номере журнала «В мире книг» и обнаружившая некомпетентность критикессы, не уловившей связи воробьевской повести с притчей Л. Андреева «Великан». Однако были и немногочисленные теплые отзывы критики (в частности, в журнале «Звезда» за 1972 год), и поддержка со стороны читателей, ответивших на книгу письмами с выражением благодарности и сочувствия «исповедовавшемуся» писателю.
Сложность повести заключается в том, что в зависимости от угла рассмотрения и нравственных принципов читателя ее можно воспринять и как довольно пошлую историю преступной любовной связи, и как повествование о «неизбежном конце любых земных горений», и как драму «лишних» для современного общества одиночек, их «романтический бунт во имя несбыточных грез». По воспоминаниям Л. Малкина, К. Воробьев не раз повторял, что «...у каждой вещи столько ракурсов, сколько человек ее разглядывает. Дай эту тему ста писателям, и они напишут сто разных рассказов» (118, 281). Это особенно относится к теме любовных отношений, теме интимной и потому требующей для своего решения и восприятия максимума духовной культуры и такта.