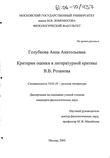Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Бытие под спудом быта (Типология персонажей)
1. У истоков современной «женской темы» (Н.Баранская и ее повесть «Неделя как неделя») 27
2. Повесть «Время ночь» как художественное кредо Л.Петрушевской .. 38
3. «Женский круг» в произведениях В.Токаревой 48
4. Споры о быте и бытии в литературной критике 58
Глава II. В поисках нового художественного языка
1. От «женской темы» - к «другой прозе» (Идейно-стилевая эволюция литературы в зеркале критики)
2. Философия любви и свободы сквозь призму постмодернизма (В.Нарбикова)
Глава III. Переосмысление мифа (Творчество Л.Улицкой)
1. Проблема «мифологического мышления» и ранняя проза писательницы 125
2. Реставрация мифа: повесть «Медея и ее дети» 150
3. Роман «Казус Кукоцкого» и «мироздание по Улицкой» 160
Заключение 176
Библиография 184
- У истоков современной «женской темы» (Н.Баранская и ее повесть «Неделя как неделя»)
- Повесть «Время ночь» как художественное кредо Л.Петрушевской
- От «женской темы» - к «другой прозе» (Идейно-стилевая эволюция литературы в зеркале критики)
- Проблема «мифологического мышления» и ранняя проза писательницы
Введение к работе
Русская культура всегда была - и во многих отношениях до сих пор остается, несмотря на возрастающую роль телевидения - «литературоцентрич-ной». Однако сам литературный процесс в последние десятилетия претерпел серьезные изменения в составе своих «участников» и, соответственно, тематике, персонажах, конфликтах и т. д. Изменения эти не в последнюю очередь связаны с широчайшим приходом женщин во все сферы общественной жизни, в том числе - и в литературу. Не случайно современная литературная критика зачастую склонна рассматривать эту новую социокультурную и художественную ситуацию в рамках тендерного подхода.
Феминизм как мировоззренческая идея, основной пафос которой состоит в ломке и преодолении любых стереотипов сознания, связанных с полом, был генетически несовместим с тоталитарной организацией общества. Поэтому о русском феминизме коммунистической эпохи говорить невозможно. Его возникновение в России хронологически совпало со временем, когда очень медленно, с огромным трудом начался переход общества к состоянию открытости.
На наш взгляд, нет истины в утверждениях современных «славянофилов», что феминизм органически чужд национальному менталитету и никогда в России не привьется. Самостояние «второго пола» - это проблема культуры, уровня цивилизации общества. В конечном счете, оно зависит от открытости сознания самой женщины, от отсутствия в нем' стереотипов и заданности. Дело, видимо, не в национальных особенностях, а в цивилизованности государства. Если тенденция к ее повышению ,в России сохранится, мы можем стать свидетелями серьезного роста феминистских настроений. Не вызывает сомнений, что идеи эти - явление не сиюминутное и для России не наносное.
По мысли А.Ахматовой, бывают события, как бы отбрасывающие тень «впереди себя», задолго до своего реального появления. «Тень» феминизма, первый «подземный толчок», который сегодня дает о себе знать нарастающим гулом, можно было распознать уже в определенных реалиях общественной жизни периода хрущевской оттепели. В литературе, в частности, на этот толчок раньше других своей повестью «Неделя как неделя» откликнулась Н.Баранская, писательница, сегодня уже почти забытая (мы еще вернемся к этому имени).
Положение женщины в постсоветском пространстве постепенно, но существенно и последовательно меняется. Советский миф об освобождении женщины и ее социальном равноправии с мужчинами сменяется процессами реального освобождения ее и продвижения на авансцену социальной, политической, культурной деятельности. Женская проблематика все больше привлекает внимание прессы, социологии, культурологии, публицистики, литературы, искусства. Возникает женское движение. Создаются женские общественные центры. Женская тема ярко звучит в телевизионных передачах. Активно разрабатываются и смежные с ней вопросы общественного и личного характера, начиная с взаимоотношений женщины и мужчины на всех уровнях (от сексологии до политологии) и кончая ролью женщины в воспитании детей, построении семьи, усилении этических и эстетических стимулов общественного развития.
Литература фиксирует все эти процессы, быть может, прежде всего в том, что сама «женская тема» традиционно, на протяжении, по крайней мере, двух столетий разрабатывавшаяся в ней мужчинами, постепенно переходит в руки самих женщин, становится художественной почвой для появления ряда ярких писательских имен и даже, с известной мерой условности, дает критике возможность поставить вопрос о формировании в русской литературе последних десятилетий определенного творческого направления.
По существу, литературный процесс в России 60 - 70-х годов XX века в сокращенном и компактном виде воспроизвел историческую ситуацию бытования «женской темы» в литературе века девятнадцатого, где женщины весьма часто представали в романтизированном и трогательном облике. Начиная с пушкинской Татьяны и лермонтовских героинь, с гончаровских и тургеневских девушек, они являлись жертвами социально-исторических условий и предрассудков (пьесы А.Островского, «Анна Каренина» и «Воскресение» Л.Толстого, образы «кротких» Ф.Достоевского), а сам автор неизменно выступал в роли защитника-заступника. Мужчина на рандеву с женщиной в русской классике выглядел «лишним», бесхарактерным, слабым человеком в гораздо большей степени, чем в каких-либо иных обстоятельствах. И это несмотря на то, что специфика изображения героинь и связанных с ними художественных коллизий вольно или невольно отражала здесь именно мужской взгляд.
В качестве примера крайне любопытной и острой идеологической переклички с этим взглядом, причем не с абстрактным мужчиной, а с великим художником и собственным мужем, стоит вспомнить повесть С.А.Толстой «Моя жизнь», опубликованную только в 1998 году [1].
В традициях русской классики обращались к «женской теме» в 60 - 70-е годы прошлого века В.Распутин, Г.Бакланов, Ю.Трифонов, Ю.Нагибин и многие другие прозаики. С.Залыгин в романе начала 70-х «Южноамериканский вариант» даже предпринял во многом беспрецедентную для советской литературы попытку вступить с читательницами в своеобразный «гендерный диалог» и поставил в центр повествования женщину, психологию, мировосприятие, поступки и чаяния, которой попытался понять словно бы изнутри, отождествляя себя с героиней. Тогда из этой попытки ничего не вышло - советское общество к тендерному диалогу не было готово. В многочисленных дискуссиях и статьях [2] роман - за редкими исключениями - вызвал резкое
отрицание как со стороны официозной прессы, усмотревшей в нем умозрительные схемы, нарушение принятых нравственных норм, бытовизм, мещанские настроения и пр., так и «женской» части критики, не признавшей подлинности за авторским перевоплощением.
Положение изменилось в 80 - 90-е годы, с выходом на авансцену новых писательских имен (некоторые писательницы начинали, впрочем, значительно раньше, но настоящую известность приобрели именно в эти десятилетия и тогда же создали наиболее значительные своих произведения). Мы имеем в виду В.Токареву, Л.Петрушевскую, Т.Толстую, Н.Садур, В.Нарбикову, Л.Улицкую и других.
Интерес к «женской теме» и тендерной проблематике в литературе был стимулирован также появлением таких сборников, как «Женская логика» (1989), «Не помнящая зла» (1990), «Чистенькая жизнь» (1991), «Новые амазонки» (1991), «Чего хочет женщина» (1993) и некоторых других. Все они отличались достаточно большим количеством участников - писательниц различной эстетико-литературной ориентации и жанрово-тематическим разнообразием. Особенно это характерно для сборника «Новые амазонки», в котором представлены едва ли не все литературные роды и жанры, стили и направления: одноактная пьеса Н.Садур, повести В.Нарбиковой, Л.Ванеевой, Е.Тарасовой, стихи Н.Искренко, Ю.Немировской, Э.Ракитиной, Е.Кацюбы.
Наряду с понятием «женской темы» в литературной критике появилось и новое - более узкое и специфичное - «женской прозы», имевшее в виду не только пол ее авторов, но доминирующую роль героинь с их специфическим социально-бытовым положением, особое место любовно-психологических и семейных коллизий, господство некоей «женской» точки зрения на все изображаемое и даже подчас жанрово-стилевое своеобразие авторских пристрастий.
С одной стороны, ни у кого из критиков не вызывает сомнений, что «в литературе, как и во всех видах духовной деятельности, важна не специфика
7 пола, а художественный уровень» [3, 239] и что «разделение литературы по
признаку пола несколько странно» [4, 19]. Примеров отрицательного, а подчас и просто иронического отношения критики к тендерной классификации литературного процесса можно найти великое множество.
Петербургский критик Е.Щеглова в статье 1990 года употребляет тендерное определение в явно негативном смысле - «утешительная дамская проза» (приводятся имена Е.Катасоновой, А.Драбкиной, М.Алексеевой, Т.Горбулиной и др.): это искусство «обращено чаще всего к проблемам личного неустройства и - надо отдать должное авторам - с немалым успехом играет на чувствительных струнах читательских сердец», варьируя на все лады классический сюжет Золушки и в ряде своих образцов, даже небесталанных, имея явные точки соприкосновения с нормативными требованиями социалистического реализма. Е.Щеглова называет «утешительную» прозу 70 - 80-х «бледным слепком с вечно праздничного искусства 30 - 40-х годов». А вот произведения Т.Толстой, Л.Петрушевской, В.Нарбиковой критик рассматривает скорее в качестве художественной реакции именно на «дамское» творчество и видит в них «вызывающе антиженский эпатаж»: «открытость» этих текстов такова, что еще недавно и «мужская» проза ограничилась бы в некоторых опасных местах многоточием. В подобных произведениях, - замечает критик, - «женского» только и осталось, что фамилии авторов» [4, 23].
Близок Е.Щегловой и автор статьи «Женские антиномии» О.Дарк: «существует ли «женская проза»? Для меня она - понятие идеальное, гипотетическое» [5, 257]. Речь должна, скорее, идти об отдельно взятых писательницах, причем некоторые из них и вовсе выпадают из тендерных определений. Прежде всего это относится к Т.Толстой, в чьем творчестве серьезное место «занимает развенчание романтической концепции женщины». Как указывает критик, художественный мир произведений Т.Толстой «на удивление бесполый» [там же, 258], причем тема «бесполости», «неженственное женщины», как ни парадоксально, объединяет многие произведения, включенные в
8 сборник «Женская логика»: «Его постоянное население - старики, старухи, а
если женщины помоложе, то «вековухи». Последних объединяет то, что в них
не осталось ничего женского» [там же, 261].
Появление «женских» прозаических сборников вызвало скептическую реакцию и у критика «Литературной газеты» П.Басинского. В своих «Заметках на полях «новой женской прозы» он отказался видеть «женскую прозу» в качестве целостного и самодостаточного литературного явления. «И вообще -есть ли она на самом деле, женская душа? Не выдумка ли это мужчины в интересах собственного творчества?» - вопрошал автор [6, 10].
С другой стороны, отвергающие тендерную классификацию и методологию критики вынуждены были постоянно к ней возвращаться и ею пользоваться - подчас в одних и тех же статьях. В частности, несмотря на иронию и полемические выпады, П.Басинский заканчивает здравицей «новой женской прозе»: «В победоносном шествии «женской прозы» есть своя историческая логика. «Мужской» дух, то есть собственно дух, состарился и облысел. Он еще очень силен, как пенсионер, воспоминанием о славном прошлом, но уже слаб отсутствием перспективы. Мужчина, кажется, уже разгадан. Женщина -поверим этому - еще нет. Не скажет ли она новое слово?» И тут же отмечает несколько «существенных признаков, действительно выделяющих «новую женскую прозу» на фоне отечественной традиции», а в чем-то - и на фоне современного литературного процесса. Во-первых, она экзотерична, то есть стремится к любого рода обнаружению таинства, «откровению» вместо «со-кровения», в ней отсутствует мистическое начало. Во-вторых, она антителео-логична (вопросы о цели и смысле творчества «в ней не ночевали»). В-третьих, «сказать, что «женская проза» эмоциональна - значит, ничего не сказать. Она - сама эмоция по отношению к миру. В этом ее первичность при удручающей подчас вторичности художественных средств». В-четвертых, «женская проза» натуралистичнее «мужской» [там же].
9 Впрочем, и Е.Щеглова в противопоставлении «дамской прозе» лидеров
литературы, как она выражается, «новой волны», «другой» прозы -Т.Толстой, Л.Петрушевской, В.Нарбиковой не столь уж категорична: «Если в «дамских» повестях господствовала эстетика умолчания о темных сторонах жизни, то «другая» проза демонстрирует особое к ним пристрастие. Если болезни, уродства, ненормальности фиксировались прежде как нежелательные отклонения от нормы и писательницы чаще всего либо стыдливо отворачивались от них, либо спешили утешить читателя благополучной развязкой, то в «другой» прозе все это стало как бы стартовой площадкой». «Усилия, прилагаемые иными писательницами для того, чтобы их, не дай бог, не причислили к «дамской» прозе, настолько очевидны, что иной раз кажется: а не оборотная ли это сторона той же «дамской» прозы?» - замечает критик.
Допуская мысль, что с помощью эпатажа «авторы «другой» прозы хотят достичь эффекта «шоковой терапии», Е.Щеглова полагает, что ее адепты впадают в грех «литературщины» не в меньшей степени, чем их более «гуманные» и «оптимистичные» предшественницы застойных времен: «Если «утешительная» литература нередко вызывала у читателя ощущение переслащенного торта, то вызывающий антиэстетизм «других» прозаиков призван, похоже, вызвать тошноту чрезвычайной пересоленностью, переперчен-ностью, подгорелостью - до такой степени, что нередко уже и не веришь авторам» [4, 23].
Рассуждения Е.Щегловой, сами по себе достаточно интересные, приводят к малопродуктивному выводу: существуют две, только на первый взгляд антагонистичные, линии «женской прозы», которые на самом деле объединяет сугубо тенденциозный, однобокий подход к действительности. Подобная попытка решить чисто художественные проблемы на одной лишь базе широкого тендерного обобщения не кажется нам убедительной.
Столь же уязвима и позиция О.Дарка. При всей «гипотетичности» для критика понятия «женская проза», он, однако же, различает «узнаваемые
10 приметы то в одном произведении, то в другом», даже если такими приметами являются «неженственность» и «бесполость», причем тезис о «бесполости» критическим анализом отнюдь не подтверждается. Рецензируя сборник «Женская логика», О.Дарк пишет о его героинях: «Все они - носители психологии «последнего рывка», связываемого с мужчиной, даже если у них уже была семья или они юны». Все они ощущают себя ущербными, зависимыми; «мужчина здесь - залетный гость, олицетворение надежды. Является ли он в образе «супермена с профилем гончей»... или начальника по работе, подходит ли случайно в аптеке, по дороге из кино, в комиссионном магазине, задача одна - «охмурить», удержать, понять, до какого предела можно перечить... Женщине в этом мире всегда трудно, неуютно» [5, 261]. Таким образом, несмотря на все оговорки и уточнения, критик все же приближается к пониманию «женской прозы» как общности, в которой авторов сближают особенности художественного мировосприятия, излюбленные персонажи, приверженность к определенному типу сюжетно-психологических коллизий и т.п.
Постоянно присутствующая в критических суждениях внутренняя противоречивость свидетельствует не о слабости критики, но о маргинальной природе самой этой общности, ставшей предметом настоящей диссертационной работы, ибо проза женщин-писательниц явление столь же художественное, сколь и социокультурное, и, несомненно, тендерное. Так, например, И.Слюсарева в статье «Оправдание житейского» полемизирует с односторонностью тендерной методологии, резонно утверждая: «женское» и «литературное» в художественном произведении представляют некую целостность; нужна новизна материала, а не эксплуатация хорошо обкатанных тем и мотивов; необходимы «и ясность мысли, и оригинальность манеры письма и, наконец, то таинственное нечто, что преображает текст в явление искусства» [3,239]. А в статье И.Савкиной «Разве так суждено меж людьми?» мы встретим столь же резонный, хотя и прямо противоположный, «тематический» и социально содержательный, принцип анализа: в качестве магистральной те-
мы большинства женщин-прозаиков критик называет распад современной семьи. Главное, что объединяет творческие устремления представительниц «женской прозы», - это, по его мнению, резко критический подход к реальности, к современному обществу и человеку вообще, отражение (порой гротескно усиленное) драматических процессов, происходящих в стране: «Современная женская проза достаточно жестка и безыллюзорна. Она говорит о боли и болезни общества, симптомом которой является разрушение Дома...», фиксирует процесс «душевной эрозии» современной женщины, по которой «общественное неблагополучие бьет с удвоенной силой», поднимая при этом со дна ее души, изнемогающей «в бесплодной, мелочной борьбе за существование», «мутное, злое раздражение», вызывая «противоестественную энергию разрушения» [7, 150]. Именно этим, по мнению И.Савкиной, зачастую обусловлено отсутствие в современной женской прозе созидательного начала. Нельзя не заметить, что тендерный подход, безусловно, имеющий право на существование, применим и хорошо работает при изучении литературной тематики, социально-содержательных слоев произведения или проблем восприятия словесности в конкретных социальных условиях и конкретными социальными группами. Разумеется, за ним стоит и реальность самой жизни, в которой за женщиной и мужчиной закреплены разные эмоционально-психологические стереотипы и разные социально-ролевые функции. Этого ведь не отрицают и сами писательницы (так, например, в романе Л.Улицкой «Искренне Ваш Шурик» мы встретим авторские рассуждения о «...непреодолимой пропасти между женщиной, для которой любовь есть единственный смысл и наполнение жизни, и мужчиной, для которого любви в этом понимании вообще не существует, а составляет один из многих компонентов жизни...»). Однако художественный процесс, само бытование искусства сегодня, с нашей точки зрения, поддается тендерному изучению гораздо труднее, чем другие области действительности, такие как, например, полити-
12 ка или социология. Это связано, в частности, и с не решенным пока еще в
науке вопросом о тендерной природе художественного сознания.
Надо сказать, что тендерная проблематика в литературоведении и попытки применить ее к истории литературы (особенно - к истории литературы современной) внове не только у нас. Сравнительно молоды они и за рубежом, отсчитывая свой возраст от 60 - 70-х гг. прошлого века. Среди работ этого рода, в первую очередь, вероятно, следует отметить две (обе вышли в 1994 г.) - «Словарь русских женщин-писательниц. 1760 - 1992» [8] и монографию К.Келли «История русских женщин-писательниц. 1820 - 1992» [9]. Разница состоит лишь в том, что на Западе исследования подобного рода - применительно, разумеется, к собственным национальным литературам - нарастают в геометрической прогрессии, тогда как в связи с русской литературой мы опять-таки вынуждены ссылаться скорее на западную славистику, нежели на отечественную науку [10]. В России дело пока ограничивается составлением большого количества современных сборников русской женской поэзии и прозы [11], а имена женщин-писательниц, вызывающих интерес с тендерной точки зрения, уходят в глубь времен. Куда-нибудь в 18-й век, приобретая сугубо исторический характер.
Показательно, однако, что в теоретическом плане и «передовое», по сравнению с нами, западное литературоведение сколько-нибудь определенными и конструктивными ответами по поводу методологической правомочности приложения тендерного «лекала» к художественной литературе, похвастаться не может. В содержательном библиографическом обзоре, названном «Кто и как пишет историю русской женской литературы», И.Савкина отмечает: «Одним из центральных стал вопрос о том, что такое женская литература, существует ли особая женская эстетика, женский язык, женский способ письма»; «... не менее проблематичен и вопрос о том, что такое история женской литературы, как можно и нужно ее писать» [12]. В одном случае специалисты «включают женщин в существующий канон», группируя их вокруг ка-
13 ких-либо знаменитых «мужских» имен, будь-то Пушкин или Тургенев, занимаются собственно биографиями и личностями писательниц. В другом, пытаются доказать, что «специфически женская литературная традиция», «женский опыт и точка зрения», даже «эффект женского письма» - это реальность. Ни первая позиция, ни вторая не могут быть ни доказаны, ни опровергнуты, как свидетельствует И.Савкина, ссылаясь на западные исследования: «Все названные (и неназванные) теории подвергаются критике за их противоречивость и непоследовательность — и у нас нет (а возможно, и принципиально не может быть) одной непротиворечивой теории по этой проблеме». Подводя неутешительные итоги своему путешествию по обширной библиографии, автор обзора вынужден ограничиться очередной серией оставшихся без ответа вопросов: «... с чего начать? Что делать? как нам обустроить историю русской женской литературы?» [12, 371].
Изучением современного литературного процесса занимались на протяжении нескольких десятилетий как литературоведы (В.Ковский, А.Бочаров, С.Чупринин, Н.Гей, Ю.Борев и др.), так и литературные критики (А.Немзер, Н.Иванова, М.Липовецкий, В.Курицын, М.Золотоносов) - всех не перечислить. Происходившие в литературе изменения порождали насущную необходимость определения главных направлений и тенденций художественного развития, линий литературной преемственности, классификации стилевых исканий. Понятно, однако, почему «женская» составляющая литературного процесса целенаправленному анализу и научному осмыслению в нашем литературоведении до сих пор не подвергалась. Частичная ликвидация существующего пробела, по крайней мере - на уровне эмпирического анализа, в значительной степени определяет новизну и актуальность настоящей диссертации.
Не отвергая и, более того, используя возможности тендерной методологии, в некоторых существенных отношениях определяющей и сам принцип отбора писательских имен, и социально-психологическую проблематику рассматриваемых произведений, и многолетнюю критическую полемику вокруг так называемой «женской прозы», настоящая работа не склонна все же придавать этой методологии основополагающего значения.
Диссертация базируется прежде всего на традиционных основаниях -на принципах культурно-исторической школы, на положениях социологии литературы, на некоторых теоретико-методологических концепциях современного русского и западного литературоведения. Мы исходим также из признания высокого художественного качества прозы женщин-писательниц — факта, подтверждаемого не только громким читательским резонансом, но и присуждением ряду наших авторов серьезных литературных премий: Буке-ровской - Л.Улицкой, «Триумфа» Т.Толстой, Пушкинской - Л.Петрушевской и т. п. «Женская», по тендерному определению, проза этих писательниц по художественной своей силе ни в чем не уступает «мужской» и в некоторых отношениях делает тендерный подход малоплодотворным.
В фокусе настоящего исследования - Виктория Токарева, Людмила Петрушевская, Валерия Нарбикова и Людмила Улицкая. Вторым планом и, по большей части, сквозь призму литературно-критических оценок представлены фигуры Натальи Баранской, Татьяны Толстой и Нины Садур. Данный отбор имен чрезвычайно существен для характеристики литературного процесса рубежа веков по многим основаниям.
Прежде всего, все вместе они являют своим творчеством главные на сегодняшний день формы и возможности вхождения и пребывания прозаиков в потоке российской словесности. В.Токарева естественно перешла в этот поток из предыдущего периода развития литературы, где уже успела утвердиться на достаточно высоких позициях. Сейчас она выступает в роли своеобразного лидера «женской» беллетристики, тяготеющей к «массовой литературе»
15 (мы не вкладываем в это понятие никакого отрицательного смысла).
Л.Петрушевская, начинавшая в 60-е годы, то есть одновременно с Токаревой, почти как автор «самиздата», сегодня остается, несмотря на пиетет критики, художников «для немногих». Таким образом, обе эти фигуры как бы символизируют диапазон современной российской прозы - от массового чтения до «артхаусности».
«Бытовая» или, как ее еще называют, «городская» проза В.Токаревой, развивающая в какой-то мере традиции Ю.Трифонова, плотно окружена в последние годы повестями и рассказами Г.Щербаковой, Д.Рубиной, Е.Катасоновой, М.Вишневецкой, М.Арбатовой, М.Москвиной, К.Суриковой и других. Непосредственной предшественницей прозы Л.Петрушевской стала опубликованная практически одновременно с ее первыми рассказами повесть Н.Баранской «Неделя как неделя», получившая в свое время огромный читательский и критический резонанс.
Н.Баранская и Л.Петрушевская стали наиболее яркими представительницами и, можно даже сказать, родоначальницами «женской темы» в русской словесности 60 - 90-х годов. Надо учесть, что специфически «женская» проблематика в советской литературе либо была полностью искоренена, либо приобрела соцреалистический, агитационно-пропагандистский уклон: здесь не счесть персонажей вроде Даши Чумаловой из романа Ф.Гладкова «Цемент», Комиссара из «Оптимистической трагедии» В.Вишневского, «раскрепощенных женщин Востока» в братских национальных литературах и т. п.
В повести Н.Баранской, в драматургии и повести «Время ночь» Л.Петрушевской перед читателем предстали иные женские образы и социальная проблематика: освобождение женщины, якобы произведенное в условиях советской системы, оказалось тем, чем оно и было на самом деле, - новым закрепощением, практически рабством. Оба прозаика обозначили - с дистанцией в несколько десятилетий - совершенно новый подход к «женской теме» в советской литературе послесталинской эпохи, связанный со стремле-
ниєм резко и правдиво изобразить тяжелейшие условия жизни женщины в советском обществе и высокую степень социального неравноправия, то есть сказать о женщине некую художественную правду, тщательно скрываемую пропагандистскими клише об эмансипации. А правда эта состояла в том, что на женщину, сохранившую свои исконные семейно-бытовые обязанности, обрушилось множество дополнительных нагрузок, и, быть может, наиболее невыносимая - необходимость зарабатывать на хлеб наравне с мужчиной, при том, что их равенство в области образования или участия в общественной жизни имело чисто фиктивный характер.
Произведения Н.Баранской и Л.Петрушевской, с одной стороны, оказались органически включенными в так называемое «критическое направление» русской реалистической прозы периода «оттепели» и первого постхрущевского десятилетия (Баранская) и перестройки (Петрушевская), с другой -резко противостояли официальной идеологии и обслуживающей эту идеологию литературе.
В процессе эволюции проза Л.Петрушевской постепенно уходила от проблем быта к бытию, в языке и стиле своем, адресуясь к прозе XX века, русскому авангарду, Ф.Сологубу и А.Ремизову, обэриутам, а порой к Н.Лескову и Ф.Достоевскому. Новейшая литература позволяет обнаружить рядом с ее именем имена Н.Садур и Т.Толстой, М.Палей и И.Полянской, а также многие произведения других авторов, относящиеся, по выражению Ю.Тынянова, к литературе «с ощутимой формой». До некоторой степени в этом отношении сближается с Л.Петрушевской и В.Нарбикова.
Литературная критика хорошо почувствовала эту эволюцию литературы - от реалистического повествования, сосредоточенного на «женской теме», к «другой прозе», с расширением ее проблематики, обновлением художественного языка и стиля.
17 Как лидер «другой прозы», Нарбикова подхватывает в своем поколении
языковые эксперименты Петрушевской - ее проза испытывает в процессе развития все большее влияние постмодернистской эстетики. Постмодернисты представлены пока в России почти исключительно мужскими именами (В.Ерофеев, Д.А.Пригов, Т.Кибиров, В.Сорокин). В.Нарбикова, пожалуй, единственное яркое женское имя в данном художественном направлении. С другой стороны, сегодня уже очевидно, что, продолжив некоторые плодотворные искания «молодежной прозы» 60-х (В.Аксенова, А.Гладилина и др.), Нарбикова положила дорогу самому молодому поколению литераторов -И.Денежкиной и ее «кругу».
Вообще В.Нарбикова знаменует собой наличие в новейшем искусстве большого числа эстетических прорывов, сущность которых еще предстоит осмыслить. Как творец «эротической» или «эпатажной» прозы, она, несомненно, реализует на русской почве завоевания западных модернистов, Г.Миллера, Ч.Буковски, отчасти В.Набокова, в значительной степени приоткрывая дверь для юных российских наследников этих прозаиков - авторов известных ерофеевских сборников «Русские цветы зла» (М., 1997) и «Время рожать» (М., 2000).
Для читателей первого сборника Л.Улицкой ее тексты скорее смыкались по смыслу с бытовой и семейной прозой В.Токаревой, а не с тем, чем они стали в общественном сознании сегодня, спустя почти полтора десятилетия. Однако уже и в структуре этих рассказов, а также в повестях «Сонечка» и «Веселые похороны» имплицитно присутствовало достаточно новое для современной российской литературы мифологические «измерение». Эксплицитно же оно заявило о себе, конечно же, в «Медее и ее детях», что очевидно хотя бы по заглавию. Мифологические тенденции Улицкой ориентируются на весь корпус мировой мифологии. В советской прозе им предшествовали художественные поиски В.Распутина, А.Кима, писателей из национальных регионов Советского Союза - Ч.Айтматова, Т.Пулатова, О.Чиладзе, Ю.Рытхеу,
18 В.Санги, О.Сулейменова. Наряду с Улицкой к мифу обращаются и М.Палей,
И.Поволоцкая, М.Вишневецкая, авторы, глубоко укорененные в подпочве новейшей культуры.
В синхронистическом понимании и Токарева, и Петрушевская, и Нар-бикова, и Улицкая - представители единой художественной эпохи, времени перестройки и гласности. Все они могут быть наиболее репрезентативными авторами 90-х годов, определившими движение русской прозы на ближайшую перспективу. Каждая из названных фигур служит своего рода «знаком» наличествующих, а иногда даже господствующих в современной российской словесности тенденций. Их произведения, при всей индивидуальности каждого художника, органически переплетены друг с другом - идеологически, тематически, стилистически. По их текстам можно установить, как в недрах ортодоксальной литературы вызревала другая, изнутри подтачивающая канон. Драматургия и проза Петрушевской выдержала длительный период «полулегального» существования, пока, наконец, не прорвалась к широкому зрителю и читателю, благодаря происшедшим в стране социальным изменениям. Даже Токарева, возможно, самая «правильная» из четырех, вряд ли смогла бы опубликовать в доперестроечные времена некоторые повести из сборника «Коррида». Тем более непредставимы в предыдущую эпоху многие публикации остальных авторов.
Так или иначе, все названные прозаики находятся в социальной и художественной оппозиции к предшествующему периоду. Характерна с этой точки зрения фигура Л.Улицкой. По образованию генетик, она работала в НИИ, но была вынуждена уйти оттуда в связи с гонениями на диссидентов. Заведовала литературной частью в Еврейском театре в Москве. Публиковалась сначала на Западе, во Франции, а в России широко известна с 1994 года, с первого сборника «Бедные родственники». Первая же ее повесть - «Сонечка» - шокировала российское общество темой «брака втроем». «Коньком» Улицкой стала демифологизация советского образа жизни - и ситуация с запретом
19 абортов при Сталине, и особенности «секса по-советски», и проблема «пятого пункта», и многое другое. В то же время для Улицкой - наряду с полным отсутствием сиюминутной политической актуальности — характерно возведение советских реалий к неким «мировым прототипам», стилистическое сближение мифологической праосновы с «шумом» конкретного исторического времени.
Надо сказать, что и раньше произведения, в центре которых находились женщины со своими типично женскими проблемами (повести и рассказы Р.Зерновой, И.Грековой, И.Велембовской) нередко подвергались критике как мещанские и погрязшие в бытовизме, либо же вокруг них специально инспирировались идейные дискуссии с предсказуемым финалом. Подобные широкомасштабные советские обсуждения призваны были вывести «мелкотравчатую» тематику на плодотворное поле социальной пропаганды и укрупнить ее до масштаба «морального кодекса строителя коммунизма». Для осмотрительного искусства доперестроечного периода конъюнктурный политический контекст был непреложно необходим. Творчеству прозаиков 90-х годов этого уже не требовалось.
Героини В.Токаревой, Анна Андриановна из повести «Время ночь» Петрушевской, нарбиковские «Сана-Ирра-Вера», Сонечка, Медея и Елена Улицкой заслуживают внимания прежде всего как оригинальные характеры, со своим комплексом моральных представлений о мире, а вовсе не как социальные типажи. Чрезвычайно существенными с этой точки зрения становятся профессиональные характеристики, принадлежность человека к миру творчества, особенно - к деятельности в области искусства. У каждой из четырех писательниц такие герои и героини - на первом плане. Подобные пристрастия не могут быть случайными. Они знаменуют общее движение культуры к вечным, бытийным ценностям, отождествляемым прежде всего с искусством, при отказе от господствовавших ранее узкосоциальных и политических ценностей.
20 Наряду с искусством в качестве ценностной категории при подходе к
оценке действительности у всех названных авторов превалирует над другими критерий смерти. В токаревской «Первой попытке» и особенно в повести «Время ночь» Петрушевской мотив смерти, в противовес предшествующим «оптимистическим трагедиям», уже звучит в полную мощь. Умирают или погибают многие персонажи в произведениях Нарбиковой и Улицкой, иногда виртуально, как в нарбиковских «Равновесии..» или «Плане первого лица...», а чаще буквально и трагически, как в ее же «Шепоте шума» или в «Веселых похоронах» и «Медее...» Улицкой. Можно утверждать, что именно писательницы-женщины в новейший период продемонстрировали высокую степень художественной зрелости, которая позволила им достойно коснуться этой сложнейшей темы искусства и проявить в ее осмыслении масштабность, честность и отвагу, которой в ряде случаев не могли похвастаться мужчины.
В целом на примере названных писательниц можно наблюдать отчетливый сдвиг современного российского литературного процесса от бытовизма и узко понимаемой социальности - к бытийности, то есть тому, что в политике горбачевского периода было названо общечеловеческими ценностями. В этом смысле можно утверждать, что русская словесность рубежа веков оказалась в русле требований времени, и во многом определили это русло именно авторы-женщины.
Идейным поискам в прозе сопутствуют поиски стилистические - каждая из писательниц ощутимо придерживается индивидуальной повествовательной стратегии. Сборник Токаревой «Коррида» преимущественно построен как повествование от первого лица. «Я-форма» характерна и для повести «Время ночь». Нарбикова исключительно активна при включении прямой речи в ткань авторского повествования, от чего эффект субъективности существенно возрастает. Улицкая предпочитает реалистическую, объективированную манеру. Многообразны стилистические находки в области авторской речевой структуры. На первом плане в этом отношении, без сомнения, Петру-
21 шевская и Нарбикова. Авторская речь в прозе Токаревой 90-х годов гораздо
более многослойна и выразительна в свойственном именно ей аспекте «психологического комизма», чем в текстах предыдущих десятилетий, когда литература порой отличалась ужасающей серьезностью. Юмор Токаревой, раскрывшийся в 90-е годы во всей полноте, не похож на скрытый, глубинный юмор Улицкой, улавливающий неочевидный комизм привычных ситуаций.
Сдвиг изображаемой реальности от быта к бытию наиболее объемно обнаруживает себя в языке Нарбиковой и Петрушевской. Их персонажи, оказавшиеся в силу разных причин на грани быта с небытием, изменения в своем сознании реализуют в первую очередь лингвистически. Петрушевская виртуозно использует возможности дневника и внутреннего монолога героини («Время ночь»). То, что лично ее жизнь — ночь, и вообще человеческая жизнь - ночь и ничего, кроме ночи, читатель Петрушевской ощущает, помимо фактов и более всего - на стилистическом уровне. «Сумерки сознания», «лингвистические потемки» как следствие экзистенциального хаоса воспроизведены со всей выразительностью уникального художественного дара автора.
Сущность жизни в произведениях В.Нарбиковой выглядит совершенно иначе. Ее более всего прочего интересует конфликт высокого и низкого, прозы жизни и ее поэзии, пошлости и духовности. И опять-таки конфликт этот во многом реализуется именно стилистически. В языке идет нешуточная борьба истинно детского с мнимо зрелым, заумного со схоластическим, метафорического с наукообразным и так далее. В целом можно утверждать, что и Нарбикова, и Петрушевская находятся в авангарде той сравнительно немногочисленной, но художественно одаренной группы писателей, которая стремится «ухватить» ускользающее бытие преимущественно в слове, то есть самым органическим для литературы способом.
Ускоренность всех перечисленных выше авторов-женщин в художественном процессе последних лет связана, на наш взгляд, еще и с тем, что каждая из них в значительной степени востребована смежными искусствами. Закономерна реализация сюжетного мастерства Токаревой и Улицкой прежде всего в кинематографе. В частности, большинство Токаревских произведений малой и средней форм было экранизировано (помимо музыкального училища, за спиной у автора диплом ВГИКа), хотя языковая выразительность тока-ревской манеры и непереводима в визуальный ряд при всей выигрышности событийной фабулы. Во второй половине 90-х годов немало поработала в кино и Улицкая, явившаяся автором сценариев фильмов «Умирать легко», «Сестрички Либерти» и «Кармен». На пути к зрителю находится в настоящее время и телесериал режиссера Ю.Грымова «Казус Кукоцкого» по ее роману. Творчество Петрушевской, видимо, во многом благодаря речевой уникальности, нашло свое воплощение более на сцене, чем на экране, хотя автор пробовал свои силы даже в мультипликации, создав сценарий знаменитой «Сказки сказок» Ю.Норштейна. Многоактные драмы «Уроки музыки», «Три девушки в голубом» и «Московский хор», а также большое количество ее одноактных пьес почти повсеместно присутствуют в театральном процессе 70-х годов и во многом определили сценическую динамику российского театра конца столетия. Из всех четверых только Нарбикова оказалась далека от театра и кино, хотя ее творчество тесно соприкасается с другим визуальным искусством -живописью (она закончила художественное училище).
Находящиеся в центре данного исследования прозаики, несомненно, отражают в своем творчестве некоторые существенные социокультурные и художественные черты современного литературного процесса. Сам выбор авторов и проблематика их произведений позволяют глубже понять характер и тенденции происходящих в российском обществе и российском искусстве изменений. Характерны с этой точки зрения и диапазон, и размах, и направленность рассматриваемых нами идейно-эстетических исканий. Все это обу-
23 славливает как научную новизну, так и актуальность данной
диссертации.
Среди целей и задач работы в первую очередь следует выделить:
осмысление возможностей тендерного подхода к истории литературы в соотношении с традиционной методологией культурно-исторического и сравнительно-типологического анализа;
определение круга писательских имен, образующих в современном литературном процессе некую социокультурную и идейно-эстетическую общность;
исследование проблематики, идейно-образных рядов, особенностей стилистики выделенных в литературном потоке произведений с точки зрения их репрезентативности для процесса искусства в целом и творческой индивидуальности каждого автора в отдельности;
включение в работу большого объема критических дискуссий, рецензий, оценок как неотъемлемой и органической части литературного развития;
рассмотрение представленного литературного материала в масштабе идейно-эстетической эволюции русских писательниц на протяжении нескольких десятилетий;
анализ этой эволюции как движения от социально-аналитического «бытописательства» к бытийным, онтологическим вопросам жизни современного человека и человечества в целом;
характеристика художественных исканий названных прозаиков в плане движения от традиционных принципов реалистической изобразительности к новому художественному языку, связанном с современным эстетическим авангардом.
В соответствии с указанными целями и задачами структура диссертации определяется тремя ее главами.
Первая глава обращена к истокам «женской темы» в современной русской литературе (хронологически это 60 - 80-е гг. прошлого века) и к типологии персонажей, определяющих ее художественную специфику. Громко заявившая о себе повестью Н.Баранской «Неделя как неделя», эта тема -как тема неравноправного и почти безысходного положения женщины в советском обществе - достигает апофеоза спустя несколько десятилетий, в повести Л.Петрушевской «Время ночь», вызвав неоднозначные оценки литературной критики, спровоцировав на страницах периодической печати широкую дискуссию о «быте» и бытии.
Идейно-художественный диапазон этой темы в обозначенный период определялся, с одной стороны, произведениями Н.Баранской и Л.Петрушевской, органически близкими социально-критическому реализму журнала «Новый мир», а с другой - беллетристикой В.Токаревой, талантливо разрабатывающей совсем иную, «личную», проблематику женской жизни и взаимоотношений «женского круга» с «мужским».
Во второй главе диссертации анализируются те серьезные идейно-эстетические изменения, которые претерпела в художественной идеологии, проблематике и стилистике «женская тема» на протяжении последующих десятилетий, существенно отойдя от собственно «тендерных» аспектов своего содержания в сторону экзистенциальных и общечеловеческих смыслов. В центре нашего внимания также «поколенческое» обновление прозы этого направления и поиски в ней нового художественного языка, связанные с отходом от реализма к авангардной эстетике.
Крупным планом в главе рассматривается творчество В.Нарбиковой, а имена Л.Петрушевской, Т.Толстой и Н.Садур даны преимущественно в зеркале литературной критики.
Наконец, третья глава нашей работы целиком посвящена произведениям Л.Улицкой, вызывающим сегодня, как нам представляется, наибольший читательский интерес, и тому качеству ее прозы, которое во многом определяет художественное своеобразие творчества писательницы и ее место в современном литературном процессе, - мифологическому мышлению автора и неомифологическим подтекстам ее сюжетики и поэтики.
26 ПРИМЕЧАНИЯ:
Октябрь. - 1998. - № 9. - С. 136.
См.: Литературное обозрение. - 1973. - № 4 — 6; Вопросы литературы. - № 9; Литературная Россия. - 1973. - 20 апреля; Октябрь. - 1973. - № 8.
Слюсарева И. Оправдание житейского // Знамя. - 1991. - № 11.
Щеглова Е. В своем кругу: Полемические заметки о «женской прозе» // Литературное обозрение. - 1990. - № 3.
Дружба народов. - 1990. - № 4.
Литературная газета. -1991.-20 февраля.
Север.- 1990. - № 2.
8. Dictionary of Russian Women Writers I Ed. by M.Ledkovsky,
Ch.Rosenthal, and M.Zirin. - Westport and al., 1994.
9. Kelly С A History of Russian Women's Writing 1820-1992. - Oxford:
Clarendon Press, 1994.
Американская славистика, профессор университета Дюка доктор Джихан Гейт издала уже в новом тысячелетии два первоклассных исследования по женской литературе в России: «История русского женского литературного творчества / Сборник статей» (2002) и «В поисках «золотой середины»: Крестовский, Тур и власть разнообразия в русской женской прозе 19 века» (2004).
Кроме вышеназванных, следует упомянуть также: Абстинентки / Сост. О.Соколова. - М., 1991; GLAS: Глазами женщины: Дайджест новой русской литературы. - М., б/д; Мария. - Петрозаводск, 1990 - 1995; Русская душа. - Wilhelmshorst, 1995 и др.
Савкина И. Кто и как пишет историю русской женской литературы // Новое литературное обозрение - 1997. - № 24.
У истоков современной «женской темы» (Н.Баранская и ее повесть «Неделя как неделя»)
Литератором Наталья Баранская стала очень поздно, в Союз советских писателей вступила в 70 лет, и первую свою, коротенькую вещь - «Проводы» - опубликовала в журнале «Новый мир» уже в пожилом возрасте, в 1968 году. Там же в следующем году А.Твардовский напечатал и ее знаменитую повесть «Неделя как неделя», немедленно ставшую, если пользоваться современной терминологией, «бестселлером». При достаточно скромных собственно художественных достоинствах, повесть, появившаяся в уже «опальном» журнале, произвела на читателей впечатление разорвавшейся бомбы. Она стала символом оформлявшего в обществе недовольства политическим режимом, условиями труда, положением женщины и сыграла весьма заметную роль в раскрепощении и эволюции общественного сознания в России 60 - 70-х годов прошлого века. Написав не одну в своей жизни книгу, Баранская, вероятно, так и останется в истории русской литературы этой эпохи именно автором «Недели как недели» [1].
Читатели 70-х годов не без оснований ассоциировали повесть с названием фильма американского режиссера С.Поллака «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?», ставшего известным в то же время. Многие женщины именно с «Недели...» повели отсчет новой жизненной позиции: «Так жить нельзя!» В библиотеках очередь желающих получить номер «Нового мира» с «Неделей...» не уменьшалась в течение нескольких лет, по всей стране шли читательские конференции. Обсуждались не только литературные свойства повести, но и демографические и даже политические вопросы. Не случайно ее экранизация не состоялась, а набор отдельного издания рассыпан.
Вместо аксиоматичного представления о том, что новый социальный строй раскрепостил женщину, Баранская сумела сказать о ее положении в условиях социализма суровую правду. Не случайно и до сих пор на Западе, рассматривая жизнь женщин в бывших странах соцлагеря, историки и социологи апеллируют прежде всего к этой вещи, а в Америке и в Европе опубликовано откликов на нее в три раза больше, чем на Родине.
Героиней «Проводов» была скрытная и незаметная «совслужащая» Анна Васильевна, без каких бы то ни было реальных причин, а исключительно по прихоти руководителя предприятия и по его типично мужскому, волюнтаристскому и бесчеловечному указанию, «выведенная» на пенсию подобно тому, как в свое время «выводила» людей в «расход» Советская власть. Не защищена она и от произвола своего непосредственного начальника. Однако ей, в частности, в силу неразвитости и ограниченности самого женского сознания, не приходит в голову не только протестовать, но и сколько-нибудь всерьез осмыслить происходящее...
Было бы преувеличением утверждать, будто главным движущим импульсом автора «Проводов» были идеи феминизма, но определенной вехой на пути к ним и к повести «Неделя как неделя» этот рассказ, несомненно, оказался. Год, отделяющий от него повесть, стал для писательницы переходом от бессознательно нащупанной темы к позиции, вполне осознаваемой и декларируемой. Если «Проводы» можно сравнить с просто приложенным к губам больного стеклом, ничего не отражающим, а лишь фиксирующим редкое дыхание, то зеркальные грани «Недели...» уже строго соблюдают и ракурс, и дистанцию, и направление отражения, в них отчетливо видно соотношение панорамы и фокуса.
Характеризуя изображенное в повести время в современных понятиях, не избежать клише «эпоха застоя». Одним оно представляется сегодня периодом духовной стагнации и общественного упадка, другим - счастливыми десятилетиями, когда внутри страны царил мир, а цены были фантастически низкими. Всестороннее описание этого периода нашей истории - дело относительно отдаленного будущего. Но даже и с этой точки зрения «Неделя как неделя» представляет собой интереснейшее свидетельство очевидца и участника исторических событий, правда, на бытовом, но оттого вовсе не утрачивающем для рядового человека огромную значимость, уровне.
Совершенно не случайно в роли такого очевидца и участника автор выводит женщину в расцвете сил: как и саму страну, выглядевшую со стороны образцом полнокровия и благополучия, ее раздирают внутренние противоречия, как и страна - она почти что не жизнеспособна. Героиня повести наделена значащей фамилией - Воронкова, - в которой нетрудно разглядеть и воронку быта, затягивающую женщину с фатальной неизбежностью, и «воронка» из не столь давнего исторического прошлого, символа абсолютной человеческой несвободы от политического режима, и ворона, пророчащего беду.
Полузакрытый научно-исследовательский институт химического профиля, с достаточно строгим рабочим распорядком, анкетным принципом подбора кадров и обязательными политзанятиями - это не только среда, определяющая психологию героини, а еще и аналог всего закрытого общества. Ольга Воронкова - химик в лаборатории, где делают новый стеклопластик. Ее главный профессиональный интерес сосредоточен на полимерах, на испытаниях искусственного материала, предназначенного для изготовления трубопроводов. Воспринимавшаяся в 1969 году как точно найденная в «век синтетики» деталь, эта эпопея со стеклопластиком через 35 лет читается как метафора «синтетической» эпохи, внешне упорядоченного, сглаженного до безликости, «искусственного», не оправдавшего надежд исторического времени.
Рядом с институтом Ольги - «почтовый ящик», где работает ее муж. Он обрисован очень осторожно, в подцензурном виде, но его отношение к военной промышленности, пронизывавшей все сферы жизни и абсолютно секретной даже для самих его сотрудников, очевидно.
Те, кто подозревал повесть в «неосознанности авторской позиции», не могут не считаться с наличием в тексте подобных метафор и аллюзий: Баранская прекрасно знала, что делала.
Второй план связан с тотальным воздействием быта — транспорта, магазинов, домашнего хозяйства и т. п. - на психологию людей. Автор организует этот смысловой план метафорой «беговой дистанции». Не только день Ольги начинается и заканчивается бегом, но и вся ее короткая биография -«пробег - про-бег», если воспользоваться названием повести В.Нарбиковой.
Повесть «Время ночь» как художественное кредо Л.Петрушевской
Литературные дебюты Н.Баранской и Л.Петрушевской относятся почти к одному и тому же времени. Первые произведения Н.Баранской публикуются в конце 60-х годов, а Л.Петрушевской - в начале 70-х. Вместе с тем, творческие биографии обеих писательниц имеют мало общего.
Несмотря на то, что в печати Л.Петрушевская дебютировала как прозаик, автор коротких рассказов, признание она сначала получила как драматург, благодаря удачным постановкам ее пьес в различных неофициальных, полусамодеятельных театрах-студиях, в частности, пьесы «Уроки музыки» в зна- менитом студенческом театре МГУ. На протяжении ряда лет произведения
Л.Петрушевской не были известны широкому кругу читателей, что не могло не сказаться на особенностях ее литературной репутации. Постановка М.Захаровым в театре «Ленком» в 1983 г. ее пьесы «Три девушки в голубом» вызвала большой резонанс в столичной прессе и способствовала процессу «легитимации» автора как одного из самых ярких и самобытных отечественных драматургов. В диалоге двух критиков о пьесе и спектакле на страницах журнала «Литературное обозрение» Л.Петрушевская причислялась к «по-ствампиловскому» течению «социально-бытовой драмы», которое «восприняло от своего родоначальника А.Вампилова стремление открыто и жестко говорить о самых болевых точках жизни общества» [10, 88].
90-е годы были в творчестве Л.Петрушевской очень плодотворны: в среднем четыре-пять публикаций ежегодно. Именно в этот период она получила широкую известность как прозаик (большие повести, миниатюрные рассказы, стилизованные сказки, сценарии и т. д.). 1992-й год стал годом, когда творческая биография самым непосредственным образом свела ее - и в читательском сознании, и в истории русской литературы - с именем Н.Баранской. В этом году она опубликовала в журнале «Новый мир», где начинала в свое время как прозаик и Баранская, повесть «Время ночь».
Если Баранская повестью «Неделя как неделя» фактически только начинала творческий путь, то «Время ночь» совершенно не случайно была воспринята рядом критиков как итоговое на тот момент произведение. Повесть «Время ночь», - отмечал, например, Е.Шкловский, - выросла из драматургии и рассказов Петрушевской, вобрала основные мотивы ее творчества. Она должна была появиться потому, что не могла не появиться. Этого требовала не только внутренняя логика творчества самой писательницы, но и логика движения современной прозы последних десятилетий» [11].
Не говоря уже о том, что творческий путь Н.Баранской был практически завершен, а Л.Петрушевская как прозаик и драматург находилась в самом зените своих возможностей, обе писательницы представляли совершенно разные поколения, и десятилетия, разделявшие их повести, имели отнюдь не «арифметический» характер. Поколение Л.Петрушевской уже полностью принадлежало советской эпохе, несло в своей генетической памяти те стереотипы 30-х годов, которые точно и принципиально были схвачены Л.Петрушевской в сценарии к мультфильму режиссера Ю.Норштейна «Сказка сказок». Публикации повести предшествовало почти треть века художественной и мировоззренческой эволюции автора. Л.Петрушевская заговорила от лица поколения, уже лишенного идеалов, а повесть «Время ночь» появилась в тот момент, когда настроения разочарования и пессимизма стали практически массовыми.
1992-й год был вторым после подавления путча и характеризовался резким спадом эйфории. В настроениях общества чувствовались раздражение и социальная усталость. Появление очередной вещи, рассказывающей о темных сторонах жизни, не могло вызвать острой общественной реакции. Интеллигентный читатель, встречавший счастливым и даже немного недоверчивым удивлением смелые публикации пятилетней давности, заново открывая столько лет скрытые от нас имена и знакомясь с новыми, к 1992 году полной мере прочувствовал грустный анекдот тех лет о перестройке, давшей нам «правду, только правду и ничего, кроме правды». К тому же Петрушевская была принципиально чужда острой социологичности, дистанцирована от специального анализа перестроечного хаоса и лишена публицистического пафоса в обличении безжалостных черт первичного капитализма.
Тем не менее, повесть «Время ночь» вступила в несомненный диалог с повестью Баранской - и жанром женского дневника, и ощущением абсурдной детерминированности и «плотности» быта, и скрытой на глубине этнографической точностью, и самим образом времени с его персонажами, и характером эволюции «женской темы» в целом.
От «женской темы» - к «другой прозе» (Идейно-стилевая эволюция литературы в зеркале критики)
В предыдущей главе были рассмотрены, пользуясь известной формулой, «эстетические отношения» между исследуемой литературой и самой действительностью, иначе говоря, содержательные аспекты «женской темы» (типология персонажей, роль социально-бытовых конфликтов в сюжетике произведений, влияние общественных представлений и обстоятельств на развитие любовных коллизий и т. п.).
Проза этого направления самоопределялась как проза социально-аналитическая и жестко реалистическая, противостоящая всем своим критическим пафосом соцреалистической «дамской» литературе предшествовавших лет. От 60 - 70-х гг. к 80 - 90-м в ее русле вырабатывались и новые эстетические принципы, и новая повествовательная техника. Е.Щеглова в упоминавшейся статье писала о «нелицеприятном обличении действительности», «могучем пережиме в сторону почти физиологического показа» ее, а, характеризуя изменения в литературном процессе этого периода, употребляла такие понятия, как «другая проза», «другая литература». Появление «другой прозы» критик связывал с настроениями «определенной усталости, пессимизма, разочарования», явившимися художественной реакцией на социально-противоречивую и внутренне драматичную обстановку, сложившуюся в стране в результате резких сдвигов и разломов в различных областях духовной жизни общества.
Е.Щеглова не одобряла крайнего негативизма «другой прозы» по отношению к изображаемой действительности (антимир ее «так же однобок», как и мир «благородных страстей» предшествующей литературы и «нередко кажется порожденным не столько реалиями осмысленной писателями жизни, сколько вызывающей пристрастностью авторов») и скептически отзывалась о художественных новациях: «Боюсь, что в новациях «другой» прозы вся ставка делается исключительно на внешний эффект, что, собственно, и сближает между собой таких, казалось бы, разных писателей, как Л.Петрушевская и Т.Толстая». «Право, я затруднилась бы так решительно отнести «другую» прозу к авангардизму в искусстве. Эпатаж, «шоковая» терапия, ставка на внешнюю броскость, эффект «пересоленного торта» - это все-таки не столько авангард, сколько один из экспериментаторских потоков сегодняшней нашей беллетристики, - причем явно не из самых плодоносящих» [1, 25].
Спустя пятнадцать лет после публикации этой статьи нетрудно увидеть, что в оценках важнейших тенденций художественного развития литературы «женской темы», автор был и чрезмерно резок, и не прав по существу, но сами эти тенденции (и социально-содержательные, и идейно-стилевые) наметил с полемической отчетливостью.
В «другой прозе», прозе 80 - 90-х годов, очевидны - по отношению к литературе 60 - 70-х - и концептуальная преемственность в негативной трактовке социальных реалий, и принципиальные новации в сфере идейно-стилевых решений. Своего рода связующим звеном между двумя этими разными этапами литературного развития явилась проза Л.Петрушевской, которую мы, на примере повести «Время ночь», частично уже рассматривали в первой главе, но, главным образом, с точки зрения преемственности - возводя ее генеалогию к социальному пафосу Н.Баранской. Вместе с тем, в этой повести, как и в произведениях Петрушевской совсем иного плана, уже присутствовал мощный замес чуждой литературе «шестидесятничества» «авангардной» художественной стихии. В этом направлении проза Петрушевской далеко ушла от прозы Н.Баранской. Не столь далеко, скажем, чтобы освободиться от своего социального звучания и даже от беспощадных характеристик советской и постсоветской действительности, но достаточно далеко, чтобы обозначить серьезный эстетический сдвиг в литературном процессе последних десятилетий и стать предвестницей «авангардных» творческих поисков Т.Толстой, Н.Садур, В.Нарбиковой и других писательниц.
Сама реальность у Петрушевской помещена в метафорический ряд, где сравнение строится на контрастах между сознательно «заземленной» и космической образностью, а фантастический разрыв действительного и воображенного становится характерной приметой времени. В социальной критике, так или иначе окрашивающей произведения писательницы, всегда присутствует и общая мысль о несовершенстве «родового», «природного» начала в человеке. Возможно, именно здесь и кроется причина особой сосредоточенности автора на «низменной» стороне жизни, пристального внимания к физиологии, подсознательным комплексам персонажей, а также тех натуралистических «излишеств», которые отталкивают противников творческой манеры Петрушевской. Однако идея эта все дальше отступает на задний план в подчеркнуто нереалистических произведениях писательницы («Песни восточных славян», «Новые Робинзоны» и т. п.). Уже в рецензии на сборник рассказов «Бессмертная любовь» (1988) критик Е.Канчуков полагал, что «Пет-рушевская в первую очередь пишет не характеры, а ситуации. Личность чаще всего интересует ее лишь постольку, поскольку вольно или невольно является кирпичиком общего, несомненно, ущербного, на ее взгляд, человеческого мироздания» [2, 14].
В отклике на цикл рассказов - «страшилок» «Песни восточных славян» критик объяснял этим соображением и недостаточную психологическую глубину в разработке образов героев: «Главный интерес писательницы - не характеры, а ситуации. Ее занимает не человек сам по себе, а контакт человека с жизнью. И даже не весь контакт в полном спектре, а лишь та его часть, которая приводит к аннигиляции - к выжиганию места соприкосновения» [3, 29]. «Песни восточных славян» явились, по его мнению, поворотным моментом в творческом развитии писательницы, пришедшей от квазиреалистического отображения «прозы жизни» современного города к эстетическому осмыслению ранее не обработанного литературой - «городскому» фольклору.
О фольклорной подоснове «Песен восточных славян» довольно подробно писала Н.Иванова, сопоставившая «московские случаи» Петрушевской с «низовыми» жанрами городской культуры, в частности, с «жестоким романсом», для которого (как и для «Песен...») «характерны контрастное сочетание низкого и высокого социального статуса героев, ...авантюрный сюжет (преступление), высокая моральность (наказание), присутствие фантастических сил (тайна), изложенные вульгарно-городским просторечием».
Проблема «мифологического мышления» и ранняя проза писательницы
Имя Л.Улицкой в ряду прозаиков, творчество которых рассматривается в диссертации, по своей известности (спрос, тиражи, количество переводов на европейские языки и пр.) занимает главенствующее место и уже потому только достойно особого внимания. Причин для его популярности великое множество, и одна из главных, вероятно, состоит в общечеловеческих и гуманистических интонациях этой прозы. Будучи вполне конкретной, подчас даже, казалось бы, сугубо бытовой в изображаемых конфликтах, типажах, подробностях, она далеко выходит за пределы того самоценного и нередко весьма убедительного «бытовизма» и натурализма (на подобной убедительности, доведенной до края, построен весь жанр так называемой «чернухи»), которые мешают ныне российским литераторам увидеть экзистенциально значимые параметры бытия, «подводный» ход жизни. В изображении психологических неожиданностей, поворотов, нюансов быта и бытия повествование Улицкой сохраняет увлекательность, яркость и изящество, то есть свойства, способные привлечь читателя самого разного уровня.
Художественное мировосприятие Улицкой лишено изломов и прерывистости, ее нарративная техника плавна и, хочется сказать, «формально умеренна». Явно пребывая в русле модернистских настроений и пристрастий, что роднит ее прозу с Т.Толстой, Н.Садур и Л.Петрушевской, она, однако, дистанцируется от традиционного реализма, быть может, еще основательнее, чем названные авторы, но делает это совсем в ином - мало связанном с формальными поисками - направлении.
По существу, Улицкая является чуть ли не единственным в текущей русской литературе мифологом, хотя мифологическая традиция в отечественной словесности укоренена достаточно глубоко (вспомним творчество Гоголя, русских романтиков 19-го и русских символистов начала 20-го веков, а много позже, в 60 - 80-е годы прошлого столетия, - яркий взлет мифологических тенденций в многонациональной советской литературе, связанный с именами В.Распутина, А.Кима, Ч.Айтматова, О.Чиладзе, И.Друцэ, В.Санги, Ю.Рытхеу и других). Понятно, что, задаваясь вопросом о влияниях, требующем специального изучения, надо учесть и тот расцвет «неомифологизма», который претерпела на протяжении 20-го века вся мировая литература (Т.Манн и Д.Джойс, Ф.Кафка и Т.С.Элиот, М.Пруст и Ж.-П.Сартр, М.Фриш, А.Моравиа, Дж.Апдайк, Г.Г.Маркес и латиноамериканский роман как художественное явление в целом). Понятно также, что Улицкой ближе конец 20-го века, нежели его начало. В любом случае, говоря о ее творчестве, вероятно, следует в первую очередь обратить внимание - в качестве социально-исторических и историко-литературных предпосылок мифологизма - именно на модернистское противостояние традиционному реализму, с его социологизмом и фетишизацией материалистического взгляда на историю.
«Стремление выйти за социально-исторические и пространственно-временные рамки ради выявления этого общечеловеческого содержания было одним из моментов перехода от реализма 19-го века к модернизму, а мифология, в силу своей исконной символичности оказалась (особенно в увязке с «глубинной» психологией) удобным языком описания вечных моделей личного и общественного поведения, неких сущностных законов социального и природного космоса», - пишет Е.Мелетинский, один из самых авторитетных в России исследователей теории мифа [1, 9]. Он же всячески акцентирует при этом философско-метафизический характер мифа: «...наука не разрешает такие общие метафизические проблемы, как смысл жизни, цель истории, тайна смерти и т. п., а мифология претендует на их разрешение» [2, 5].
«Миф дает художнику наиболее общечеловеческие темы, предоставляя ему тем самым возможность вновь обратиться к широчайшей аудитории», цитирует А.Козлов фундаментальную монографию 1970-го года американского литературоведа Г.Слокховера (по Мелетинскому - «Х.Слоховера») «Мифопоэзия. Мифологические темы в литературной классике», рассматривающую мифологию не просто как литературный источник, но и как средство разрешения экзистенциальных проблем во взаимоотношениях человека с миром, обществом, искусством [3, 151]. «Пафос мифологизма» в литературе 20-го века (А.Козлов определяет его сильнее - как «мифоцентрический тоталитаризм» [4, 238]) Е.Мелетинский объясняет осторожнее, «естественной реакцией на устаревший эволюционизм» [2, 129]. Но нельзя не видеть и дополнительных к нему стимулов в советской и постсоветской действительности, где подобная реакция на «эволюционизм» была многократно усилена художественным сопротивлением выхолощенному прагматизму марксистско-ленинской теории познания и давлению вполне реального - государственного - тоталитаризма.
Практически в каждом произведении Улицкой присутствует тот или иной мифологический мотив, отсыл, ассоциация, а подчас и целый комплекс мифологем. В то же время писательница и здесь соблюдает чувство меры: ее мифологизм не противостоит реализму, а скорее дополняет и углубляет его, придает реалистическому анализу и изображению дополнительные смыслы и глубину. Если условно включить прозу Улицкой в первый ряд мировой литературы 20-го века, то она окажется более близка к Т.Манну, нежели к Д.Джойсу. (Сравнивая Манна с Джойсом, Мелетинский подчеркивает, что Манн на новой основе «укреплял реалистический метод», тогда как мифологизм Джойса ослаблял его; что «представлению Джойса о бессмысленности истории противостояла манновская концепция ее глубокого смысла»; что Манн «видит в мифе не просто вечную сущность, но и типическое обобщение» и что «его попытка отождествлять «архетипическое» и «типическое» есть известная дань реалистической эстетике»; что, в противоположность «чисто экспериментальной манере повествования»