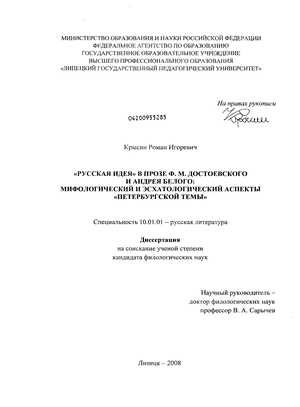Содержание к диссертации
Введение
Глава 1 «Русская идея» и её роль в оценке «дела» Петра. Мифология и эсхатология с. 15
Глава 2 Эсхатологическая система взглядов Ф. М. Достоевского с. 33
2.1 Эволюция образа Петербурга в ранних произведениях Ф. М. Достоевского («Бедные люди», «Двойник») с. 36
2.2 Типы русского национального сознания в романах Ф. М. Достоевского с. 50
Глава 3 Роман «Петербург» Андрея Белого в контексте идейных исканий Русского ренессанса с. 89
3.1 Символизм с. 89
3.2 Роман «Петербург» в контексте историософской концепции Андрея Белого с. 100
3.2.1 «Серебряный голубь» и декадентский кризис «русской идеи» с. 101
3.2.2 Творческая история романа «Петербург» с. 113
3.2.3 Мифологическая и эсхатологическая символика в образах романа «Петербург» с. 123
3.3 Мифология в судьбах героев «Петербурга» Андрея Белого и «Огненного Ангела» Вал. Брюсова с. 152
3.4 Традиции Ф. М. Достоевского в романе «Петербург» Андрея Белого с. 163
Заключение с. 172
Список литературы с. 177
- «Русская идея» и её роль в оценке «дела» Петра. Мифология и эсхатология
- Эволюция образа Петербурга в ранних произведениях Ф. М. Достоевского («Бедные люди», «Двойник»)
- Роман «Петербург» в контексте историософской концепции Андрея Белого
- Творческая история романа «Петербург»
Введение к работе
Следует признать аксиоматичным, что влияние творчества Ф. М. Достоевского на формирование религиозно-философской и эстетической концепции русского символизма было значительным. Следует также признать, что усвоение его идей в символистской среде начала XX века в значительной степени проходило под влиянием Д. С. Мережковского как автора статьи «Пророк русской революции» и книги «Достоевский и Толстой». Концепция Мережковского в суммарном виде может быть сведена к двум положениям:
Мережковский признавал Досюевского за пророка Апокалипсиса, «Церкви и Царства Грядущего Господа», чье творчество направлено на «нетленное ядро истины, лучезарное семя новой жизни», то есть - на преображение действительности;
Однако избранные писателем средства и твердыни, на которые тот опирался, автор указанной статьи называет «тремя провалами в неизбежных путях России к будущему». Провозглашение писателем народности было вызвано, по Мережковскому, непониманием Достоевским устремленности русского крестьянства к земле и потому невозможности соединения народа с христианством, устремленным в небо. Православие Достоевского и православие вообще Мережковский как религиозный модернист подвергает остракизму за претензии на исключительное право хранить настоящий Христов образ для одного русского народа-богоносца. Самодержавие как один из мировоззренческих столпов позднего Достоевского обличается за уподобление Кесаря Господу, что означает утверждение идеи человекобожия'. «Россия уже не "колеблется", а падает в бездну. Самодержавие рушится. Православие в большом "параличе" нежели когда-либо. И русской народности поставлен
«В основе всякой государственности заложена более или менее сознательная религия Человекобожества» -[116, с. 95] прямо говорит Д. С. Мережковский в открытом письме Н А. Бердяеву.
вопрос уже не о первенстве, а о самом существовании среди других европейских народов» - [ 118, с. 164, 165, 167, 172] - заключает автор статьи.
Предъявляя «счет» Достоевскому, Мережковский, тем не менее, подчеркивает: «Он - самый родной и близкий из всех русских и всемирных писателей не мне одному» [118, с. 164]. То есть, Мережковский признает Ф. М. Достоевского несмотря на все его «ошибки» великим мыслителем и полагает своей задачей просто сказать жестокую правду, не умаляющую достоинство выдающегося человека, а показывающую только его сложность.
Проблема отношения Андрея Белого как типичного, во многих отношениях, представителя русского символизма, к идеям и самой личности Ф. М. Достоевского так или иначе затрагивалась в работах Л. К. Долгополова («На рубеже веков»), И. И. Гарина («Многоликий Достоевский»), В. А. Са-рычева («Эстетика русского модернизма: проблемы жизиетворчества») и других исследователей творчества как Достоевского, так и Белого. Наиболее основательЕіьім изысканием на указанную тему, нам представляется статья А. В. Лаврова «Достоевский в творческом сознании Андрея Белого (1900-е годы)» (1988), вошедшая позже в виде главы в монографию «Андрей Белый в 1900-е годы. Жизнь и литературная деятельность» (1995).
Лавров мотивирует свое обращение к рассматриваемой им проблеме следующим образом: отношение Белого к Достоевскому потому «заслуживает внимания», что оно - «характерный пример усвоения творчества великого писателя русскими символистами» [112, с. 131]. Осознавая многоаспектность и широту темы, исследователь намеренно ограничивает её хронологически (1900-е годы, «до начала работы Белого над романом «Петербург») и тематически - изучением влияния Достоевского на духовное самоопределение Белого и эволюции отношения Белого к Достоевскому. Освещение последнего вопроса автору статьи «представляется небесполезным» на том основании, что суждения Белого о Достоевском, высказанные в разные годы, противоречат друг другу, и потому, будучи вырванными из контекста того или иного
периода творческого саморазвития Андрея Белого, могут привести к неправильным выводам [112, с. 131]. В процессе изменяющегося отношения Белого к Достоевскому ученый выделяет три этапа.
Начало первого этапа автор статьи датирует осенью 1897 года. Сам Белый, вспоминая об этом времени впоследствии, писал: «Ибсен и Достоевский становятся с той поры для меня каноном жизни»1. Усвоение Достоевского на этом этапе прошло у Белого под влиянием эсхатологических идей «отцов» русского символизма: Вл. Соловьева и Д. С. Мережковского, среди которых автор исследования особо выделяет второго как автора книги «Л. Толстой и Достоевский». Главный вывод Мережковского заключается в том, что«оба они [Толстой и Достоевский] завершают-де мировую словесность»2. Речь здесь идет реализации мифотворческой функции литературы и, о завершении эпохи собственно литературы, традиционного искусства. Дело в том, что подавляющее большинство русских символистов считали искусство способом преображения действительности. Точка зрения Д. С. Мережковского оказалась для них привлекательной потому, что согласно ей, мифотворческие эксперименты поборников «нового искусства» понимались как продолжение традиций русской классической литературы, точнее - Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского. Следовательно, «тайна всей будущей русской литературы», которую и предлагал разгадывать Д. С. Мережковский через изучение творчества Толстого и Достоевского [112, с. 134], может быть без преувеличения названа тайной русского символизма.
Начало разочарования Белого в Достоевском Лавров относит к концу 1901 года, ко времени создания второй «симфонии». «В Москве 1901 года, иронически запечатленной им во второй "симфонии"», «Белый стремился видеть свершающимся» «то, о чем поведал Достоевский» [112, с. 136]. Апо-
' Цнт по кн.: Лавров А. В. Достоевский в творческом сознании Андрея Белого (1900-е годы) // Андрей Белый: Проблемы творчества: Статьи, воспоминания, публикации. Сборник. М., 1988. С. 132. " Там же. С. 133.
калиптические пророчества Достоевского воспринимаются Белым уже не восторженно, а иронически и пародийно.
Статья «Ибсен и Достоевский» (декабрь 1905) с присущими ей оскорбительными высказываниями по адресу русского классика1 стала показательной для нового этапа эволюции. Суть претензии Белого к Достоевскому исследователь формулирует следующим образом: «Слабость Достоевского-художника, по Белому, — лишь прямое следствие его несостоятельности как пророка и вероучителя» [112, с. 139]. На основании высказанного мы можем построить следующий ряд логических умозаключений: русские символисты с легкого языка Д. С. Мережковского считали Достоевского одним из основоположников жизнетворческой традиции в русской литературе, следовательно, себя - его последователями. Но обещанный «отцами символизма» Апокалипсис не наступал, что, по мнению В. А. Сарычева, послужило причиной творческого и мировоззренческого кризиса Андрея Белого [150, с. 67]; напрашивался очевидный вопрос «Кто виноват?» и не менее очевидный ответ: тот, кто с самого начала задал тупиковое направление на пути к «свету» - Ф. М. Достоевский. Поэтому Белый обрушивается с критикой и на Достоевского как основоположника русского религиозного сознания. Автор статьи обвинял Достоевского в обращении к «чистому искусству», а не к «творчеству жизни»; но ведь и сам Белый делал то же самое, как заметил В. А. Сарычев [150, с. 78]. Поэтому - разоблачение «достоевщины» для Белого — это, по словам Лаврова, разоблачение и собственного «аргонавтизма» [112, с. 138, 140], и эсхатологической устремленности всего русского символизма.
Среди других причин, обусловивших гневный тон статьи «Ибсен и Достоевский», Лавровым отмечена и некоторая изначальная неприязнь к мотивам «душевного надлом, взвинченности <...> компрометировавшие, как ему [Белому - Р. К.] казалось высшие духовные откровения Достоевского»
Например, «у Достоевского не было крыльев орлиных, а быть может - нетоиыриные»; «мещанство, трусливость, нечистота, выразившаяся в тяжести слога - вот отличительные черты Достоевского»; «Досюевский слишком «психолог», чтобы не возбуждать брезгливости»; «он всю жизнь брал фальшивые ноты» [17, с. 195, 195-196, 196].
[112, с. 136]. В 1905 г. эта неприязнь только наложилась на общую картину кризиса личности Андрея Белого. В том, что отношение автора статьи к Достоевскому кардинально изменилось, исследователь также признает роль постороннего влияния людей, входивших в тогдашний круг общения Белого, в частности, упоминается Вяч. Иванов, А. Блок, О. М. Соловьева и «аргонавт» Н.М.Малафеев [112, с. 137].
Итак, «бунт» против Достоевского был, по существу, «бунтом» против эсхатологических установок русского символизма и против образа Достоевского-пророка, созданного Мережковским. Желанием «оправдаться» перед Мережковским объясняет исследователь следующие две работы Белого за 1906 год: статью «Достоевский. По поводу 25-летия со дня смерти» и рецензию на книгу А. Волынского. Общий смысл названных произведений сводится к следующему: хотя фигура Достоевского «полна изъянов и противоречий», но классик все же заслуживает преклонения, потому что «Его вопросы - наши вопросы»1 [112, с. 141, 142].
В статье «Ибсен и Достоевский» несложно заметить сходство точки зрения Белого с точкой зрения Мережковского, автора статьи «Пророк русской революции». «В душе своей носил Достоевский образ светлой жизни, но пути, ведущие в блаженные места, были неведомы ему» - писал Андрей Белый [11, с. 97]. Мережковский также признавал, что творчество Достоевского было направлено на «лучезарное семя новой жизни», но конкретные способы обретения «нетленного ядра истины», избранные Достоевским, религиозный модернист Мережковский считал недейственными и подвергал резкой критике. Статья Мережковского только была написана более сдержанным тоном, чем статья «Ибсен и Достоевский».
К 1908 г. Исследователь относит начало творческой истории романа «Петербург». По мнению А. Лаврова, роман изначально задумывался Андреем Белым в качестве опровержения эсхатологической концепции Ф. М. Дос-
1 Цит по кн.: Лавров А. В. Достоевский в творческом сознании Андрея Белого (1900-е годы) // Андрей Белый: Проблемы творчества: Статьи, воспоминания, публикации. Сборник. М., 1988. С. 142.
тоевского, хотя «к написанию "Петербурга" Белый приступил уже в иную пору своего творческого пути, роман все же оказался ориентированным на Достоевского» [112, с. 146-147].
Примерно к рубежу 1908-1909 гг. Лавров относит начало нового, третьего, этапа эволюции отношения Белого к Достоевскому. «Мироощущение Белого становилось сложно-синтетическим, органически вбирая и элементы преодоленного им специфически символистского "нигилизма" и "отчаяния", и обретение новых духовных стимулов - чувство "второй зари"» [112, с. 147]. Причиной «нового идейного поворота» указано «осознание трагизма окружающей действительности» [112, с. 147], которое, от себя добавим, никогда и не покидала Белого и никого из русских символистов.
Исследователь замечает, что именно в это время в творческом сознании Белого актуализируется историософская проблема «Восток» или «Запад». Идеи Достоевского становятся таким образом родственными Белому, в его сознании Достоевский снова выходит на первый план. К этому периоду Лавров относит следующие статьи Белого: «Слово правды» (осень 1908г.) и «Россия» (1910) [112, с. 148]. Главным произведением этого периода становится доклад Белого о Достоевском под названием «Трагедия творчества». Содержание доклада, резюмированное в статье, можно свести к трем положениям:
Рассуждения о «безумии» и «маниакальности» героев Достоевского присутствуют в «Трагедии творчества», но «звучат не приговором писателю, а как один из необходимых доводов в обосновании целостности и закономерности, созданного им [Достоевским -Р. К.] художественного мира»;
«Белый как бы перечисляет этапы своего усвоения творчества Достоевского»: сначала писатель казался ему религиозным проповедником, затем - пси-хологом-«изувером», наконец черты Достоевского слились у Белого в некий противоречивый, но целостный образ.
3. Судьбы героев Достоевского являют сочетание «безумия» и «святости», «эпилепсии» и «прозрения» [112, с. 149].
Статья Лаврова заканчивается тезисом, согласно которому доклад «Трагедия творчества», точнее - выраженные в нем иррациональная историософия России и концепция восприятия художественного мира Достоевского тесно связаны тематически с романом «Петербург» [112, с. 150]. Заключение это очень верное.
Итак, проблема «Достоевский - Белый» изучалась литературоведами исключительно как вопрос об отношении Андрея Белого к личности и творчеству Ф. М. Достоевского, в то время как проблема эта, по нашему мнению, гораздо глубже. Она заключается не столько в специфике восприятия Белым Достоевского, сколько в том, как оба писателя трактовали и выражали в своих произведениях «русскую идею», русское национальное сознание и в том, как они видели эсхатологическую судьбу России, эсхатологическое призвание русского народа. Рассмотрению указанной проблемы в таком её ракурсе посвящено данное диссертационное исследование.
В последние годы в культуре нашей страны усиливается внимание к вопросам русского национального сознания, особенно велик интерес к русской литературе. Взгляды русских прозаиков, поэтов и философов XIX - начала XX вв., таких как Пушкин, Гоголь, Чаадаев, Некрасов, Достоевский, Тютчев, Вл. Соловьев, Бердяев, Андрей Белый и др. с новой силой и с новыми подходами к этим взглядам изучаются сейчас как некая основа для выявления новой-старой «русской идеи», которая должна стать центром нового духовного объединения нации.
Мы расцениваем названную тенденцию (в разумных ее пределах) как, безусловно, положительный и необходимый ответ на общенациональный ду-
ховный кризис конца XX - начала XXI вв., спровоцированный отрывом культуры от национальных ее основ и ориентацией на западные образцы (и не на самые лучшие!). Произошел даже не синтез, а фактическая подмена одной культуры на другую.
Данное исследование мы рассматриваем в контексте вышеуказанной тенденции. Главная цель настоящей работы - раскрыть специфику русской национальной менталыюсти, отраженной в литературно-философском творчестве ее лучших носителей. Другими словами, мы попытаемся выяснить: каким образом «русская идея», полярности этой идеи отражаются в произведениях русской литературы.
Чтобы избежать при этом оперирования пустыми абстракциями, принципиально возможного при изучении идей вообще, необходимо найти некое направление, которое бы максимально дифференцировало изучаемую идею, и рассматривать идею в соотношении ее с данным направлением. Таким направлением русской мысли мы полагаем эсхатологию, и здесь необходимо сделать важное уточнение. В рамках «русской идеи» эсхатологические мотивы синтезировались с элементами мифологического мировоззрения, лежащего в основе русского народного сознания. Мы попытаемся выяснить причины, по которым этот синтез стал возможен.
Петербург, будучи городом европейским и воплощающим к тому же прозападные идеалы Петра Первого, в философии и литературе интересующего нас периода, XIX - начала XX вв., изображается чаще всего как явление враждебное русскому православному мессианству и ассоциированное с антихристианскими силами. Говоря точнее, в раскрытии темы Петербурга русскими писателями и философами сталкиваются и приходят в соприкосновение два типа мессианской идеи: 1) идея национального, православного избранничества и 2) антихристианского, человекобожеского. Истоки двух названных типов мессианства, по нашему мнению, следует искать в сфере мифологии и эсхатологии.
Однако подвергнуть основательному исследованию всю русскую литературу указанного периода - задача трудиовыполнимая в масштабе одной работы ввиду чрезвычайной обширности предмета. Поэтому необходимо ограничиться изучением художественно-философского наследия наиболее ярких, на наш взгляд, представителей русской литературы на разных этапах ее развития, исповедовавших идею русского национального избранничества. Мы остановили наш выбор на Ф. М. Достоевском как представителе классической литературы XIX в. и Андрее Белом как теоретике и практике русского символизма эпохи рубежа веков.
Для системного и целостного подхода к раскрытию темы Петербурга в прозе Достоевского мы считаем возможным сосредоточить свое внимание, в первую очередь, па ранних произведениях писателя: повестях «Бедные люди» и «Двойник», открывающих тему Петербурга в творчестве классика и затем - на романах эпохи сформировавшейся эсхатологической и философской позиции Достоевского: «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы».
Чтобы понять механизм оформления системы эсхатологических воззрений Андрея Белого, для нас важно обращение к произведениям разных периодов его столь противоречивого и драматического творческого саморазвития: от юношеских художественных опытов создания «мистерии» «Пришедший» до романа «Петербург» и более внимательное изучение ключевых для нашей темы сочинений, которыми считаем «Серебряный голубь» и уже упомянутый «Петербург».
Итак, основные задачи настоящего исследования: определить и охарактеризовать составляющие «русской идеи», выяснить и указать причины, по которым в ней произошло искажение эсхатологии элементами мифологического сознания1;
Здесь її далее в работе термины «мифологическое мировоззрение» и «мифолої ическое сознание» используются как синонимичные.
доказать, что в восприятии реформ (и самой личности) императора Петра Первого народным сознанием большую роль сыграла мифология, лежащая в основе «русской идеи»;
сравнить, как трактуется идея Конца Света в христианской традиции и в мифологии;
выявить сущность и механизм оформления идеи национального мессианства;
раскрыть содержание эсхатологической системы взглядов Ф. М. Достоевского;
уяснить специфику образа Петербурга в романах Достоевского, указать и осмыслить значимость этого образа в эсхатологической системе взглядов писателя;
доказать, что христианская (точнее говоря, эсхатологическая) и языческая (или мифологическая) составляющие «русской идеи» имели большое значение для формирования философско-мировоззренческой базы русского символизма;
раскрыть содержание и эволюцию эсхатологической системы взглядов Андрея Белого, выявить роль определенных выше полюсов «русской идеи» в контексте этой системы; показать место образа города Петербурга в этой системе;
показать и раскрыть мифологический и эсхатологический подтекст ключевых образов-символов романа «Петербург»: города Петербурга, Медного Всадника, Аполлона Аполлоновича Аблеухова, Сатурна и Аполлона, Красного домино Николая Аполлоновича, Белого Домино;
сравнить эсхатологические концепции Достоевского и Андрея Белого, определить: в каких именно пунктах своей историософской теории Белый следует традициям Достоевского;
выяснить, что роднит Андрея Белого с Достоевским в их отношении к «русской идее», и ее художественном воплощении, и что отличает их
идеологические, социальные позиции, религиозно-мировоззренческие и эстетические установки в решении русских «проклятых вопросов».
Научная новизна представленной работы заключается в изучении эсхатологических систем Достоевского и Андрея Белого через различные грани «русской идеи», в том числе - и через ее мифологический аспект, упорно замалчиваемый исследователями. При этом одни ученые, принадлежавшие в основном к советской литературоведческой школе, акцентировали внимание на социальной или социально-психологической проблематике (большей частью — по отношению к Достоевскому1), а другие изучали творческое наследие обоих писателей в ракурсе отношения их [писателей] теорий к религиозно-христианским (в том числе и эсхатологическим) доктринам".
Нам представляется очевидным следующее: мифологические образы, сюжеты и идеи занимают важное место как в религиозно-философских построениях названных выше писателей, так и собственно в их литературном творчестве; что, впрочем, замечают очень немногие ученые3. Среди последних необходимо особо отметить уже упомянутого выше А. Лаврова как автора монографии «Андрей Белый в 1900-е годы. Жизнь и литературная деятельность». Именно Лавров прямо говорил о сложном единстве мифологии и эсхатологии в сознании Андрея Белого: «аргонавтический» миф воплощался <...> в разновидность мифа эсхатологического: искание «золотого руна» уподоблялось устремлению к солнцу» [113, с. 115]. Однако в общем в серьезных литературоведческих изысканиях не уделялось достаточного внимания
Например, Д. И. Писарев («Борьба за жизнь»), Н. А. Добролюбов («Забитые люди»), Ю. Г. Кудрявцев («Бунт или религия (о мировоззрении Ф. М. Достоевского)»), Г. М. Фридлендер («Реализм Достоевского»), В. Я. Кирпотин («Ф. М. Достоевский. Творческий путь (1821-1859)»), Е. П. Саруханян («Достоевский в Петербурге»), В. Д. Днепров («Идеи, страсти, поступки. Из художественного опыта Достоевского»), М. С. Гус («Идеи и образы Ф. М. Достоевского») и др.
2 Например, И. И. Гарин («Многоликий Достоевский»), В. К. Катор («"Братья Карамазовы" Ф. Достоевского»), И. И. Евлампиев («Кириллов и Христос. Самоубийцы Достоевского и проблема бессмертия»), К. В. Мочульский («Андрей Белый»), Л. К. Долгополов («На рубеже веков», «Андрей Белый и его роман "Петербург"», «Начало знакомства: О личной и литературной судьбе Андрея Белого») и др.
См. Ю. И. Селезнев («В мире Достоевского»), О. Г. Дилакюрская «Петербургская повесть Достоевского»), М. Л. Спивак (статья «Лейбниц, Круп и доктор Доннер», вошедшая позже в виде главы монографии «Андрей Белый - мистик и советский писатель»), К. Р. Попова «Символика выражения философемы Восток -Россия - Запал: на материале романов "Петербург" и "Москва") и др.
изучению роли мифологического сознания в идее русского национального мессианства и в произведениях литературы, отражающих эту идею.
В отдельных случаях элементы мифологической символики, если и упоминаются исследователями применительно, например, к «Двойнику» и «Петербургу», то для их обозначения многократно эксплуатируются термины «нереальный», «фантастический», «призрачный» «мистический» и т. д., искажающие, как мы считаем, сам смысл понятия «мифологический». Ярким примером такого «искажения» может служить кандидатская диссертация А. А. Новик «Романы Андрея Белого "Серебряный голубь" и "Петербург": Нереальное пространство и пространственные символы». К заявленному в названии работы «нереальному пространству» ученый приравнивает всю топонимику «Серебряного голубя» и «Петербурга». Сводится или нет пространство упомянутых произведений к одной только мифологии - вопрос сложный, в любом случае мифология, безусловно, является важной составляющей указанного пространства. Однако одним из признаков «нереального» или «голубиного» пространства в «Серебряном голубе» Новик называет «полярную перемену традиционной мифопоэтической принадлежности существа, предмета или явления к Добру или Злу» [129, с. 33-34]. То есть, исследователь разводит «нереальное пространство» с мифологией.
В данной работе выявление мифологического подтекста идей и образов прозы Достоевского и Белого в синтезе мифологии с подтекстом эсхатологическим поставлено в центр внимания, поскольку, по нашему мнению, именно такая трактовка петербургской темы позволяет рассматривать эту тему в контексте исследования специфики «русской идеи».
Методологической основой исследования является философско-культурологическое истолкование, культурно-исторический комментарий, символико-мифологическая интерпретация.
«Русская идея» и её роль в оценке «дела» Петра. Мифология и эсхатология
О «русской идее», ее уникальности (в ряду других национальных идей), обуславливающей религиозно-философскую окрашенность явлений русской духовной культуры, в свое время писали многие выдающиеся представители этой культуры, что было, своего рода, актом общекультурного самосознания. Наиболее обстоятельными в ряду сочинений на указанную тему нам представляются работы Н. А. Бердяева «Судьба России» (1918) и «Русская Идея» (1946), поэтому в данном разделе мы будем опираться в основном на них.
Бердяев выдвигает следующие тезисы, на основании которых можно, по нашему мнению, сделать определенные суждения о содержании русской национальной ментальности:
1. «Противоречивость и сложность русской души, может быть, связана с тем, что в России сталкиваются и приходят во взаимодействие два потока мировой истории — Восток и Запад. И всегда в русской душе боролись два начала, восточное и западное» [20, с. 14].Так как Бердяев четко не определяет, в чем же состоит различие между философией жизни «восточного» и «западного»1 человека, мы воспользуемся выдержкой из книги «Золотая Ветвь» известного исследователя религии Д. Д. Фрейзера: «С распространением восточных религий, которые внушали мысль о том, что единственно достойной целью жизни является соединение с богом и личное спасение (курсив наш - Р. К.), а благоденствие и даже само существование государства в сравнении с ним ничего не значат ... высочайшим идеалом человека в народном представлении стал святой отшельник, полный презрения ко всему земному и погруженный в экстатическое религиозное созерцание. ... Людям, чьи взоры были устремлены к заоблачному Граду Божьему, град земной стал казаться низменным и жалким. ... Начался всеобщий процесс дезинтеграции общества» [178, с. 473-474].
«Восточным религиям» Фрейзер противопоставляет «исконные принципы ... жизненной ориентации» европейцев — «трезвый, мужественный взгляд на жизнь» и «готовность подчинить свои частные интересы общему благу» [178, с. 474]. На наш взгляд, это высказывание как нельзя более точно определяет сущность дифференцирования культур «Запада» и «Востока», т. е. с одной стороны, религиозный абсолютизм, ассоциируемый у Фрейзера с «Востоком»; с другой - рационализм и идеология тоталитаризма как определяющие черты сознания людей «западного» культурного толка. 2. Бердяев говорит о наложении «природной, языческой дионисической стихии» в душе русского человека на «аскетически-монашеское православие» [20, с. 14]. У нас есть основания предположить, что заявленное философом положение вещей стало возможным после и по причине того, что князь Владимир принял православие, руководствуясь политическим соображениям, народ же обратился в христианство лишь внешне, механически, в душе же по неграмотности и/или по упрямству остался, в большей степени, народом языческим. Последний тезис нуждается, однако, в дальнейшем уточнении.
Мысль о политическом подтексте крещения Руси подтверждает С. М. Соловьев. По его мнению, выявление несостоятельности язычества перед христианством было обусловлено закономерностью исторического развития [166, с. 169-171]. Когда же историк пытается определить суть этой закономерности, он заключает следующее: «Религия [т. е. язычество - Р. К.], удовлетворявшая рассеялиым (курсив наш - Р. К.), особо живуїцим племенам, не могла более удовлетворять киевлянам» [166, с. 171]. На основании приведен- ного высказывания можно предположить, что принятие христианства во многом преследовало цель централизации государственной власти киевского князя над географически и политически «рассеянными» прежде славянскими племенами. В пользу нашей версии говорит также и тот факт, что еще до принятия христианства Владимир предпринял неудачную попытку религиозно-политической реформы на основе язычества: «Бог Перун был провозглашен верховным общеславянским богом. Это понадобилось для того, чтобы идеологически укрепить и обосновать господствующее положение Киева над остальными восточнославянскими племенами» [110, с. 227]. События же, непосредственно предшествовавшие крещению, такие, например, как корсун-ский поход Владимира, женитьба на царевне Анне и чудесное исцеление князя от болезни глаз С. Соловьев называет всего лишь «знамениями», которые сподвигли Владимира к окончательному принятию уже подготовленного решения [166, с. 173, 174-175].
По мнению Н. И. Костомарова, принятие князем Владимиром христианства от Византии стало причиной целого комплекса социальных изменений в жизни Киевской Руси, в том числе и внутриполитических изменений: «Варварский склад общественной жизни изменяется с принятием христианской религии, с которою из Византии - самой образованной в те времена державы перешли к нам как понятия юридические и государственные (курсив наш - Р. К.), так и начала умственной и литературной деятельности» [105, с. 4]. Похожую мысль проводит и В. О. Ключевский: «Вместе с христианством стала проникать на Русь струя новых политических понятий и отношений. На киевского князя пришлое духовенство переносило византийское понятие о государе, поставленном от Бога не для внешней только защиты страны, по и для установления и поддерзісания внутреннего общественного порядка (курсив наш -Р. К.)» [99, с. 141].
Здесь будет уместным заметить, что согласно «Повести временных лет» главным критерием при выборе Владимиром новой веры стал внешний аффект. «Это вполне соответствовало стилю языческого мышления» [110, с. 235]. Прочие события, предшествовавшие крещению Руси и последовавшие сразу за ним, также не лишены языческой подкладки. Например, «суд» над опрокинутым идолом Перуна с волочением и битьем последнего есть, по сути, языческое действо: в основании его лежит древнейшее мифологическое представление об одухотворенности неживых предметов (деревянного идола) и, следовательно, способности испытывать боль [110, с. 240]. Можно привести примеры, подтвержденные археологическими данными, такие как устройство домовых церквей на Руси в 11-12 вв., которые становились своеобразными домашними святынями; обычай в ходе похоронного обряда класть в могилу пищу, которая, согласно языческим представлениям об устройстве Космоса, должна была понадобиться умершему в загробном мире [110, с. 292-293, 303] и т. д. Эти и другие подобные примеры из русской истории подтверждают следующее: «Если поставить вопрос о том, что в большей степени определяло мировоззрение древнерусского общества: язычество или христианство, то можно, не боясь преувеличений, сказать: язычество. Данный ответ обусловлен существованием на Руси 11-12 столетий оязыченного христианства, то есть «двоеверия», с одной стороны, и чистого язычества - с другой» [1 10, с. 328]. «Самое древнее русско-славянское язычество не имело определенного характера, общего для всех, в смысле положительной религии, и состояло из множества суеверий и представлений, которые при невежестве и впоследствии легко уживались с наружным принятием христианства (курсив наш - Р. К.). Борьба язычества с христианством выражалась пассивно: продолжительным соблюдением языческих приемов жизни и сохранением языческих суеверий: такая борьба происходила многие века после Владимира; но она не мешала русскому народу принять крещение, в котором сначала он не видел ничего противного, потому что не понимал его смысла. Только постепенно и для немногих открывался действительно свет нового учения» - заключает по этой проблеме Костомаров [105, с. 6]. В смешении языческих «суеверий и представлений» «с наружным принятием христианства» - суть феномена двоеверия. И поныне русский человек «украшает» свой дом прибитой над порогом подковой, мирно соседствующей с православной иконкой.
Эволюция образа Петербурга в ранних произведениях Ф. М. Достоевского («Бедные люди», «Двойник»)
В 1876 г., в октябрьском выпуске «Дневника писателя», Достоевский высказал следующую мысль: «Простота враг анализа. Очень часто кончается ведь тем, что в простоте своей вы начинаете не понимать предмета, даже не видите его вовсе .. . Это именно происходит у нас от взаимной, долгой и все более и более возрастающей оторванности одной России от другой. Наша оторванность именно и началась с простоты взгляда одной России на другую. Началась она ужасно давно, как известно, еще в Петровские времена, когда выработалось впервые необычайное упрощение взглядов высшей России на Россию народную, и с тех пор, от поколения к поколению, взгляд этот только и делал у нас, что упрощался» [71, с. 144]. Под «упрощением взглядов» писатель имел в виду нежелание и неспособность «высшей России», интеллигентской России должным образом понять «народное, тихое и смиренное, но твердое и сильное слово» [71, с. 143], под «оторванностью одной России от другой» - кризис, заключающийся в разрыве духовных связей между разными слоями русского общества. Так как, по мнению Достоевского, процесс «необычайного упрощения» начался «еще в Петровские времена», можно предположить, что указанный кризис писатель считал для России важным следствием петровских преобразований и что исследование этого кризиса в значительной степени организует раскрытие темы Петербурга в творчестве Достоевского.
Похожую мысль писатель высказывает уже в самом первом своем произведении, романе «Бедные люди», открывающем тему Петербурга Достоевского. Проблема «оторванности одной России от другой» выражается в произведении через описание превратностей петербургского климата, интерес Достоевского к которому поэтому не случаен. Отсюда - понятное противопоставление мира Петербурга как воплощения его «оторванности» от национальной, народной почвы, обусловленной человекобожескими амбициями Петра, и мира русской деревни (в воспоминаниях Вареньки), «неиспорченного» цивилизацией. («Когда мы оставляли деревню, день был такой светлый, теплый, яркий; сельские работы кончались; на гумнах уже громоздились огромные скирды хлеба и толпились крикливые стаи птиц; все было так ясно и весело, а здесь, при въезде нашем в город, дождь, гнилая осенняя изморозь, непогода, слякоть и толпа новых, незнакомых лиц, негостеприимных, недовольных, сердитых!» [61, с. 27].
В приведенной цитате есть два момента, которые, по нашему мнению, и дают ключ к пониманию специфики художественного метода раннего Достоевского. Обе части этой ключевой фразы: «было так ясно и весело» и «слякоть и толпа незнакомых лиц, негостеприимных, недовольных, сердитых» — говорят об одном и том же, но с противоположных сторон, т. к. ставят в один изобразительный ряд свойства человеческой души (веселье, негостеприимность, недовольство, сердитость) и события внешние («ясно» и «слякоть»). Только в первом случае происходит сцепление факторов метеорологических с психологическими на основе положительной характеристики (деревня), а во втором - на основе отрицательной (Петербург).
Соотнесенность внутреннего и внешнего планов действительности в рамках образа Петербурга у Достоевского отмечена многими исследователями. Например, о наличии «психологического подтекста» в пейзаже Достоевского пишет С. М. Соловьев в монографии «Изобразительные свойства в творчестве Ф. М. Достоевского»: «Это пейзаж, вызывающий тоскливое, унылое чувство и настроение подавленности. В этом пейзаже - отражение жизни униженных и угнетаемых, людей» [165, с. 166].
То же утверждает Н. П. Анциферов в книге «Петербург Достоевского»: «Мокрый снег - обычная черта ландшафта повестей Достоевского. .. . Этот постоянно мокрый снег есть внешнее выражение переживаний персонажей Достоевского, поэтому он приобретает такую власть над ними, толкает их на безумные поступки» [5, с. 209].
Е. П. Саруханян в исследовании «Достоевский в Петербурге» пишет о психологизме городского пейзажа как о характерной черте творчества писателя, проявившейся в романе «Бедные люди»: «Городской пейзаж помогает понять настроения героев, их чувства. Город мы видим здесь сквозь восприятие главного героя» [149, с. 43].
Тема Петербурга ко времени Достоевского не была новой в русской литературе. Долгополов в монографии «На рубеже веков» писал о двух направлениях, «по которым создавалась в XVIII и начале XIX века легенда о северной столице ... В одном случае силы, вызвавшие Петербург к жизни, имеют божественный характер ... В другом случае силы, вызвавшие Петербург к жизни, интерпретируются как проявление зла, как силы губительные по отношению к национальному началу и, следовательно, антинародные и антибожеские» [55, с. 158-159]. Из многих писателей, внесших свой вклад в создание «легенды о северной столице», исследователь особо выделил А. С. Пушкина, который, по мнению Л. К. Долгополова, «предпримет попытку ... создать синтетический образ Петербурга ... Петербург вступления к поэме (город Петра, перед которым «померкла старая Москва») и Петербург собственно поэмы (город Медного всадника и несчастного Евгения) - вот два главных облика северной столицы» [55, с. 165].
Автор «Медного Всадника» ставит во многом ту же проблему, что позже заинтересует и Достоевского, а именно: посягательство амбиционной личности на сам порядок вещей, установленный Творцом. Поэтому образ Петербурга у Пушкина, как и у Достоевского, - символ человеческого, царского тщеславия Петра, его гордости и амбиций. Позднее, в романе «Братья Карамазовы», Достоевский прямо заявит об инфернальном характере подобной человекобожеской жизненной позиции: «О гордости же сатанинской (курсив наш - Р. К.) мыслю так: трудно нам на земле ее постичь, а потому сколь легко впасть в ошибку и приобщиться ей, да еще полагая, что нечто великое и прекрасное делаем» [67, с. 290].
Апокалиптические мотивы у Пушкина ярче выражены, и образ Петербурга более катастрофичен. Главное же различие между Пушкиным и Достоевским в том, что у первого метеорологический катаклизм (наводнение) воспринимается как наказание человеку за «гордость сатанинскую», и орудием наказания оказывается природа, т. е. внешний по отношению к человеку фактор. Таким образом, природа в «Медном Всаднике» как «божия стихия» [145, с. 177] не ассоциирована с внутренним миром человека, а наоборот- противопоставлена человеку, исповедующему мораль «гордости сатанинской».
Роман «Петербург» в контексте историософской концепции Андрея Белого
Как это часто бывает, общественные события отражаются на общих мировоззренческих а, значит, и на литературных тенденциях. Так, во Франции приход к власти Наполеона Первого положил конец завоеваниям французской буржуазной революции а заодно и революционному романтизму в литературе, в результате - культурный кризис и смещение романтизма из сферы социальных вопросов в область мистики и мифологии. Похожим образом ситуация повторилась примерно сто лет спустя в России: мифотворческие концепции русских символистов во многом определяла идея грядущего апокалипсического преображения мира, что, в известном смысле, означало крушение капиталистического строя; поражение революции 1905 года привело к разочарованию в этих эсхатологических ожиданиях. Андрей Белый был одним из многих разочаровавшихся. Возникла творческая потребность в новом источнике духовного возрождения человека. Вслед за Некрасовым, Достоевским, Вл. Соловьевым и др. Белый начинает видеть этот источник в духовном потенциале самой России, и ее народа. Так, тема России и «русской идеи» становится центром творческих исканий писателя. Главным итогом преодоления мировоззренческого кризиса стала «некрасовская» книга стихов Белого «Пепел», вышедшая в свет в конце 1908 г.
Согласно утверждению Л. К. Долгополова, «Проблема России как некоего комплекса элементов не только географических, исторических и социальных, но и нравственно-психологических, прочно связанных с соответствующими элементами Запада - с одной стороны, Востока — с другой; еще не была ни у Пушкина, ни у Достоевского. Россия и Запад - именно и только так ставилась проблема русской истории на протяжении XIX века» [55, с. 185]. По мнению исследователя, проблема России в ее отношении не только к «Западу», но и к «Востоку» актуализировалась в отечественной литературе и философии после поражения нашей страны в русско-японской войне [55, с. 57]. В этом смысле замысел трилогии «Восток или Запад», задуманный и оформленный Андреем Белым с 1905 по 1911 гг., вполне согласуется с общим направлением русской религиозно-философской мысли эпохи рубежа XIX-XX вв.
Художественное пространство повести представляет собой иллюстрацию к историософской концепции Андрея Белого: имение баронессы символизирует «Запад», город Лихов - «Восток», место собраний сектантов в доме купца Еропегина, село Целебеево (от слова «целое») — Россию, которая содержит в себе оба начала, «западное» и «восточное», там же — истоки сектантства, изба Кудеярова.
Согласно авторскому замыслу повесть «Серебряный голубь» (как первая часть названной выше трилогии) должна была выявить и разоблачить негативную тенденцию «восточного» культурного сознания, ориентированного на достижение «личного спасения», согласно Д. Фрейзеру. Вот как сам Андрей Белый осмысливает уже в 1914 году, после окончания романа «Петербург» (второй части трилогии), символическое содержание повести: «"Серебряный голубь"» — это Восток без Запада; а потому тут встает Люцифер (голубь с ястребиным клювом)» [16. с. 13].
Однако, на наш взгляд, это заявление нуждается в обстоятельном разъяснении, и разъяснение потребует обращения к мифологической символике, которая в «Серебряном голубе» как в символистском произведении играет ключевую роль.
Центральный символ повести - образ Серебряного Голубя: «Из-под постели выдвинули потом тяжелый сундук; потаскали оттуда сосуды длинные, до полу, из белого холста рубахи, кусок огромный голубого шелка, с на нем нашитым человечьим сердцем из красного бархата и с терзающим то сердце белым бисерным голубем (ястребиный у голубя вышел в том рукоделии клюв)» [16, с. 81].
Далее мы попытаемся расшифровать содержание этого образа, которое, по нашему мнению, складывается из следующих составляющих:
1. В рамках мифологической символики серебро ассоциировалось с Луной, потому что в народном представлении, как утверждает Шапарова, лунный свет «сравнимы с серебром» [186, с. 336]. К самой же Луне, как и к любому иному элементу Космоса, отношение язычников было двойственное, поскольку принцип дуализма во многом определял сознание человека дохристианской эпохи. Различали прибывающую, или «белую» луну и убывающую, или «черную»; но чаще Луна противопоставлялась Солнцу, как божество ночного света противопоставляется божеству дневного света. Отсюда — понимание Луны как «Солнца» загробного мира, как покровительницы колдовства, упырей, чертей, волкодлаков и прочей «нечистой» силы [186, с. 334-335]. Ястребиный клюв (т. е. установка на хищность и агрессию) указывает именно на принадлежность Серебряного голубя к «черной» Луне.
2. Упомянутый Андреем Белым Люцифер, чье имя означает буквально lucis («свет») + Гегге («носить»), т. е. «носитель света» [159, с. 350] или «несущий свет» относится авторами классических трудов по оккультизму XIX в. (например, Папюсом) к демонам Луны [135, с. 376, 379].
3. Символика голубя в мифологии не была положительной: «Русские народные поверья ... трактуют появление голубя как знак, предвещающий несчастья» [193, с. 96].
4. Голубь в христианской традиции - символ Святого Духа, третей ипостаси Святой Троицы. Шеллинг, под влиянием идей которого (как считает П. П. Гайденко) находился один из «отцов» русского символизма, Вл. Соловьев, связывал эту ипостась с эпохой преодоления и завершения времени, т. е. с Апокалипсисом [39, с. 87].
Итак, Серебряный Голубь в повести Андрея Белого — это Дух, «несущий свет» как бы божественной истины, долженствующий приблизить Апокалипсис, что, в соответствии с текстом «Откровения», приведет к преображению мира, спасению праведных и т. п. Но этот голубь па самом деле не Святой Дух, а - Люцифер, и «свет», который он несет - это «нечистый» свет «черной» Луны, духовная тьма.
Факт терзания Серебряным Голубем «человечьего» сердца - суть того же, о чем ранее писал Ф. М. Достоевский: «Помутилось сердце человеческое». Причины тому две.
1. Причина первая - это влияние идеологии «восточного» религиозного абсолютизма. Согласно теории Андрея Белого, эта идеология возникла не вдруг как Божье наказание России, а изначально была присуща русской национальной ментальности: «Россия — монгольская страна; у нас всех - монгольская кровь1, не ей удержать нашествие» [16, с. 229] - пишет автор повести. Серебряный Голубь сокрыт в глубине сердца русского человека, как в сундуке, и когда он оттуда извлекается, «русская идея» упрощается и сводится «Востоку», ориентируется на «личное спасение».
Творческая история романа «Петербург»
В 1910 г. в предисловии к повести Андрей Белый написал, что данная книга есть часть задуманной трилогии и что «большинство действующих лиц еще встретятся с читателем» [13, с. 11—12]. Осенью 1911 г. писатель приступил к работе над романом, который впоследствии получит название «Петербург», взяв обязательство представить первые двенадцать листов к январю 1912 г. для журнала «Русская мысль» [14, с. 555].
Однако, в процессе работы над новой книгой её первоначальный замысел претерпевает существенные изменения: образ Петербурга, в котором происходили задуманные события, выходит на первый план, заслоняя собой предполагаемую ранее главную сюжетную линию (о поисках Петра Дарьяль-ского), которая в окончательном варианте романа была удостоена только беглого упоминания.
Далее мы попытаемся разобраться: почему так произошло. А. В. Лавров в монографии «Андрей Белый в 1900-е годы» уделяет внимание проблеме автобиографизма и литературных заимствований в творчестве писателя. Исследователь заявляет о слабости собственно вымысла в прозе Андрея Белого, о том, что «Достоверности и убедительности ... Белый достигает тогда, когда непосредственно следует своему личному, биографическому опыту, либо когда строит художественную коллизию из заимствованных образов и сюжетных мотивов» [113, с. 15]. По нашему мнению, эта особенность творчества Белого, верно указанная Лавровым, сыграла свою роль в судьбе будущего романа. Два эпизода личной биографии Белого повлияли на оформление замысла произведения: 1) «петербургская драма» 1905 - 1906 гг. и 2) поездка в Египет в 1911 г.
Итак, в конце осени 1905 года, в Москве, писатель становится свидетелем событий первой русской революции. С одной стороны, необходимо учитывать, что революция воспринималась тогда Белым, во многих отношениях, в контексте апокалиптической теории «мирового пожара», поэтому неудивительна, например, такая реакция писателя на новость о бунте броненосца «Потемкин»: «Началось: навести бы орудия на все Одессы, столицы, усадьбы; и жарить гранатами!» [14, с. 33]. С другой стороны, действительность подействовала на Белого и отрезвляюще. Происходит убийство Н. Баумана, похороны которого вылились в столкновение студентов с вооруженной толпой манифестантов-националистов, что закончилось массовым расстрелом первых. Все эти и подобные события заставляют Андрея Белого задуматься о цене всеобщего счастья, о том, стоит ли «высшая гармония» стольких человеческих жертв? Вот как он сам характеризует свое оценку обещания привести к «вечному счастью»: «Я ж воспринял: "впервые поведем" - через что?» [14, с. 47].
В декабре 1905 г. Белый уезжает в Петербург. Чтобы понять причины, побудившие его к отъезду, нам необходимо вернуться к событиям 1901 г. Тогда Андрей Белый через будущего теоретика младосимволизма, Сергея Соловьева, знакомится с творчеством молодого поэта (и дальнего родственника С. Соловьева) Александра Блока. В январе 1903 г. между Белым и А. Блоком завязалась переписка, перешедшая затем, в 1904 г., в личное знакомство и в дружбу, в дальнейшем отношения их осложнились. Ситуация вышла почти хрестоматийная: Андрей Белый влюбился в жену Блока, Любовь Дмитриевну Менделееву. При отъезде из блоковского имения, где Белый гостил летом того же 1905 г., он передал ей любовную записку с признанием. Находясь в Москве, Белый засыпает Любовь Дмитриевну письмами, в символистско-соловьевском духе сравнивая ее Россией, которую надо спасать. Но в самой России в это время (в начале первой русской революции) - телеграфная забастовка - писать невозможно, и Белый лично едет в Петербург [133, с. 263, 266], чтобы окончательно выяснить отношения.
Надо заметить, что и сам А. Блок отчасти давал повод к роману Белого с Любовью Дмитриевной. Отношения в семье Блоков были сложные: поэт воспринимал свою жену и как земную женщину, и как «Прекрасную Даму», путаница эта во многом была подогрета друзьями-символистами Блока (в первую очередь - С. Соловьевым). Белый же довольно быстро понял, что в его любви к Любе не было «ни религии, ни мистики» [133, с. 270-276]. «Объятья поэта [А. Блока — Р. К.], открывшие мне роковой Петербург, означали одно: «Боря1, — я устранился» [14, с. 55] - так Белый подвел итог своей решающей встречи с Блоками.
Однако, роман Белого с Л. Д. Блок не удался, что послужило причиной нервного срыва писателя. Получив окончательный отказ в сентябре 1906 г. Белый уезжает в Москву, затем за границу, в Мюнхен.
Напряженное психическое состояние, в котором Белый пребывал с декабря 1905 по сентябрь 1906 гг., наложило определенный отпечаток на восприятие писателем Петербурга. Иначе говоря, образ города, как и в ранних романах Достоевского, стал отражением внутреннего мира человека, в данном случае - Белого. Затем в сознании будущего автора «Петербурга» причина и следствие поменялись местами, и детали «рокового Петербурга» стали восприниматься Белым уже в качестве причины его стрессового состояния. Неудивительно поэтому, что образ города стал обретать в сознании Андрея Белого демонические черты. Позже Белый признает некоторую общность в восприятии Петербурга между собой и Ф. М. Достоевским: «Да, такие деньки - Достоевский описывал! ... вопила Нева пароходиком; копоти, выгнувшись, падали в черную воду» [14, с. 90].
Так, в авторском сознании постепенно вырисовывается будущий центральный образ романа - город-Петербург как чудовище, раздваивающее людей, превращающее их в двойников, в «тени»; писатель говорит о перенесении им этих образов в роман: «Все страницы его [романа - Р. К.] переполнены роем теней, не людей; я таким видел город (курсив наш - Р. К.), когда небывалый туман с него стер все живое» [14, с. 91-92]. Много лет спустя, в мемуарной трилогии Белый прямо заявил, что «сентябрь (1906 г. - Р. К) - собрал весь материал к "Петербургу", написанному в 1912 году» [14, с. 86].
Первой жертвой «раздвоения» стал сам Андрей Белый: «Я рухнул; поднялось "красное домино" в черной маске, с кинжалом в руке, чтобы мстить за святыню: в других и в себе» [14, с. 70]. Красное домино - это двойник самого Белого, и вместе с тем - эсхатологический символ: оно повторяет окрашенные кровью одежды ангела, идущего на войну при Армагеддоне1. «Мстить за святыню» и значит для Белого воевать с «мировым злом» или «вступить на дорогу... Ивана Каляева», революционера, террориста, эс-сера. С другой стороны, писатель не скрывает, что причиной раздвоения его личности стал неудавшийся роман с Л. Д. Блок. «Я предстану перед Щ." в домино цвета пламени, в маске, с кинжалом в руке» [14, с. 85] -личные мотивы переплелись в расстроенном сознании Андрея Белого с эсхатологическими теориями, поэтому желание отомстить возлюбленной было воспринято им в контексте борьбы с апокалиптическим злом.
Но если сам Белый ограничился только намерениями, персонаж романа «Петербург», Николай Аполлонович Аблеухов идет дальше: он, действительно, сотрудничает с террористами и предстает перед отвергнувшей его возлюбленной на балу, облачившись в костюм «красного домино». На наш взгляд, подобный авторский ход Белого очень напоминает известный в практике язычников прием перенесения злых сил на некий посторонний объект, в данном случае - на Николая Аполлоновича. «Зная, что на плечи другого можно переложить вязанку хвороста, камни или что-нибудь в этом роде, первобытный человек воображает, что он может равным образом переложить на его плечи бремя своих тягот и заставить другого страдать вместо себя» [179, с. 220]. Примерно также поступил и Андрей Белый, стремясь магическим образом избавиться от наваждения, от собственной оживотворенной идеи1, принявшего вид «красного домино».