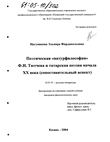Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Лирическая система И. Анненского 33
1.1. Поэтическая аксиология И. Анненского .34
1.2. Философская природа лирики И. Анненского 41
1.3. Жанровая игра в поэзии И. Анненского 54
1.4. «Поэтика отражений» в лирической системе И. Анненского .64
Глава 2. Миф об И. Анненском в русской поэзии .116
2.1. Образ И. Анненского как учителя поэтов 117
2.2. «Вокзальный» мотив поэтического мифа об Анненском .152
2.3. Переосмысление поэтического мифа об И. Анненском в русской лирике конца ХХ – начала XXI веков 156
Глава 3. И. Анненский и акмеисты 179
3.1. И. Анненский и Н. Гумилев: Учитель и ученик 189
3.1.1. Живой диалог в 1900-е годы .189
3.1.2. «Жемчуга» (1910): феномен многонаправленной реминисцентности .196
3.1.3. «Чужое небо» (1912) и «Колчан» (1916): эстетика и поэтика аполлонизма 219
3.1.4. Замирание поэтического диалога с И. Анненским в поздней лирике Н. Гумилева 235
3.2. И. Анненский и О. Мандельштам: поэтика «тоски по мировой культуре» 245
3.2.1. Антиномия «ничейного» и «своего» стиха в книге «Камень» .248
3.2.2. Мандельштамовский вариант «эллинизации» русской поэзии 257
3.2.3. Проблема Гамлета: от Анненского к Мандельштаму 276
Глава 4. И. Анненский и русская эмигрантская поэзия первой волны . 283
4.1. Диалог с И. Анненским в поэзии «младших акмеистов» .302
4.1.1. Г. Адамович – И. Анненский 302
4.1.2. Г. Иванов – И. Анненский .319
4.2. И. Анненский и поэты «парижской ноты» .345
4.2.1. А. Штейгер – И. Анненский 345
4.2.2. И. Чиннов – И. Анненский 365
Глава 5. И. Анненский и русская поэзия ХХ в. в метрополии 383
5.1. И. Анненский и Б. Пастернак: поэтика сопряжения быта и бытия .385
5.2. И. Анненский – Вс. Рождественский: Царскосельский ореол поэтического диалога .401
5.3. И. Анненский – А. Кушнер: эстетические принципы аполлонизма в современной поэзии 417
Заключение 430
Условные сокращения 435
Библиография
- Философская природа лирики И. Анненского
- «Жемчуга» (1910): феномен многонаправленной реминисцентности
- Г. Адамович – И. Анненский
- И. Анненский – Вс. Рождественский: Царскосельский ореол поэтического диалога
Введение к работе
В реферируемой диссертации творчество И. Анненского и русская поэзия XX века поставлены в положение взаимного освещения. Такой угол зрения на историю русской поэзии обусловлен культурно-философским контекстом идей персонализма, которые нашли выражение не только в философском течении предыдущего столетия, но и в одной из ветвей русской поэтической традиции, в центре которой оказалась лирическая система И. Анненского. Монографические и диссертационные исследования об Анненском последних десятилетий (А. Е. Аникина, А. В. Боровской, Н. Гамаловой, А. С. Дубинской, Г. В. Петровой, И. Э. Чернакова и др.) подготовили почву для описания оригинальной поэтической системы, созданной И. Анненским. Опираясь на символику поэта, в своей работе мы даем ей условно-метафорическое определение - «поэтика отражений». Ключевым свойством этой поэтики, на наш взгляд, является принцип диалогического взаимодействия «Я» и «Не-Я». Этим обусловлен и другой важный термин, используемый в работе -поэтический диалог.
В современной филологии термин поэтический диалог имеет несколько значений. Лингвопоэтическое его толкование содержится в диссертации Т. В. Бердниковой «Диалог в поэтическом тексте как проявление идиостиля: на материале лирики А. А. Ахматовой и И. Ф. Анненского» (2008), в которой он изучен как «структурный компонент лирического произведения, имитирующий живую диалогическую речь». В нашей работе поэтический диалог понимается литературоведчески - как архитектонический принцип завершения эстетического объекта, реализуемый в смысловой целостности художественного произведения в отношении «Я» - «Другой».
Постановка проблемы И. Анненский и русская поэзия XX века опирается не только на свойства лирики И. Анненского, но и на сложившееся в течение предыдущего столетия особенное восприятие его творчества как «передаточного звена» от «золотого века» русской поэзии (XIX) через «серебряный» (рубеж XIX -XX) к «железному» («некалендарному XX веку») в мифопоэтически осмысленном пути русской культуры.
В работах современных литературоведов А. Е. Аникина, М. Баскера, Л. Г. Кихней, Л. А. Колобаевой, А. Люнггрен, Дж. Такер, Р. Д. Тименчика и др. содержится ряд наблюдений о влиянии И. Анненского на стихотворения Г. Иванова, В. Нарбута, В. Ходасевича, Г. Адамовича, Б. Пастернака, В. Маяковского, В. Хлебникова, М. Цветаевой, А. Кушнера, Вс. Рождественского, И. Бродского. Это заставляет внимательнее отнестись к
знаменитому высказыванию А. Ахматовой о значимости поэтического опыта И. Анненского для развития русской лирики в XX веке: «...дело Анненского ожило со страшной силой в следующем поколении. И если бы он так рано не умер, мог бы видеть свои ливни, хлещущие на страницах книг Б. Пастернака, свое полузаумное «Деду Лиду ладили...» у Хлебникова, своего раешника (шарики) у Маяковского и т. д. Я не хочу сказать этим, что все подражали ему. Но он шел одновременно по стольким дорогам! Он нес в себе столько нового, что все новаторы оказывались ему сродни» .
Поэт, чьим именем начинает обозначаться какая-либо традиция, обладает определенным талантом творческого преобразования предыдущего художественного опыта на путях создания собственной оригинальной поэтической системы. Практически все, кто обращался к изучению творчества И. Анненского, так или иначе откликались на поэтически точное определение его художественного мира, данное в свое время О. Мандельштамом: «...весь корабль сколочен из чужих досок, но у него своя стать» .
Актуальность научной проблемы обусловлена завершением одного из сложнейших историко-культурных периодов развития русской литературы -эпохи XX века - и необходимостью целостного осмысления и определения ее специфики в общем потоке русского историко-литературного процесса. В современном литературоведении идет интенсивный методологический поиск для изучения и описания этого периода, а также накопление фактического материала, доступ к которому по разным историческим причинам был почти невозможен до недавнего времени. Предложенный в реферируемой диссертации системный анализ диалогических отношений русской лирики и творчества И. Анненского соотнесен с этой актуальной задачей современной науки о литературе, так как позволяет уточнить представление об истории русской поэзии XX века в целом и прояснить одно из значительных направлений поэтической традиции.
Среди работ, в которых поставленная проблема отчасти освещалась, следует указать монографическое исследование Дж. Такер о влиянии И. Анненского на эстетику и поэтику акмеизма , а также книгу А. Люнггрен с символичным заглавием «На перекрестках русского модернизма.
1 Ахматова А. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 5. / Сост., подгот. текста, коммент., ст. С. А.
Коваленко.-М., 2001.-С. 149-150.
2 Мандельштам О. Э. Собрание сочинений: в 4-х т. Т. 2. / Сост. П. Нерлер, А. Никитаев. - М.,
1993.-С. 239.
3 Tucker Janet G. Innokentij Annenskij and the Acmeist doctrine. - Columbus, Ohio, 1986.
Исследования поэтики Иннокентия Анненского» . Однако в работе Дж. Такер основной акцент поставлен на том, как эстетические взгляды И. Анненского способствовали формированию теоретико-эстетический платформы акмеистов, в то время как в нашем исследовании на первом плане оказываются вопросы поэтики. Если говорить о монографии А. Люнггрен, то в ней поэзия И. Анненского рассматривается в контексте русского и европейского модернизма в свете влияний и традиций, что, с одной стороны, сужает изучаемый литературный материал по сравнению с интересующим нас, а с другой стороны, позволяет ученому охватить более широкий спектр литературных взаимодействий, чем избранная в нашем исследовании установка на выявление форм реализации поэтического диалога с лирикой И. Анненского. Поэтому, учитывая опыт изучения влияний И. Анненского на поэзию XX века, мы в нашей работе предлагаем качественно новый взгляд на существующую научную проблему литературных взаимодействий поэтов прошлого столетия с лирической системой И. Анненского.
Научная новизна диссертации состоит в том, что она представляет собой первый опыт системного анализа диалогических отношений в лирике XX века на примере одной из авторски маркированных линий развития русской поэзии. Предпринятое исследование позволило выдвинуть гипотезу о том, что в русской литературе XX столетия сложилась вполне определенная ветвь поэтического диалога с И. Анненским, которая отдельными авторами стала восприниматься как форма приобщения к русской классической традиции. В процессе работы по выявлению диалогически ориентированных авторов впервые обобщены разрозненные наблюдения литературоведов о влиянии И. Анненского на творчество других поэтов. Оригинальный аспект исследования состоит в осуществленном анализе собственно диалогических отношений в пределах поэтического произведения как фактора лирического смыслообразования, обусловленного мифопоэтическим представлением о литературном произведении как пространстве встречи и диалога творческих «Я». В работе впервые установлена и изучена зависимость освоения творческого опыта предшественника от мифологизированного в стихотворениях поэтов следующих поколений его портретного образа, развивающегося со временем в поэтический миф о художнике и его судьбе. Научной новизной отличается обнаруженная и изученная модель перехода от портретного образа к поэтическому мифу.
4 Ljunggren A. At the Crossroads of Russian Modernism. Studies in Innokentij Annenskij 's Poetics. -Stokholm, 1997.
Так как объектом исследования является феномен поэтического диалога, философской базой диссертации стали труды М. Бахтина, М. Бубера, С. Булгакова, П. Флоренского, посвященные диалогу как особой форме взаимоотношений «Я» и мира, «Я» и «Другого».
Предмет исследования - реализованные в поэтике стихотворений диалогические взаимодействия русских лириков XX века с творчеством И. Анненского.
Материал исследования. Отбор сопоставляемых авторских систем производился исходя не только из наличия реминисценций и аллюзий на поэзию Анненского. Учитывались текстуально зафиксированные в мемуарах, письмах, критических статьях или стихотворениях высказывания авторов о важности для их творческого становления или развития поэтических открытий, эстетических положений и личности этого поэта. Таким образом, в центре исследования оказались поэты (Н. Гумилев, О. Мандельштам, А. Ахматова, Г. Иванов, Г. Адамович, А. Штейгер, И. Чиннов, Вс. Рождественский, Б. Пастернак, А. Кушнер и др.), прямо называвшие И. Анненского своим учителем, что и позволило сконцентрировать внимание на изучении литературной преемственности и поэтического диалога в пределах одной из линий русской поэтической традиции.
Цель предпринятого исследования - изучение различных проявлений поэтического диалога (и как свойств субъектно-объектной организации лирического произведения, и как форм обращения в пределах произведения к опыту другого поэта, и как особенностей мироощущения автора) в конкретных стихотворениях в русле одной из сложившихся в русской поэзии XX столетия линий эстетической преемственности, связанной с творчеством И. Анненского. Поставленная цель конкретизируется рядом взаимосвязанных задач:
- описать основные контуры лирической системы И. Анненского и
определить особенности функционирования в ней «поэтики отражений»;
изучить историю возникновения, развития и переосмысления поэтического мифа об И. Анненском в русской литературе, выявить основные черты этого мифа;
рассмотреть особенности поэтического диалога Н. Гумилева и О. Мандельштама с лирикой И. Анненского;
проследить пути изменения поэтического диалога с лирикой И. Анненского у поэтов-эмигрантов «первой волны» (Г. Иванова и Г. Адамовича), усвоивших опыт эстетики и поэтики «Цеха поэтов» и исследовать особенности преломления этого поэтического опыта в творчестве поэтов «парижской ноты»;
- выявить и рассмотреть линию поэтического диалога с И. Анненским в творчестве авторов метрополии.
Цель, объект и предмет изучения диктуют обращение к комплексному анализу исследуемого материала, основанному на сочетании историко-литературного и системно-структурного подходов с использованием методов интерпретации и сопоставления стихотворений, а также элементов стиховедческого и мифопоэтического анализа. В связи с этим методологически важными в работе выступают труды по исторической поэтике и сравнительному методу (А. Н. Весел овско го, В. М. Жирмунского, С. Н. Бройтмана), теоретической поэтике (М. М. Бахтина, Н. Д. Тамарченко, Б. О. Кормана, Ю. М. Лотмана, В. Е. Хализева, В. И. Тюпы, И. В. Силантьева), герменевтике (Г.-Г. Гадамера, Л. Ю. Фуксона), мифопоэтике (О. М. Фрейденберг, Н. О. Осиповой, Л. А. Ходанен) и стиховедению (К. Тарановского, М. Л. Гаспарова, Е. Г. Эткинда).
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно расширяет научное представление о феномене поэтического диалога как об одной из форм реализации литературной традиции в эпоху «поэтики художественной модальности» (С. Н. Бройтман). Для этого этапа характерно формирование персоналистически окрашенного представления о поэтической традиции, передаточным механизмом которой становятся не только жанры, мотивы, сюжеты, стилевые границы, как в предшествующую эпоху развития, но закрепившиеся в историко-культурном восприятии за именем отдельного поэта определенные поэтические смыслы. Этим фактом предопределено изучение в современном литературоведении русской классической традиции через именование ее «пушкинской», «лермонтовской», «фетовской», «тютчевской», «блоковской» и т.п. В работе предложена единая модель описания исследуемого явления, применяемая при изучении частных проявлений поэтического диалога в стихотворениях отдельных авторов. Другой аспект теоретического поиска, содержащийся в диссертации, связан с углублением представлений о процессе мифологизации образа определенного поэта (на примере стихотворений об И. Анненском) в поле культуры.
Практическая значимость. Материалы и результаты исследования могут быть использованы при разработке теоретико-методологических подходов к изучению закономерностей историко-литературного процесса XX века, при создании обобщающих работ по истории русской поэзии прошлого столетия, при подготовке учебных курсов по истории русской литературы XX в. в практике школьного и вузовского образования.
Содержащийся в работе анализ зарождения, развития и трансформации на протяжении XX в. поэтического мифа об Анненском может быть использован как для дальнейшего изучения портретной лирики, так и для уточнения методик мифопоэтического анализа поэтического произведения.
Апробация работы. Основные положения диссертации были представлены к обсуждению на научно-методическом семинаре кафедры журналистики и русской литературы XX века Кемеровского государственного университета, а также в виде докладов и сообщений на международных и всероссийских научных конференциях и семинарах: «Проблемы литературных жанров» (Томск, 2001), «Традиции русской классики и современность» (Москва, 2002), «Язык. Культура. Человек. Этнос» (Кемерово, 2002), «Язык -миф - этнокультура» (Кемерово, 2003), «Время в социальном, культурном и языковом измерении» (Иркутск, 2004), «Классическая филология в Сибири» (Томск, 2004), «Иннокентий Федорович Анненский (1855 - 1909). 150 лет со дня рождения» (Москва, 2005), «Русская литература в современном культурном пространстве» (Томск, 2002, 2004, 2006), «Гумилевские чтения» (С.-Петербург, 2006), «М. Ю. Лермонтов: художественная картина мира» (Кемерово, 2006), «V Онегинские чтения в Тригорском» (Музей-заповедник «Пушкинские горы», 2007) «Феномен игры в художественном творчестве, культуре и языке» (Кемерово, 2008), Десятые Иоанновские Образовательные чтения «Православная Церковь и современное российское общество: опыт и перспективы взаимодействия» (Кемерово, 2008), «Трансформация и функционирование культурных моделей в русской литературе» (Томск, 2008), «Дергачевские чтения» (Екатеринбург, 2008, 2011), «Мусатовские чтения» (Великий Новгород, 2009, 2011), «Проблемы взаимодействия в поле культуры: преемственность, диалог, интертекст, гипертекст» (Кемерово, 2009, 2011), «Время как объект изображения, творчества и рефлексии» (Иркутск, 2010), «Авторское книготворчество в русской и зарубежной литературе: комплексный подход» (Омск, 2010), «Русское слово в культурно-историческом контексте» (Кемерово, 2010), «Русская литература в литургическом контексте» (Кемерово, 2011), «Аксиологические аспекты литературы» (Екатеринбург, 2012), «Г. Р. Державин и диалектика культур» (Казань - Лаишево, 2012 г.).
Основные положения диссертационного исследования использовались автором при чтении лекций по истории русской литературы к. XIX - н. XX вв. и спецкурсов «Поэтика отражений: И. Анненский и русская поэзия XX века», «Мифология и мифопоэтический анализ художественного произведения» в
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» и МБНОУ «Городской классический лицей».
Структура исследования. Диссертация состоит из введения, пяти глав, каждая из которых разделена на параграфы, заключения и библиографии, включающей 364 наименования. Логика глав в основной части зависит от этапов достижения цели. Специфика понимания поэтического диалога предполагает сначала изучение и описание лирической системы, в которой запечатлевается авторское мироощущение И. Анненского, чему посвящена первая глава. Во второй главе содержится анализ портретных стихотворений, в которых постепенно складывается мифологизированный образ Анненского. Стихотворения, рассмотренные в этой главе, осознанно отделены от остального массива текстов, так как, на наш взгляд, на восприятие произведений влияет представление об авторе. Три остальные главы посвящены исследованию поэтического диалога как такового и выстроены в соответствии с историко-хронологическим принципом изучения литературы XX в.
Положения, выносимые на защиту
-
Лирическая система И. Анненского, основанная на диалогическом принципе взаимодействия «Я» и «Не-Я», порождает отклик в последующие периоды развития литературы преимущественно в форме поэтического диалога.
-
Освоение усложненных форм психологизации лирического образа, созданных Анненским, приобрело характер знакового приобщения к его традиции, породив целые серии отражений в русской поэзии ключевых образов его стихотворений, которые стали знаком определенного душевного или даже экзистенциального состояния.
-
Обращение к циклическим жанровым формам, в которых важную роль играют пересекающиеся контексты и подтексты, объясняет стремление И. Анненского к активному использованию диалогических проявлений на уровне поэтики. «Поэтика отражений» реализована в лирике Анненского как система взаимосвязанных мотивов и символов, как ассоциативная поэтика образных отражений, как перекличка с другими поэтическими голосами в процессе лирического смыслообразования.
-
На поэтический диалог оказывает влияние мифологизированный образ поэта-предшественника, создаваемый в портретной лирике. Мифогенные истоки образа Анненского в русской поэзии XX в.: учительство (переосмыслено учительство реальное в метафорическое - «учитель поэтов»),
непризнанность при жизни как свойство подлинного поэта и глубокий интерес к античности («русский Еврипид»), внезапный уход из жизни на ступенях Царскосельского вокзала («будничная смерть»), неразрывность его судьбы и поэзии с культурным мифом о Царском Селе как «колыбели русской поэзии» и «городе муз» («последний из царскосельских лебедей»).
-
В поэтическом диалоге русских поэтов XX века с И. Анненским обнаруживается установка на преодоление гамлетовской ситуации «распавшейся связи времен», которая неоднократно актуализировалась в течение столетия вследствие катастрофических социально-исторических потрясений. На уровне поэтической формы это привело к активному использованию «чужого слова».
-
Диалогичность поэзии И. Анненского развивается в творчестве последующих поэтов в особую концепцию взаимоотношений автора и читателя как приобщения к «одомашненному» кругу мировой культуры, которая изображается домом мыслящего и чувствующего человека, противостоящего бесчеловечной природе «железного XX века». Домом, в котором человек способен состояться в диалоге с другим, «Не-Я», став тем самым уникальной личностью.
-
Семантическая наполненность поэтического диалога с И. Анненским меняется на протяжении XX в. Отчетливо выделяется три этапа. Первый из них - акмеистический. В этот период поэтический диалог с Анненским способствует оформлению мифологизированной аполлонической творческой и жизненной стратегии в противовес «диониссийствующему» младосимволизму. Второй этап развивается по двум направлениям, исходящим от «Цеха поэтов», и содержательно зависит от эмоционально-жизненной основы поэтов-«цеховиков» и их наследников, оказавшихся в ситуации эмиграции или оставшихся в метрополии. На третьем этапе, в творчестве поэтов рубежа XX -XXI веков, происходит существенное переосмысление роли И. Анненского в развитии русской поэзии - с периферийной на магистральную.
Философская природа лирики И. Анненского
Можно предположить, что мысль Ю. Кристевой, поддержанная и развитая в работах Р. Барта вплоть до тезиса о «смерти автора», об интертекстуальности как явлении принципиальной незавершенности, иллюзорности целостности художественного произведения была вдохновлена этой идеей существования периодов литературного развития, когда за неимением стиля и способности сформировать свое авторитетное слово о мире художник обращается к чужому, преломленному в культуре, слову, сохраняя при этом дистанцию, в отличие от исчезновения таковой, если художник пребывает в традиции. Так, о феномене традиции Г.-Г. Гадамер пишет: «традиция, к которой мы принадлежим и в которой живем, – это не часть нашего культурного опыта, не так называемое культурное предание, которое тогда состояло бы из одних памятников и текстов и заключалось бы лишь в передаче смыслов, выраженных средствами языка и исторически засвидетельствованных. Нет, нам непрестанно передается, traditur, сам же познаваемый в коммуникативном опыте мир, он передается нам как постоянно открытая бесконечности задача. Никогда он, этот мир, не бывает первозданным миром первого дня. Повсюду, где мир испытуется нами, где происходит преодоление чуждости, где совершается усвоение, усмотрение, постижение, где устраняется незнание и незнакомство, повсюду совершается герменевтический процесс собирания мира в слово и в общее сознание» [Гадамер, 1991, с. 14]. Таким образом, вне диалога не может произойти открытие мира и познание себя, в том числе и своей уникальности в этом мире. Так, Г.-Г. Гадамер в своей статье «Неспособность к разговору» замечает: «Платон видел в диалоге принцип истины: слово подтверждается и оправдывается лишь тогда, когда другой человек воспринимает его» [Гадамер, 1991, с. 86].
Следовательно, диалог и становится формой обретения автором-творцом не иллюзорной, подлинной природы самостоянья в бытии, позволяющей ему, оставаясь открытым по отношению к миру и опыту «Другого», тем не менее, эстетически завершать художественное произведение. В главе «Слово у Достоевского» М. М. Бахтин, обосновывая и исследуя природу «двуголосого» слова, формулирует принципы литературного диалога, применимые и при изучении диалога, возникающего между различными авторскими мирами. При этом не всякие отношения могут быть рассмотрены как диалогические. Чтобы стать таковыми логические и предметно-смысловые отношения «…должны воплотиться, то есть должны войти в другую сферу бытия: стать словом, то есть высказыванием, и получить автора, то есть творца данного высказывания, чью позицию оно выражает. Всякое высказывание в этом смысле имеет своего автора, которого мы слышим в самом высказывании как творца его. О реальном авторе, как он существует вне высказывания, мы можем ровно ничего не знать» [Бахтин, 2002, т. 6, с. 206]. Как уточняет М. М. Бахтин, автором выступает оформляющаяся в произведении единая творческая воля, определенная позиция, «на которую можно диалогически реагировать». Более того, эта «диалогическая реакция персонифицирует всякое высказывание, на которое реагирует» [Бахтин, 2002, т. 6, с. 206]. Вследствие такой реакции и самой природы авторства как единой творческой воли, согласно Бахтину, «диалогические отношения возможны не только между целыми (относительно) высказываниями, но диалогический подход возможен и к любой значащей части высказывания, даже к отдельному слову, если оно воспринимается не как безличное слово языка, а как знак чужой смысловой позиции, как представитель чужого высказывания, то есть если мы слышим в нем чужой голос. Поэтому диалогические отношения могут проникать внутрь высказывания, даже внутрь отдельного слова, если в нем диалогически сталкиваются два голоса (микродиалог, о котором нам уже приходилось говорить)» [Бахтин, 2002, т. 6, с. 206]. Как результат диалога, понимаемого Бахтиным как истинная жизнь слова, и рождается «двуголосое» слово, которое «имеет двоякое направление – и на предмет речи как обычное слово и на другое слово, на чужую речь» [Бахтин, 2002, т. 6, с. 207]. При создании «двуголосого» слова первостепенную роль играет феномен чужого слова, именно ощущаемого как чужое в составе своего. И за счет установления диалогических отношений своего и чужого слова внутри высказывания рождается слово «двуголосое» как носитель нового диалогического смысла, включающего две точки зрения на мир в их диалогической обращенности друг к другу. Само столкновение двух точек зрения уже может привести и приводит к рождению нового смысла. При этом отношения с чужим словом внутри своего высказывания тоже не однонаправлены. Так, М. М. Бахтин указывает, что «чужие слова, введенные в нашу речь, неизбежно принимают в себя новое, наше понимание и нашу оценку, то есть становятся двуголосыми. Различным может быть лишь взаимоотношение этих двух голосов. Уже передача чужого утверждения в форме вопроса приводит к столкновению двух осмыслений в одном слове: ведь мы не только спрашиваем, мы проблематизируем чужое утверждение. Наша жизненно-практическая речь полна чужих слов: с одними мы совершенно сливаем свой голос, забывая, чьи они, другими мы подкрепляем свои слова, воспринимая их как авторитетные для нас, третьи, наконец, мы населяем своими собственными чуждыми или враждебными им устремлениями» [Бахтин, 2002, т. 6, с. 218]. Следующий вариант отношений с чужим словом – внутренне полемический или скрыто диалогический – наименее уловим. В этой разновидности, как отмечает М. М. Бахтин, «чужое слово остается за пределами авторской речи, но авторская речь его учитывает и к нему отнесена. Здесь чужое слово не воспроизводится с новым осмыслением, но воздействует, влияет и так или иначе определяет авторское слово, оставаясь само вне его. <…> Направленное на свой предмет, слово сталкивается в самом предмете с чужим словом <…> Это в корне изменяет семантику слова: рядом с предметным смыслом появляется второй смысл – направленность на чужое слово. Нельзя вполне и существенно понять такое слово, учитывая только его прямое предметное значение» [Бахтин, 2002, т. 6, с. 218 – 219]. Раскрывая суть скрытой диалогичности, исследователь предлагает представить себе диалог двух, в котором реплики второго собеседника пропущены, но так, что общий смысл разговора не нарушается и вполне понятен. «Второй собеседник присутствует незримо, его слов нет, но глубокий след этих слов определяет все наличные слова первого собеседника. Мы чувствуем, что это беседа, хотя говорит только один, и беседа напряженнейшая, ибо каждое наличное слово всеми своими фибрами отзывается и реагирует на невидимого собеседника, указывает вне себя, за свои пределы, на несказанное чужое слово» [Бахтин, 2002, т. 6, с. 220].
Наконец, следует учитывать еще одну особенность диалогических отношений слов в пространстве произведения. «Взаимоотношения с чужим словом в конкретном живом контексте носят не неподвижный, а динамичный характер: взаимоотношение голосов в слове может резко меняться, однонаправленное слово может переходить в разнонаправленное, внутренняя диалогизация может усиливаться или ослабляться, пассивный тип может активизироваться и т.п.» [Бахтин, 2002, т. 6, с. 221 – 222].
«Жемчуга» (1910): феномен многонаправленной реминисцентности
Поэтическая аксиология любого поэта неразрывно связана с категорией автора-творца, как ее понимал М. М. Бахтин в работе «Автор и герой в эстетической деятельности» [Бахтин, 2000, с. 9 – 226]. Поэтому ее изучение предполагает актуализацию понятий: точка зрения на мир, поэтическая картина мира, авторский идеал, система ценностей, воплощенная в тексте произведения как основа тех законов, по которым мы можем и должны составлять свое суждение о том или ином произведении. По сути, поэтическая аксиология позволяет осмыслить творческое наследие того или иного автора как целостную и внутренне единую систему, развивающуюся по своим индивидуальным законам и корректирующуюся другой тенденцией, направленной вовне и обращенной к культурным традициям через феноменологию жанра. Именно авторская аксиология позволяет уловить сверхжанровое воплощение поэтических смыслов, важных для автора на протяжении всего его творчества. Так, с точки зрения Л. Ю. Фуксона, категории ценности и смысла неотделимы друг от друга в процессе понимания художественного произведения [Фуксон, 1997, с. 79 – 103]. Творчество И. Анненского привлекает внимание тем, что в основе поэтического смысла его произведений зачастую оказывается проблематичность существования идеала или возможности приобщения к нему современного человека. Можно даже сказать, что смысл его произведений в определенной мере обусловлен кризисом общепринятой системы ценностей не просто как определенного набора идей, но как представления о ноуменальном мире в целом. Однако в отличие от своих современников, пошедших вслед за Ф. Ницше, И. Анненский с глубоким сомнением относился к возможности индивидуального сотворения эйдосов и через них приобщения к трансцендентному миру. В творчестве И. Анненского со всей остротой проявляется проблема идеала как явления духовного трансцендентного мира, обозначившаяся в культуре рубежа XIX – XX веков в связи с состоянием «утраты Бога». Сам И. Анненский отчетливо выразил это чувство в письме к А. В. Бородиной от 15. 06. 1904 г. Объясняя притягательность для него музыки Р. Вагнера, И. Анненский венчает все «может быть» объясняющие моменты переживанием «утраты Бога»: «Может быть, потому, что я потерял Бога и беспокойно, почти безнадежно ищу оправдания для того, что мне кажется справедливым и прекрасным» [Анненский, 2007, с. 349]. Этот фрагмент показателен и в другом отношении. В нем чувство «утраты Бога» переживается как необходимость оправдания ценностно значимых идеалов, что, на наш взгляд, становится одним из сильнейших источников его лирики и определяет поэтику его стихотворений.
И если для большинства представителей искусства эпохи модерна переживание «смерти Бога» вслед за Ф. Ницше обозначило перспективы сверхчеловеческих возможностей в достижении и сотворении новой системы ценностей, то для И. Анненского со всей очевидностью встал мучительный вопрос о природе человека, который в самом своем определении содержит указание на тварную природу. Более того, если в мире нет никого, кроме человека, то возможно ли существование той метафизической стороны реальности, которая до сих пор воспринималась как источник подлинной неочевидной умопостигаемой истины о ценности мира и человека в нем? Не утрачивает ли тогда само человеческое существование свой смысл? «Слушаю я Горького-Сатина и говорю себе: да, все это, и в самом деле великолепно звучит. Идея одного человека, вместившего в себя всех, человека-бога (не фетиша ли?) очень красива. Но отчего же, скажите, сейчас из этих самых волн перегара, из клеток надорванных грудей полетит и взовьется куда-то выше, на сверхчеловеческий простор дикая острожная песня? Ох, гляди, Сатин-Горький, не страшно ли уж будет человеку-то, а главное, не безмерно ли скучно ему будет сознавать, что он – все, и что все для него и только для него?» [Анненский, 1979, с. 81]. Относясь скептически к новой сверхчеловеческой морали и системе ценностей и в то же время, отдавая полный отчет в кризисе гуманистической культуры, И. Анненский искал своего пути в определении ценности человека, который у него представал результатом высшего божественного юмора. Так, завершая эссе о «Проблеме гоголевского юмора», И. Анненский писал, сопоставляя две его повести: «Гоголь написал две повести: одну он посвятил носу, другую – глазам. Первая – веселая повесть, вторая – страшная. Если мы поставим рядом две эти эмблемы – телесности и духовности – и представим себе фигуру майора Ковалева, покупающего, неизвестно для каких причин, орденскую ленточку, и тень умирающего в безумном бреду Чарткова, – то хотя на минуту почувствуем всю невозможность, всю абсурдность существа, которое соединило в себе нос и глаза, тело и душу… А ведь может быть и то, что здесь проявился высший, но для нас уже не доступный юмор творения, и что мучительная для нас загадка человека как нельзя проще решается в сфере высших категорий бытия» [Анненский, 1979, с. 19 – 20]. Таким образом, на первое место в иерархии авторских ценностей в творчестве И. Анненского выходит интеллектуальное, сознательное начало, посредством которого и возможно абстрагироваться от житейской обыденности и хотя бы попытаться осмыслить место и ценность человека в мироздании. Не случайно в письме к Е. М. Мухиной от 17 октября 1908 г. именно Мысль, порождающая сомнение как способ превращения вещи в слово, являющееся свидетельством божественности человека, предлагается в утешение адресату как самое дорогое, что есть в душе поэта: «…Господи, что я вложу, какую мысль, какой луч в Ваши открывшиеся мне навстречу, в Ваши ждущие глаза?.. Бог? труд? Французский je m en fich изм? Красота? Нет, нет и нет! Любовь? Еще раз нет… Мысль? Отчасти, мысль – да… Может быть. … Сомнение… Бога ради не бойтесь сомнения… Останавливайтесь где хотите, приковывайтесь мыслью, желанием к какой хотите низине, творите богов и горе и долу – везде, но помните, что вздымающая нас сила не терпит иного девиза, кроме Exelsior, и что наша божественность – единственное, в чем мы, владеющие словом, ее символом, – единственное, в чем мы не можем усомниться. Сомнение и есть превращение вещи в слово, – и в этом предел, но далеко не достигнутый еще нами, – желания стать выше самой цепкой реальности…» [Анненский, 2009, с. 223]. Не менее показательно в этом контексте написанное примерно через месяц (26 ноября 1908 г.) письмо к А. В. Бородиной, в котором благодарность за подаренную книгу перерастает в лирическое переживание природы Книги как формы бытия Мысли: «… книга прекрасна, как Мысль. Это та форма, которую облюбовала себе самой – Мысль. Сколько ей навязывают их – от гаммы и чуть ли не до злодеяния – но одна Книга есть только Мысль, Одна Мысль» [Анненский, 2009, с. 228].
Ценностная природа Мысли, ее нахождение на вершине пирамиды идеалов в поэтической картине мира И. Анненского повлияла и на поэтику его стихотворений. И здесь можно выделить несколько аспектов преломления идеала Мысли в его творчестве. Во-первых, это тема интеллектуальных исканий ответов на последние вопросы бытия, с чем напрямую связана трансформация мифа об Одиссее в его лирике. Во-вторых, понимание нераздельной связи Мысли и творчества. Так, в стихотворении «Зимние лилии» вдохновение изображено как «напряженье мозговое». В-третьих, речь может идти о философской проблематике как основе лирического переживания в его поэзии и даже о Мысли как основе лирического сюжета. Также можно вспомнить стихотворение И. Анненского «?», в котором поэзия персонифицирована в метафорическом образе старого мудреца в противовес классическому образу светлой богини Музы.
Г. Адамович – И. Анненский
Кроме того, в его отношении к поэзии И. Анненского прослеживается нарастающее стремление демифологизировать его образ и утвердить самоценность его поэзии как бы вне контекста эпохи «серебряного века», из которого он, согласно стихотворениям А. Кушнера, по сути, выпадает. В каком-то смысле это восприятие Кушнером Анненского «рифмуется» в декларируемом отказе от романтизма у обоих поэтов. Так, Анненский однажды в эссе «Юмор Лермонтова» подчеркнул свою неотъемлемую принадлежность к земному миру: «Господа, я не романтик. Я не могу, да вовсе и не хотел бы уйти от безнадежной разоренности моего пошлого мира» [Анненский, 1979, с. 138]. Принципиальную же неромантичность А. Кушнера подметила еще Л. Я. Гинзбург: «Кушнер принципиально неромантичен – по самому положению его лирического я в его поэтическом мире. Это авторское я не называет себя поэтом (оно принадлежит вообще человеку) и не служит темой своего лирического высказывания. Оно точка отсчета, угол зрения на явления внутреннего и внешнего мира» [Гинзбург, 1982, с. 42].
Рассмотренные стихотворения А. Кушнера, как уже говорилось выше, открывают тематическую подборку стихов разных авторов, посвященные памяти Анненского в связи со 100-летием его смерти. В нее входят также стихотворения А. Леонтьева «13. XII. 2009», А. Пурина «Первое сентября», В. Русакова «Бессонница, и я твержу в ночи…» и Е. Ушаковой «У могилы Анненского». Три из них объединяются темой смерти, а в стихотворении В. Русакова, напротив, акцентирован связанный с Царскосельским мифом об Анненском мотив связи времен и переклички голосов поэтов. Рассмотрим эти стихотворения подробнее.
Стихотворение А. Леонтьева показательно названо траурной юбилейной датой, сопрягающей временное зияние в 100 лет в некое единое целое. Так, первая строфа горько иронически отсылает к эпизоду, предшествовавшему отставке И. Анненского с поста директора Царскосельской Николаевской мужской гимназии, когда Анненский, с одной стороны, пытался утихомирить заразившихся революционными настроениями гимназистов, а с другой – не допустить над ними расправы со стороны полиции и «благонадежных» родителей: «Правильно! – в галстухе. Всякого шкоду / В неподобающем, взяли же моду, / За разудалое алое брал, / Так – в коридорчике, так – в дортуаре: / Как же вы, милостивые судари? / Ну, отвечают, Интернацьонал» [Леонтьев, Звезда, 2009, с. 109]. В итоге, простое человеческое участие в судьбах мальчишек изображено как не понятое и не нужное ни одной из столкнувшихся сторон. В глазах гимназистов он предстал человеком в футляре, мечущимся в страхе перед тем, «кабы чего не вышло», а в глазах другой стороны – как либерал-директор, сочувствующий революции. При этом в первой строфе более акцентирован образ Анненского глазами отмахивающихся от него гимназистов, ради которых он пожертвовал своей карьерой и положением в обществе. Так невербально оформляется мотив обиды, обусловленной исполнением служебных обязанностей не формально. Мотив обиды нарастает во второй строфе, воплощаясь уже словесно: «Словно фельдмаршал в романе Толстого: / Спать! Да привидится новое слово. / Как же, Зелинский потом переврет. / Комплекс Эдипа – тьфу-тьфу – Еврипида. / Ну и какая такая обида? / Там – Андромеда тоскует, вперед» [Леонтьев, Звезда, 2009, с. 109]. Образ старого Кутузова и нанесенной ему обиды, суть которой в отлучении от подвига и дела жизни через формальное признание заслуг и почетное отстранение от дел подсвечивает мотив обиды, нанесенной Анненскому, назначенному после отставки с поста директора окружным инспектором, но речь и о том, что подвиг и дело его жизни – перевод Еврипида – оказался «исправлен» после его смерти Ф. Ф. Зелинским. Более того, в стихотворении Леонтьева появляется ирония над мифопоэтическим представлением об Анненском как русском Еврипиде, которое включало в себя мотивы непонимания, недооцененности творчества поэта при жизни и посмертной славы. Отталкиваясь от уже известной рифмы «Еврипида – обида», в свое время дважды использованной Н. Гумилевым в книге «Колчан», Леонтьев с помощью композиционного приема путаницы, основанной на эффекте исправленной оговорки, развивает мотив превращения посмертной славы, представленный в сложившемся мифе, в посмертную обиду. При этом Леонтьев использует характерный для самого Анненского композиционный прием совмещения экзистенциальной рефлексии с ее выражением при помощи будничных слов, зачастую сведенных до звукоподражаний. Здесь можно вспомнить особенно показательный в этом отношении сонет Анненского «Человек», или его же стихотворения «Шарики детские», «Прерывистые строки» и т.п. Накопившиеся в первых двух строфах обиды, пронизывающие все сферы жизни поэта, подготавливают появляющийся в финале второй строфы образ смерти, данный неточной цитатой из стихотворения Анненского « Я на дне ». Благодаря заглавию стихотворения Леонтьева происходит серьезное смысловое смещение заглавия и образности стихотворения Анненского: дно фонтана – могила поэта, тоска Андромеды – зов смерти, там – указание на мир мертвых. При этом снова следует отметить точное и последовательное усвоение Леонтьевым не только образности Анненского, но и поэтики так-дейксиса, развитой в его лирике, как это подробно и точно продемонстрировал в своей статье А. Е. Барзах, в поэтику табуирования смерти [Барзах, ИАиРК, с. 67 – 87].
Третья строфа, сотканная из того же совмещения реалий жизни окружного инспектора с железнодорожной образностью стихов Анненского, ознаменована сюжетным поворотом от нарастания обид к мотиву непосильной усталости, который и разрешается в четвертой строфе в мотиве смерти и похорон. При этом, развивая ироническое отношение поэта-предшественника к обрядовой стороне смерти, особенно в стихах, содержащих видение собственных похорон: «А покуда… удалите / Хоть басов из кабинета» [Анненский, 1990, с. 176] Леонтьев создает свою вариацию на тему пения, перед которым покойный оказывается беззащитным. Так, появившийся в первой строфе образ «Интернационала» как метонимического знака революции и одновременно причины, приближающей смерть Анненского, в четвертой строфе начинает звучать посредством стиха, стремящегося поглотить, вобрать в себя ушедшего поэта, перекодировать самый смысл его творчества: «Доски понуро повесят… Культура! / Вот гимназист, вот жена его, Нюра. / Полон учебник? – а сколько земли! / Будет сухих филологов довольно. / Мертвому, то есть обломку, – не больно. / «Кто был Никем…» – запевают вдали» [Леонтьев, Звезда, 2009, с. 109]. Леонтьев нарочно пишет местоимение Никем с заглавной буквы, заставляя читателя почувствовать в нем отражение творческого псевдонима Анненского и его посмертной судьбы, представленной как торжество и слава в 1910 – 20-х годах и почти полное забвение массой никто, ставших всем, на протяжении ХХ столетия. Так снова возвращается мотив обиды, наносимой посмертно: «Мертвому, то есть обломку, – не больно». Будучи обломком русской классической культуры, подобно тому, как в его стихотворении лирический субъект, воплощаясь в образе обломка статуи Андромеды, ощущал себя потерянной частью ушедшей античности, Анненский получает вместо посмертной славы, согласно мифу о нем как о русском Еврипиде, очередную нанесенную ему обиду абсолютного непонимания его творчества современным русским читателем. Удвоение ситуации похоронного обряда в последних двух строфах (черты похорон смешиваются с отмечанием траурной 100-летней даты) еще более усугубляют этот мотив непонимания-обиды, все более делая Анненского не только как человека, но и как поэта заложником смерти.
И. Анненский – Вс. Рождественский: Царскосельский ореол поэтического диалога
В этом же разделе поэтический диалог с И. Анненским обнаруживается и в мотиве рассыпающихся и ничего не значащих слов «Рассыпаются слова / И не значат ничего» в стихотворении Г. Иванова «Перед тем, как умереть…» (ср. с Анненским «Знаешь что, я думал, что больнее / Увидать пустыми тайны слов» из стихотворения «Ты опять со мной, подруга осень»), а также в его стихотворении «Был замысел странно-порочен…». Образный ряд этого стихотворения отсылает к стихотворению «Смычок и струны», подхватывая и развивая мотив роковой взаимосвязи смысла жизни, искусства, любви. Стихотворение Анненского, размыкаясь в широкий историко-литературный контекст, на который указал в своей статье К. Верхейл, по сути, открывает трагическую сторону обреченности творящего субъекта переживать безвдохновенное состояние как временную смерть (показательна в этом смысле образная ассоциация футляра для скрипки с гробом в финале стихотворения). У Г. Иванова, напротив, искусство оказывается той силой, которая позволяет его лирическому герою пережить мгновения счастья в опустошенно-абсурдном мире. В отличие от Анненского, Г. Иванов показывает не все действо игры на скрипке, но лишь момент звучания музыки, который в стихотворении Анненского изображен как кульминация обретения счастья и смысла. Но если у старшего поэта вслед за этим мигом обретения смысла изображено осознание неумолимо надвигающегося конца звучания как роковой зависимости любящих и одновременно творящих субъектов от высших по отношению к ним сил любви, вдохновения и разлуки, то в стихотворении Г. Иванова само мгновение обретения счастья уже искупает пустоту и муку существования. В шестом разделе содержится стихотворение В. Булич, в котором присутствует отмеченное еще в прижизненной критике влияние И. Анненского. Так, в ее стихотворении «Улыбаемся и плачем…» образ сердца-маятника, один из знаковых в поэзии И. Анненского, является сюжетообразующим. Более того, в первой же строфе маятник внутренне зарифмован с состоянием маяты-тоски, что еще более усиливает отсылку к Анненскому. Во второй строфе образ мающегося сердца-маятника актуализирует тему времени: «Не часы, не дни, не годы – / Времени для сердца нет. / В нем иные переходы, / Смены, смуты, тьма и свет» [Якорь, с. 188]. Однако в отличие от Анненского, у которого сердце, сравниваясь с маятником часов, стальной цикадой, будильником, становится образом внутренних часов в человеческом теле, неумолимо отсчитывающих мгновения жизни, у В. Булич связь сердца с течением времени разрывается. Сердце, мающееся в теле человека, оказывается посредством соотнесения со сферой чувств пульсацией не времени, но вечности в человеческом существе, как это представлено и в третьей строфе: «О любви и о разлуке, / О небесном и земном… / Тише, глуше, реже звуки, / Ближе, выше Вечный Дом» [Якорь, с. 188]. Тем не менее, в двух последних строфах, намеченный было разрыв с традицией Анненского, восстанавливается сначала посредством мотива смерти, а затем и характерного мотива полу-надежды / полу-сомнения, сопровождающего мотив смысла жизни отдельной личности в этом мире: «Полное тоски и крови / Будет маяться, пока / Маятник не остановит / Неподвижная рука. // Но не может быть, чтоб где-то / От биенья долгих лет, / Колебаний тьмы и света / Не остался смутный след» [Якорь, с. 188]. Таким образом, даже указанные (далеко не все имеющиеся в этой антологии) отсылки к поэзии И. Анненского позволяют говорить о том, что одной из скреп, обеспечивающих восприятие «Якоря» как поэтического единства стала ориентация на традицию И. Анненского. И даже тогда, когда сам автор, возможно, и не предполагал аллюзий на Анненского в своих стихотворениях, Г. Адамович как составитель находил такие контексты, которые способствовали возникновению у читателей ассоциаций, связывающих эти тексты с поэзией И. Анненского.
Поскольку культ И. Анненского, в первую очередь, утверждался в кругах русской эмиграции Г. Адамовичем и последовавшими за ним поэтами «парижской ноты», представляется целесообразным более пристально рассмотреть поле поэтических взаимодействий с лирикой И. Анненского именно этого круга авторов. Вследствие этого глава делится на два параграфа, в каждом из которых две части. В первом параграфе рассматривается влияние поэзии И. Анненского на Г. Адамовича и Г. Иванова, чьи эстетические установки и поэтический опыт оказали решающее воздействие на поэтов «парижской ноты». Второй параграф посвящен А. Штейгеру, который в восприятии современников предстал «эмигрантским Анненским», и И. Чиннову как поэту, чье творчество стало завершением поэзии «парижской ноты».
Предваряя сопоставительный анализ указанных поэтических систем, отметим точку зрения А. В. Леденева, который в своей монографии кратко очертил суть обращения «парижан» и их идеолога к поэтическому опыту И. Анненского: «Главной для Адамовича мировоззренческой проблемой стала (как это было прежде у И. Анненского) проблема «оправдания творчества», поиска этической опоры, позволявшей заниматься «эстетикой» в обстановке социально-исторической катастрофы. Резко отвергая «обольщение бальмонтовщиной во всех ее видах», т.е. увлечение формальными поисками в искусстве, Адамович выдвинул требование литературного аскетизма и предельной искренности самовыражения … Заметнее всего эмоциональные и стилевые веяния «парижской ноты» сказались в поэзии Б. Поплавского, А. Штейгера и Л. Червинской … Акцент на гибельности и призрачности мира, пафос экзистенциального отчаяния, проповедь самоотречения, стремление к поэтическому «минимализму» (антиметафоризм, противостояние «громкости», дневниковая манера выражения, тяготение к форме незавершенного фрагмента вплоть до обрыва стиха на полуслове) – вот наиболее общие особенности этой поэзии…» [Леденев, 2004, с. 59 – 60].
Уже из этой систематизации характерных черт поэзии «парижской ноты», которые Г. Адамовичем провозглашались как следование традиции И. Анненского, видно, что Анненский и его поэзия были интерпретированы поэтами-эмигрантами более чем субъективно с тем, чтобы стать знаком эмигрантского существования. Не случайно, что завершитель «парижской ноты» И. Чиннов почувствовал и выразил это несовпадение поэзии Анненского как таковой с ее провозглашенным усвоением и наследованием ее принципам в поэзии Г. Адамовича и «парижан»: «А порой, апостол простоты, он удивлял собеседника, говоря, что писать надо, как Анненский написал свое «О нет, не стан…»» [Чиннов; ПЗЛ, с. 171]. При этом для самого И. Чиннова именно это стихотворение И. Анненского совершенно справедливо стало символом усложнено-изысканной поэтики.
Литературоведчески это парадоксальное наследование «парижан» Анненскому было отмечено в монографии Г. Струве, посвященной системному рассмотрению русской литературы, созданной в эмиграции. Так, анализируя книгу стихов Г. Иванова «Розы», исследователь пишет: «"Розы" стояли под знаком Блока и Лермонтова, отчасти Анненского и Верлена (у акмеистов всегда был – с легкой руки Гумилева – культ Анненского, хотя по существу их поэтика мало имела общего с поэзией Анненского). Вместо неоклассицизма – неоромантизм, романтизм обреченности, безнадежности, смерти…» [Струве, 1996, с. 215]. Детальный сопоставительный анализ четырех определяющих культ И. Анненского в поэзии русской эмиграции первой волны систем позволяет определить границы подлинного усвоения его поэтического опыта и отделить его от процессов символизации и мифологизации его поэзии и судьбы, которые, тем не менее, не являются чем-то негативным, напротив, свидетельствуют об интенсивности и напряженности поэтического диалога, установившегося между поэзией И. Анненского и поэтов-эмигрантов.