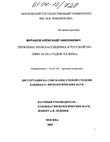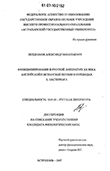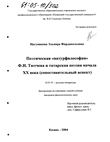Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Ирония и лирика в стиле эпохи .
1. Ирония как теоретико-литературная проблема 11
2. Ирония и лирика в свете художественно-эстетической рефлексии начала XX века 31
3. Ироническая лирика А.А. Блока (1902-1905 гг.) 58
Глава II. Ироническая доминанта миниатюр А.Н. Вертинского .
1. Поэтика образа Пьеро: ироническое и трагическое 90
2. Женские образы (образы Коломбины): синтез искусств в создании внутренней формы 142
3. Стилистика немого кино в миниатюрах А.Н. Вертинского 159
Заключение... 172
Библиография 177
- Ирония как теоретико-литературная проблема
- Ирония и лирика в свете художественно-эстетической рефлексии начала XX века
- Поэтика образа Пьеро: ироническое и трагическое
- Женские образы (образы Коломбины): синтез искусств в создании внутренней формы
Введение к работе
Уникальное явление отечественной культуры — творчество А.Н. Вертинского (1889-1957) — на рубеже XX-XXI веков привлекает все больше внимания и почитателей, и исследователей. Говоря о «феномене Александра Вертинского»1, последние отмечают «знаковость», «символичность» судьбы художника, — что присуще «биографиям» многих деятелей серебряного века, которому обязаны своим появлением, в том числе, и «печальные песенки Пьеро». Судьбы А.М Добролюбова, Эллиса (Л.Л. Кобылинского), СМ. Соловьева, А.А. Блока, Н.С. Гумилева, В.В. Маяковского, М.И. Цветаевой, А.А. Ахматовой, П.А. Флоренского, М.А. Булгакова, Д.С. Мережковского, Н.К. Рериха, Г.В. Иванова, А.Н. Вертинского и др. стали фактом культуры, воплощением эпохи синтеза с ее «жизнетворческими» устремлениями , эпохи «кризиса» (работы Вяч.И. Иванова, А. Белого, Н.А. Бердяева)3, «переоценки ценностей», провозгласившей «целью» исторического движения «новую человеческую породу», «человека-артиста»: «он, и только он будет способен жадно жить и действовать [курсив автора. — О.Г.] в открывшейся эпохе вихрей и бурь, в которую неудержимо устремилось человечество», — утверждал вслед за Фр. Ницше А.А. Блок4.
Двадцатипятилетнее возвращение А.Н. Вертинского на родину (1918— 1943) — через Турцию, Польшу, Румынию, Францию, Германию, Англию, Палестину, США, Китай — «экзотическая» эпопея вполне в духе его «ариеток»:
Где Вы теперь? Кто Вам целует пальцы?
Куда ушел Ваш китайчонок Ли?..
Вы, кажется, потом любили португальца,
А может быть, с малайцем Вы ушли, — и т. д., вплоть до «притонов Сан-Франциско» — даже фантастичнее — нью-йоркского концертного зала «Таун-холл». Только эмиграция, отчаяние и страдания были настоящими.
А.Н. Вертинский, пожалуй, единственный, кто снова оказался на родине спустя четверть века и был не просто принят, но получил возможность играть в кино, вступать с концертами, издаваться. Артист с семьей поселился в превосходной квартире в центре Москвы, в его распоряжение был предоставлен правительственный автомобиль. Уже в 1944 г. на Апрелевском заводе грампластинок записали пробные диски с пятнадцатью его вещами. Ряд тиражей пластинок вышел также в конце 40-х - начале 50-х1. А.Н. Вертинский сыграл в фильмах «Анна на шее», «Пламя гнева», «Олеко Дундич» и др., а за роль кардинала в «Заговоре обреченных» был удостоен Сталинской премии II степени.
Однако, не считая рецензий на дореволюционные выступления и «проработки» конца 20-х, прижизненные печатные отклики об артисте появлялись фактически только за рубежом3. Его мемуары «Четверть века без Родины» увидели свет в 1962 г., в №№3-6 журнала «Москва» (в сокращенном виде), «сопровождаемые» изданной в том же году статьей «друга-врага» А.Н.
Вертинского Л. Никулина «Судьба артиста»1. Затем вышел сборник М.И. Иофьева «Профили искусства» (1965), с небольшой, но основательной и беспристрастной статьей об эстрадном мастерстве А.Н. Вертинского, а двумя годами позже напечатан очерк Ин. Смоктуновского «Помню» .
С конца 60-х имя А.Н. Вертинского редко, но попадает на страницы газет . В 1969 г. на фирме «Мелодия» выходит долгоиграющий диск-гигант (12 песен), через четыре года — еще один (14 песен). В начале 80-х появляются публикации Н.И. Ильиной «Судьбы: из давних встреч» (1980), В. Ардова «Этюды к портретам» (1983) и др.; «Мелодия» подготавливает третий диск (1982, 14 записей).
Интерес к «феномену» А.Н. Вертинского и на родине, и за рубежом4 существовал всегда, однако по ряду причин доля собственно литературоведческих работ о творчестве артиста невелика. Часть современных исследователей — Б.А. Савченко, В.П. Бардадым, А.С. Макаров — предпочитают популярно-биографический подход, другие — В.Г. Бабенко, К.Л. Рудницкий, Л.А. Аннинский, Б.М. Поюровский — так или иначе дополняют «жизнеописание» анализом художественного мира А.Н.
Вертинского. В рамки собственно научного исследования наследие художника было вписано пятнадцать лет назад (С.С. Бирюкова «Окуджава, Высоцкий и традиции авторской песни на эстраде». Дисс... канд. искусствоведч. наук. — М., 1990). В последнее время защищены также работы М.Г. Лежневой «Межтекстовые связи в поэзии Александра Вертинского: слово и текст». Дисс... канд. филол. наук. — М., 2003 (по специальности 10.02.01) и Е.А. Тарлышевой «Песенная поэзия А.Н. Вертинского как единый художественный мир: жанровая природа, образная специфика, эволюция». Дисс... канд. филол. наук. — Владивосток, 2004.
Но загадка А.Н. Вертинского-художника, создавшего в диалоге с искусством рубежа веков собственный неповторимый жанр, еще далеко не раскрыта, что доказывает появление новых и новых публикаций. Право А.Н. Вертинского занимать свое место в русской культуре подтверждает практически каждый современный гуманитарный словарь или энциклопедия.
Не так давно на домах в Москве и Киеве, где жил артист, установили мемориальные доски; о популярности А.Н. Вертинского свидетельствуют спектакли, телепостановки, концерты по мотивам его творчества; осуществленное год назад «подарочное» переиздание книги «Дорогой длинною...» (1991) — наиболее полного на сегодняшний день собрания наследия А.Н. Вертинского; своеобразным «продолжением» ее стали опубликованные в конце 2004 г. воспоминания Л.В. Вертинской — жены артиста.
Его «печальные песенки» не превратились в «музейную» ценность: они живут не только на пластинках, в книгах и в благодарной памяти, но и в современном искусстве — от традиционных до новейших «постмодернистских» интерпретаций. Собственные версии «песенок» А.Н.
Вертинского создали Б. Гребенщиков, А. Скляр и И. Богушевская, «Хоронько-оркестр» и др.1. А.Н. Вертинский вошел в литературу под знаменем футуризма. Однако важен не самый факт определенной теоретико-литературной устремленности (пока не обнаружено ни одной подписи А.Н. Вертинского под какими-либо манифестами), а пафос принадлежности к новому искусству: концептуальная установка на эпатаж, театральность2.
Это подтверждают и собственные слова маэстро: «Еще до войны в России началось новое течение в искусстве, известное под названием футуризма. В переводе это означает «искусство будущего». Прикрываясь столь растяжимым понятием, можно было в конце концов делать все что угодно. Для нас — молодых и непризнанных — футуризм был превосходным средством обратить на себя внимание»3.
В стиле А.Н. Вертинского сказались разные влияния: и «песенок» М.А. Кузмина и Тэффи («Черный карлик», очевидно, был заимствован из репертуара4 Каза-Розы), и «сатириконцев» (Тэффи, Саши Чёрного), и эгофутуриста Игоря-Северянина, и символистов, в первую очередь, А.А. Блока. Миниатюры А.Н. Вертинского стали ярким воплощением идеи синтеза искусств: он был одновременно поэтом-исполнителем, музыкантом и актером. Созданный им «многомерный» сценический, «живописный» и собственно поэтический образ Пьеро — вариация на тему неизменной в серебряный век commedia dell arte — не был расчетливым копированием расхожего символа в надежде на успех. Первые рецензенты могли называть (и называли) его «декадентом», но не «подражателем». А.Н. Вертинский не просто представил собственный вариант этого образа, — «маска» была необходима артисту как конститутивный элемент жанра, запечатлевала «внутреннюю форму»1 его произведений.
Условность маски как нельзя лучше отвечала условности его искусства, лирико-иронического по сути. Здесь артист снова в полной мере оказался художником своего времени, ибо лирическая ирония была одной из доминант стиля эпохи (во всяком случае, как отмечает И.Г. Минералова, до 1910-х гг., когда происходит видимое разделение романтического, лирико-иронического на сатиру и «патетику»2). Ироническое мировидение было свойственно таким поэтам как Ин.Ф. Анненский, М.А. Кузмин, Ф.К. Сологуб, А.А. Блок, А. Белый, И. Северянин, Г.В. Иванов и др., чьи размышления об иронии, как правило, отразились и в художественном творчестве, и в публицистике.
При этом следует отметить, что в какой бы перечень имен мы не стремились вписать А.Н. Вертинского, его собственное имя будет стоять особняком. Причин тому несколько, поэтому, обратившись к доминантным чертам индивидуального стиля А.Н. Вертинского, мы имеем возможность исследовать как общее в стиле культурной эпохи (ирония как мировидение и как частное проявление его — литературное явление) обнаруживает себя через индивидуально-неповторимое в его произведениях поэта и артиста.
Цели диссертационного исследования: определить содержание, роль и место иронии в эстетике и художественной практике поэтов серебряного века
и, в частности, в творчестве А.Н. Вертинского; установить, каким образом достигается синтез иронического и лирического и создается новая внутренняя форма поэтического произведения; выявить основополагающие принципы поэтики А.Н. Вертинского.
Для достижения этих целей нами поставлены следующие задачи:
— выявить конкретные черты воплощения иронического мировидения в художественной культуре серебряного века;
— определить, что входит в понятие иронии, формируемое эпохой, к которой принадлежал А.Н. Вертинский;
— раскрыть доминантные художественные приемы, используемые А.Н. Вертинским поэтом и актером для создания лирико-иронического эффекта;
— указать формы выражения иронического содержания в стихах и «песенках» А.Н. Вертинского;
— дать представление о доминантных искусствах, участвующих в формировании лирико-иронического содержания его произведений.
Предметом исследования является наследие А.Н. Вертинского (прежде всего, оригинальные стихотворения, а также мемуарная проза, заметки, интервью и т. п.), лирика Ин.Ф. Анненского, А.А. Блока, А. Белого, М.А. Кузмина, И. Северянина, Г.В. Иванова и других поэтов серебряного века, философско-публицистические работы рубежа веков, посвященные проблемам иронии и лирики.
Объект исследования — приемы синтеза лирического и иронического в творчестве А.Н. Вертинского, А.А. Блока и ряда других авторов, прежде всего, тех, под влиянием которых формировался индивидуальный стиль А.Н. Вертинского.
Актуальность и новизна предпринятого исследования определяются как материалом, так и поставленными задачами. Индивидуально-авторское преломление иронии как одной из стилевых доминат серебряного века, а равно и синтетических исканий модернизма (динамическое взаимодействие, «синтез» и «анализ» лирического и иронического в поэтическом тексте1 не могут быть в полной мере поняты вне доминантного для серебряного века явления — синтеза искусств) в творчестве А.Н. Вертинского прежде не изучались.
Практическая значимость: результаты исследования могут быть использованы в систематическом курсе русской литературы XX века и рубежа XIX-XX веков, курсах по выбору, посвященных теоретическим проблемам изучения русской и мировой литературы, проблемам поэтики и стиля и частным вопросам творчества А.А. Блока, А.Н. Вертинского и других художников серебряного века.
Диссертация включает следующие разделы: Введение, Глава I, Глава II, Заключение, Библиография.
Ирония как теоретико-литературная проблема
Иронию как проблему литературоведения поставил XX век — в позитивистской эстетике XIX века под иронией традиционно понималась риторико-стилистическая фигура / вид тропа; один из приемов сатиры. Время теоретической и художественной рефлексии над «трансцендентальной иронией» — открытием немецких романтиков1 — настало век спустя, и не случайно одним из первых о ней в России заговорил поэт А.А. Блок (статья «Ирония», 1908 г.).
Его слова оказались пророческими: XX век называют «царством иронии»2. Н.А. Добролюбов, — пишет А.Блок, обобщая под его именем всю «материалистическую» критику, — видел в иронии «залог процветания русской сатиры», но, будучи «сыном несмеющейся эпохи», «писателем дореволюционным» [курсив автора. — О.Г.], он «не знал всей» ее «страшной опасности» . Так, например, Д.И. Писарев, оценивая творчество Г. Гейне (статья «Генрих Гейне» 1867 г.), полагал, что «...публика имеет право желать, чтобы с нею говорили удобопонятным языком, чтобы все слова и образы, употребленные поэтом, имели какой-нибудь ясный и определенный смысл, чтобы поэт не превращал своих произведений в длинную и утомительную мистификацию».
Неизменный интерес к проблеме иронии в разных ее аспектах в настоящее время тем более закономерен и объясним, что находится в той или иной связи с появлением новой, постмодернистской, «иронической парадигмы». Однако, представляется, многочисленные исследования в области иронии не исчерпали тему; в частности, специальное изучение иронии в эпоху серебряного века началось сравнительно недавно.
Прежде чем перейти к проблематике современных концепций иронии, остановимся на одном моменте из истории понятия (эволюция представлений об иронии и комическом в связи с ней неоднократно освещалась1) — происхождении иронии — категории и слова. По мнению исследователей, слово «ирония» закрепилось в обиходе после Сократа. А в культуру — в широком смысле — вошло с созданием «Диалогов» Платона, которые являются ближайшим источником сведений о жизни и деятельности философа. Если рассматривать «Диалоги» как прообраз художественной прозы (А.Ф. Лосев") или романного диалогизма (М.М. Бахтин ), то своим рождением в культуре ирония будет обязана искусству по крайней мере в той же степени, что и мудрости. Специфика иронии как категории философско-эстетической — генетическая. Превращение иронии в «трансцендентальную», обретение ею статуса особой гносеологии (у истоков — немецкие романтики и К.-В.-Ф. Зольгер) и онтологии (Фр. Гегель), а также экзистенциального характера (С. Кьеркегор, Фр. Ницше) стало возможным именно благодаря «врожденному» потенциалу.
Образец философско-эстетической иронии в античности оставил только Сократ (через сочинения Платона, который и употребил слово «ирония» для характеристики сократовского «метода»). И комедиографы (Аристофан), и риторы (Цицерон, софисты), и философы (Аристотель) использовали ее — с разными целями — лишь как фигуру речи. В связи этим показательна этимология слова: греч. eironeia буквально означало «притворство, когда человек притворяется глупее, чем он есть»1, и восходило, по-видимому, к eiro — «говорю»2.
На парадоксальность феномена сократической иронии обратил внимание Фр. Гегель, и следом за ним — С. Кьеркегор. Современная история философии3 признает деятельность афинского мыслителя ключевым моментом в развитии европейской культуры, связывая ее с антропологическим поворотом, «когда субъективность впервые заявила о себе»4. Таким образом, категория иронии появляется в обстоятельствах одновременного «поворота» к новой философии и новому художественному сознанию, что не могло не сказаться на ее особенностях.
В современной гуманитарной мысли проблема иронии стала одной из центральных. Истории и теории иронии как эстетической категории посвящены работы А.Ф. Лосева и В.П. Шестакова, И. Паси, Е.И. Кононенко, В.М. Пивоева и др.
В рамках истории философии иронию в понимании Фр. Шлегеля, Новалиса, С. Кьеркегора, Фр. Ницше исследовали П.П. Гайденко, P.M. Габитова, Т.Т. Гайдукова, А.Э. Соловьев, С.А. Савоев, А.В. Гулыга, В.О. Пигулевский и др.
Основополагающими для изучения романтической иронии в литературе стали труды Н.Я. и Н.М. Берковских.
Об иронии в философии и искусстве XX века — от Т. Манна до постмодернистов — писали К.М. Долгов, М. Эпштейн, Е.Э. Дробышева и др.
Вообще, одной из филолого-философских тенденций XX века — эпохи «переоценки ценностей» — является ревизия теорий комического, — в отечественной науке, в первую очередь, связанная с открытиями М.М. Бахтина, Д.С. Лихачева, Ю.М. Лотмана, С.С. Аверинцева, во многом определившими и направление исследования феномена иронии.
К ученым, постигающим феномен смехового-комического в его новых горизонтах, принадлежат такие исследователи как В.И. Тюпа, М.Т. Рюмина, Л.В. Карасев, Н.С. Выгон, А.Г. Козинцев и др.
Работы Ю.Б. Борева, В. Вулиса, В.Я. Проппа, Т.Б. Любимовой, А.Б. Есина и Т.А. Касаткиной, Л.А. Спиридоновой, Л.И. Болдиной, И.Г. Минераловой и др. затрагивают объцеэстетические проблемы комического и иронии.
Вниманием литературоведов не обойден и вопрос о формах и художественных функциях иронии в наследии отечественных классиков XVIII, XIX, XX вв.: Г.Р. Державина, А.П. Сумарокова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Д.Н. Мамина-Сибиряка, Н.Г. Чернышевского, А.П. Чехова, А.А. Блока, Г.В. Иванова, Ф.К. Сологуба, Н.С. Гумилева, М.М. Зощенко, А.П. Платонова, В.В. Набокова, М.А. Булгакова, А.В. Вампилова и др.
Отдельный круг составляют исследования частных аспектов иронии, включая собственно лингвистический. Эта проблематика нашла отражение в работах Л.Л. Ким, Г.Л. Прокофьева, Е.М. Кагановской, В.З. Санникова, Е. Третьяковой, М.А. Паниной, Л.В. Чернец, О. Ермаковой и др.
Наконец, размышления об иронии обобщаются, при этом порой теряя в глубине и нюансах, в учебных изданиях для высшей школы, литературных энциклопедиях и энциклопедических словарях.
Каковы же основные проблемы современной теории иронии как философско-эстетической категории?
Ирония и лирика в свете художественно-эстетической рефлексии начала XX века
Культурные процессы рубежа XIX-XX веков ознаменовали вступление европейской цивилизации в новую историческую эпоху. В России этот период перелома во всех областях жизни получил название серебряного века. Исполненный великих откровений и великих «бездн» (ср. одноименный рассказ Л.Н. Андреева, парафразирующий мотивы Ф.М. Достоевского), серебряный век неисчерпаем как культурный Символ. В «воздухе» (В.Ф. Ходасевич) эпохи были разлиты и «жажда» Нового — литургического — «синтеза» (Вяч.И. Иванов и младосимволисты)1, и проповедь Новой церкви («Религиозно-философское общество»: Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, Д.В. Философов и др.), и поиски Нового театра (К.С. Станиславский; Н.Н. Евреинов; Вс.Э. Мейерхольд; М.М. Фокин, В.Ф. Нижинский), — говоря вообще, Нового языка: музыки (А.Н.Скрябин, И.Ф. Стравинский и др.), живописи (от «Мира искусства» до конструктивистов), литературы (В. Хлебников и футуристы только эпизод этого «глобального» процесса), кинематографа и т. д.
Одной из доминант стиля эпохи, одним из «ингредиентов» «воздуха» серебряного века стала ирония — как феномен мировоззренческо-художественного порядка. Исследователи неоднократно констатировали этот факт: «Литература серебряного века... в целом может быть уподоблена колоссальной трагииронической эпопее со своими героями — гениями, полусвятыми, жертвами, жрецами, вонами, провидцами, тружениками и бесами. ... Размах маятника в этой эпопее, в этой коллективной божественной комедии, особенно широк: от бездны метафизической и космической до бездны игрушечной и портативной, от настоящей крови до клюквенного сока, от заигрывания с бесами до экстатического религиозного прозрения»1. «Трудно судить со всей определенностью, что провоцирует «иронические» тенденции в жизни отдельных культурно-исторических эпох, определить, в каких «отношениях» с реальными фактами жизни отдельных личностей и собственно целого общества находится «ироническое мировидение», но совершенно ясно, что эпохи «резких перемен», эпохи, чреватые «катастрофическими предчувствиями», более склонны к «разладу мечты и реальности», провоцирующему «критическое (часто ироническое [курсив автора. — О.Г.]) осмысление настоящего и патетическое видение грядущего»2.
Каковы же свидетельства самой эпохи о духе иронии? В первом номере «Аполлона» (1909) — печатного органа акмеистов, всячески декларировавших «преодоление символизма» (В.М. Жирмунский), в открывающей журнал программной статье автор, А.Н. Бенуа, рисует духовный «портрет» современников, отмечая «глубоко укоренившийся... скепсис», постоянную «нотку самоиронизирования», скорбит о том, что «прячась» «за двусмысленной «на всякий случай» усмешкой», «мы так опустились, что просто забыли о гимне». «...Велика греховность этого раздвоения, этого совмещения и людской суеты и службы богам. Пора перерасти [курсив автора. — О.Г.] иронию. ... В тех, кто определенно почувствовал близость Утешителя, должно быть больше веры, простоты и упования» . Очевидно, что ирония в данном случае понимается метафизически, осмысливаясь в религиозно-нравственном контексте: как падение («опустились»), «греховное» «раздвоение», напрямую связанное с «людской суетой» и безверием. «Гимн Аполлону», «служба богам» «вера», «простота» и «упование», — считает А.Н. Бену а, — возможны только по ту сторону «двусмысленной усмешки».
Ощущение двойственности, расколотости человеческого сознания надвое как причины трагизма эпохи было присуще практически всем деятелям серебряного века, являясь общей чертой мировоззрения. Типичным примером может служить характеристика рубежа веков Д.С. Мережковским: «Теперь последний догматический покров навеки сорван, последний мистический дух потухает. И вот современные люди стоят, беззащитные, — лицом к лицу с несказанным мраком, на пограничной черте света и тени, и уже более ничто не ограждает их сердца от страшного холода, веющего из бездны. ... Никогда еще люди так не чувствовали сердцем необходимости верить и так не понимали разумом невозможности верить»1.
Проникающий серебряный век дух иронии воссоздается (и сохраняется) в воспоминаниях многих эмигрантов. Так, Дон Аминадо вписывает фигуру Д.С. Мережковского в контекст эпохи, с одной стороны, иронически «снижая» пафос его религиозно-философского «учительства», с другой же — указывая на внутренние противоречия писателя, который сам не избегнул иронической парадоксальности, «двоился»: «А тут еще в суматохе-неразберихе в придачу, заблудившись между Христом и Антихристом, великий красногубый грешник с прозрачными глазами, прочитавший всю Публичную библиотеку и наизусть знающий и Четъи-Минеи, и полное собрание сочинений Баркова , второй год подряд печатает свой исторический роман — Дмитрий Сергеевич Мережковский. Роман называется «Александр I»3. «Небывалая умственная свобода» и «смелость отрицания» , свойственная художникам рубежа веков, сказалась в стремлении познать, «воссоединить» в собственной душе части распавшегося целого: «святое» и «греховное», «да» и «нет», «созидание» и «разрушение», «Аполлона» и «Диониса», «небо» и «землю»2. Путь поэта через неудержимо влекущую «бездну» стал одним из продуктивных мифов эпохи. В связи с этим можно говорить не только о «романе в стихах» А.А. Блока3. Эллис писал о лирическом герое К.Д. Бальмонта, «...сознавшем весь ужас неизбежных раздвоений духа, ищущего «последнего» о «неумолимой, изначальной правде о двойственности человеческой души, нашедшей свое первое выражение уже в Библии, правде мифов об Икаре и Фаэтоне, правде трагедий Фауста и одинаково Лермонтовского Демона», которая «дышит и живет в этой замечательной книге» («Будем, как Солнце!»)4. Близкие идеи высказал в своей знаменитой статье «О теургии» А. Белый: «Для того, чтобы... теургизм мог, наконец, прозвучать неуловимо-пленяющим, неожиданно-священным, новым оттенком, какую степень раздвоенности должен был пройти лучший из нас... Наш путь через отчаяние, через зияющие ужасы трагизма». «Нужно пройти через хаос; остановиться перед ним значит никогда ничего не узнать [курсив автора. — О.Г.], значит не видеть света. Остановиться в хаосе значит сойти с ума» и т. д.
Поэтика образа Пьеро: ироническое и трагическое
Ранние песни А.Н. Вертинского, вошедшие в его репертуар1, исполнялись в гриме и костюме Пьеро. По словам артиста, эта «маска» была нужна, чтобы скрыть «страх перед публикой»: «...боясь своего [курсив автора. — О.Г.] лица, я делал сильно условный грим: свинцовые белила, тушь, ярко-красный рот. Чтобы спрятать свое смущение и робость, я пел в таинственном «лунном» полумраке...»2. Однако ограничиваться «психологическим» объяснением, уместным в мемуарах, со стороны исследователя едва ли корректно3. Наша задача — проследить в сценическом решении ранних выступлений А.Н. Вертинского черты стиля эпохи и раскрыть его эстетическое содержание.
Всевозможные «ряжения» были, как известно, общей тенденцией в художественной среде начала XX века. Причем «маски» носили и произведения — к стилизации и «новой стилизации» обратились практически все искусства, от литературы и театра («Старинный театр» Н.Н. Евреинова и Н.В. Дризена, эксперименты Вс.Э. Мейерхольда и др.) до живописи («Мир искусства») и музыки, — и их создатели. И.В. Одоевцева вспоминала: «Рассказывали, что она [Зинаида Гиппиус — О.Г.] выходила на сцену в белом хитоне с распущенными длинными рыжими волосами, держа лилию в руках, и молитвенно произносила:
Я сам себя люблю, как Бога. ... Видела я прославленный портрет Бакста, где она изображена в черном трико, казавшемся в те далекие годы фантастически неприличным и скандальным»1. Создавая свой образ, играя ту или иную роль, многие тогда стремились претворить жизнь в произведение искусства.
О проникновении театрально-эстрадного элемента в литературный быт свидетельствуют и выступления с лекциями А. Белого, А.А. Блока и др., «концерты» М.А. Кузмина и «поэзоконцерты» И. Северянина, мероприятия, подобные вечерам крестьянской поэзии под эгидой СМ. Городецкого, эпатировавшие публику «действа» футуристов, наконец, появление артистических кабаре — «Летучая мышь» (1908 г.), «Бродячая собака» (1912 г.) и др., — во второй половине 1910-х гг. их в России было уже несколько сот".
Очевидно, «маска» А.Н. Вертинского принадлежит именно этой — полулитературной, полуэстрадной — традиции. Трудно установить, была ли идея «подсказана» начинающему артисту М.А. Арцыбушевой, возглавлявшей Мамоновский (Петровский) театр миниатюр3, где он дебютировал как исполнитель «песенок», или родилась самостоятельно.
Может быть, какую-то роль сыграло то, что в одной из арцыбушевских постановок А.Вертинский должен был перевоплощаться в персонажа commedia delParte — Арлекина1.
Выбор Пьеро — «маски» dell arte, преломленной через французскую традицию придворных и ярмарочных постановок2, также вполне созвучен стилю эпохи: образы и мотивы итальянской народной комедии чрезвычайно популярны на рубеже веков как в Европе, так и в России. Они присутствуют в поэзии А.А. Блока, А.Белого, А.А. Ахматовой (цикл «Алиса» в сборнике «Вечер»), М.А. Волошина и др.; в живописи и графике О. Бердслея, П. Пикассо, П. Сезанна, К.А. Сомова, Н.Н. Сапунова и др.; востребованы в театре: Вс.Э. Мейерхольд обращается к блоковскому «Балаганчику» (1906, 1908, 1914 гг.) — первый вариант — с музыкой М.А. Кузмина; М.М. Фокин для бала «Сатирикона» ставит балет «Карнавал» на музыку Р. Шумана, А.Я. Таиров — пантомиму «Покрывало Пьеретты» по А. Шницлеру и т. д.
Следует сказать, что персонажи итальянской комедии к тому времени давно ассимилировались в русской культуре: «Первая труппа итальянских актеров комедии масок, выписанная Анной Иоанновной из Польши сроком на один год, прибыла в Москву в феврале 1731 г.»3. Отечественные модернисты, и А.Н. Вертинский в их числе, во многом переосмыслили традиционное содержание масок delParte и предложили собственную «версию», отвечавшую эстетическим вкусам серебряного века.
Со сценическим образом Пьеро связан целый период творчества А.Н. Вертинского. С конца 1917 г. костюму Пьеро на смену впервые приходит другая эстрадная «маска» — «человек во фраке» . Однако, по всей вероятности, костюм Пьеро использовался и позднее, — как указывает Энциклопедический словарь «Рубикон», «до 40-х гг.»1. По крайней мере, он был в реквизите А.Н. Вертинского в Харбине2.
Мы предполагаем, что «маска» Пьеро представляет собой не «случайный» и «посторонний» творчеству А.Н. Вертинского театральный атрибут — она обладает многомерным эстетическим содержанием и является неотъемлемой частью того синтетического целого, каковым следует считать каждую песенную миниатюру артиста. В искусстве А.Н. Вертинского нашла яркое воплощение идея художественного синтеза, под знаком которой проходили искания крупнейших поэтов, прозаиков, живописцев, музыкантов, ученых и философов серебряного века — при всем несходстве интерпретаций современниками этой идеи. Если символисты придавали синтезу «... уникальное значение средства для разрешения масштабных религиозно-мистических, выходящих за рамки художественного творчества, задач», то оппозиционные символизму деятели видели в нем источник «...обогащения палитры изобразительных средств...» , т. е. прием, открывавший новые эстетические горизонты.
А.Н. Вертинский следовал по второму пути, создав на основе синтеза поэтической, вокально-музыкальной, визуально-живописной, театрально-эстрадной компонент уникальный жанр — сам автор называл ранние произведения «ариетками» или «печальными песенками» Пьеро, — что позволяет ряду исследователей считать его первооткрывателем целой области песенной культуры — авторской песни .
Женские образы (образы Коломбины): синтез искусств в создании внутренней формы
Театральное «прошлое» маски, к которому восходят характерные способы создания персонажа — через действие, интригу с участием других героев, сказалось и в том, что Пьеро непосредственно (или ассоциативно) сопутствуют другие «маски» «любовного треугольника» commedia dell arte — Коломбина и Арлекин. Так, лирическим героем-Пьеро в ряде случаев «мотивирована» система образов и тематика «песенок».
Адресатом любовных, любовно-насмешливых и просто иронических признаний Пьеро А.Н. Вертинского выступает героиня-Коломбина, — при этом в каждой «песенке» — своя вариация, новый, неповторимый женский образ. Коломбиной лирический герой называет свою спутницу только однажды — в «Трефовом короле» (1918/?/):
Как недолго Вы были моей Коломбиною... В заключительной строфе это имя возникает снова, но уже с «зеркальной» иронической семантикой, — заключенное в кавычки. Они выделяют слово интонационно: насмешливое звучание логически подготовлено предшествующим текстом — иронической апологией пошлого здравомыслия, которое предпочитает «лунному пению» материальную обеспеченность («бриллианты, эспри и манто») и соответствующий образ жизни тому, что может предложить «бродяга из лунных зевак». Более или менее точный «синоним» «Коломбины» как «чужого слова» — «сумасшедшая». С другой стороны, имя, отчужденное кавычками, противопоставлено Коломбине и Пьеро в 1 и 2 строфе. Метафорически-нарицательное — реальному: играть роль, казаться и по-настоящему «быть» — не одно и то же. Только поэт может «родиться» Пьеро, только настоящая актриса может стать его Коломбиной — без той условности, на которую намекают кавычки. «Коломбина» из «Трефового короля» — «фокус» лирико-иронического: в одном слове (и образе) совпадают лирический императив — «.. .надо быть Коломбиной» и насмешливое «чужое слово».
Имена других героинь часто условны, полутеатральны: Люлю («Минуточка» 1914-15), Мэри («О шести зеркалах» 1917) [посвящено МЮ.], Ирена («Пани Ирена») [посвящено Ирине Н-й], Мален / «принцесса Мален» («Принцесса Мален» 1920)1, Иветта («Танго «Магнолия» 1931), Магдалина (Piccolo Bambino 1933). В песне «Мыши (1949) — целый каскад сценических аллюзий:
То Вы были Норой, то Ларисой, То печальною сестрою Беатрисой... — Г. Ибсен, А. Островский, М. Метерлинк. Ниже «юная актриса» иронически сравнивается с Элеонорой Дузе — знаменитой итальянкой начала XX века, игравшей, в частности, Нору в «Кукольном доме» Г. Ибсена. В этом перечне «зашифрована» и еще одна отсылка к «молодости», которую вспоминает лирический герой, — знаковому для серебряного века имени В.Ф. Комиссаржевской: она блистала во всех трех ролях.
Женские образы в «ариетках» Пьеро — яркие, запоминающиеся и непохожие один на другой. Галерею «кукольных», «марионеточных» персонажей открывает Люлю из «Минуточки» — первой «ариетки» А.Н. Вертинского: Ах, солнечным, солнечным маем, На пляже встречаясь тайком, С Люлю мы, как дети, играем,
Мы солнцем пьяны, как вином. Пьеро рядом с ней — «мальчик-пай». Их «игра в любовь» — короткая, как лето: «...в августе горе скрываем». При расставании оба, «точно дети, рыдают». Комически-утрированное «рыдают» характеризует героев наивных, беззаботных: он — «плачет, как глупый ребенок», она — «утешает», «ласкаясь... как котенок» и «голосом милым звеня». Несерьезность, легковесность героев — чисто кузминского образца — «дважды два — четыре». Подчеркнутая «разность» между автором и героем создает иронический эффект, автор «выглядывает» из-под простой, может быть, даже простецкой «маски» своего персонажа. Однако этим «песенка» не исчерпывается. И если легкомысленная парочка слишком поздно ищет утешения в том, что
.. .любовь... — только шуточка. Ее выдумал глупый май, — то для автора это не разгадка, не ответ, а повод поставить «вечный» вопрос — о любви. Так, ирония не затмевает, а скорее высвечивает лирический пафос вещи.
Другому типу женских образов эффект стилизованности сообщает «сказочная» метафорика. Это уже не «куклы», «марионетки», а волшебные «принцессы» и «королевы». В таких «ариетках» как «Сероглазочка» (1915), «Пани Ирена» (20-е гг.) и др. Пьеро преображается в лукаво-утонченного, декадентски-изысканного воздыхателя. Детскую наивность сменяет рефлексия, лирический герой становится полноправным субъектом иронии.
«Сказочные» образы Сероглазочки и Ирен контрастны. Рисуя словесные портреты героинь, А.Н. Вертинский использует, соответственно, приемы «затемнения» и «высветления». Не случайны и живописные ориентиры: Гойя с его темным, мрачным колоритом и гротесково-иронической доминантой и ясные боттичеллиевские тона. И хотя имя художника не названо в тексте, в отличие от «Испано-Сюизы» (1928), облик флорентийки, запечатленный на многих его полотнах (по легенде, Боттичелли был в нее влюблен) — «Весна», «Рождение Венеры» и др., возможно, ассоциативно соположен с лирическим портретом Ирен. Ср. следующие фрагменты: «золотистый плен ... медно- змеиных волос» («Рождение Венеры»), «детские плечи» (округлые плечи — узнаваемая черта боттичелиевской модели), «весна в повороте лица» (в «Испано-Сюизе» имя живописца связано метафорой «весна Боттичелли»), сочетание «золотистого» и «голубого» («Рождение Венеры»)1. Косвенно эту аллюзию подтверждает отсылка к творчеству другого итальянца — Данте, воспевшего Беатриче.
Способом создания женского образа — «затемнение» или «высветление» — предопределен «сюжет» «песенок». Можно сказать, что «сюжетны» сами портреты. В отличие от живописи — пространственного искусства, музыкально-поэтические «портреты» А.Н. Вертинского имеют временную протяженность. Черты, проступающие от строфы к строфе / от куплета к куплету, постепенно складываются в целую «картину», обуславливая закономерный для лирического героя финал.