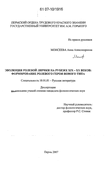Содержание к диссертации
Введение
Глава I Начало формирования образа Лжедмитрия І в ранней литературе о Смутном времени .
1. Современники Смуты о первом Самозванце 14
2. Димитрий Самозванец в литературе конца XVIII - начала XIX вв. (АЛ. Сумароков, В. Т. Нарежный, К. Ф. Рылеев) 35
Глава II - Образ Самозванца в литературе карамзинско-пушкинского периода (1824-1835).
1. Лжедмитрий I в «Борисе Годунове» А.С. Пушкина и «Димитрии Самозванце» Ф.В. Булгарина 56
2. Трактовка образа Самозванца в драматургии 1830-х гг. (М.Е. Лобанов, А.А. Шишков, А.С. Хомяков, МЛ. Погодин) 83
Глава III - Раскрытие характера Самозванца в литературе второй половины XIX - рубежа XX века .
1. Лжедмитрий I в драматургии 1860-х - 1870-х гг. (Н.А. Чаев, А.Н. Островский, А.Ф. Федотов, А.К. Толстой, А.А. Голенищев-Кутузов) 114
2. Самозванец в исторической романистике последней трети XIX в. {И. Я[син]ский, Д.Л. Мордовцев, ВЛ. Авенариус, Н.Н. Алексеев) 148
3. Лжедмитрий І в поэзии и драматургии рубежа XIX - XX вв. (А.Д. Львова, Н.Л. Пушкарев, А.С. Суворин) 170
Заключение 188
Библиография
- Димитрий Самозванец в литературе конца XVIII - начала XIX вв. (АЛ. Сумароков, В. Т. Нарежный, К. Ф. Рылеев)
- Трактовка образа Самозванца в драматургии 1830-х гг. (М.Е. Лобанов, А.А. Шишков, А.С. Хомяков, МЛ. Погодин)
- Самозванец в исторической романистике последней трети XIX в. {И. Я[син]ский, Д.Л. Мордовцев, ВЛ. Авенариус, Н.Н. Алексеев)
- Лжедмитрий І в поэзии и драматургии рубежа XIX - XX вв. (А.Д. Львова, Н.Л. Пушкарев, А.С. Суворин)
Димитрий Самозванец в литературе конца XVIII - начала XIX вв. (АЛ. Сумароков, В. Т. Нарежный, К. Ф. Рылеев)
Начало XVII в. знаменовало собой не только новую эпоху в политической жизни России, но и стало новым этапом в развитии русской национальной литературы. Писатели-современники Смутного времени, чаще всего активные участники событий той эпохи, живо и заинтересованно откликались на частую смену обстоятельств внутренней жизни государства и его правителей. Фактически русская литература превратилась в общественно-политическую трибуну и стала играть «по-настоящему громадную гражданскую роль в жизни общества. Ее темы общенациональны, ее слово властно и требовательно, ее критическое отношение к недостаткам общественной жизни беспощадно», -писал по этому поводу академик Д.С. Лихачев.
Во времена сложных и трагических событий, династических неурядиц и самозванщины, нравственной и политической неустойчивости правящей элиты государства и особо высокой активности низов российского общества, впервые принимавших непосредственное участие в решении вопросов о престолонаследии и судьбе страны, постепенного перерастания губительной гражданской войны в широкое патриотическое движение, направленное на изгнание иностранных интервентов и восстановление прочных начал государственности, «литература стала своеобразным судом над происходящим и произошедшим».
Авторские отклики на события Смуты и деяния видных ее участников принимали самые разнообразные формы и воплощения. «Литературный характер произведений о смуте очень разнообразен», - отмечал историк С.Ф. Платонов, первым осуществивший комплексный анализ произведений начала XVII в. о Смуте.1 В целом «изображению и объяснению событий этого периода было посвящено более 30 произведений, отмеченных полной литературной самобытностью, не считая множества разнообразных компилятивных описаний». Это были повести, сказания, жития, видения, истории, хронографы, народные плачи и песни, в которых преломлялись окружающие или минувшие события или поведение конкретных людей. Многожанровость литературы и различное социальное происхождение авторов обеспечили широкое и многогранное освещение событий Смутного времени в этих сочинениях. Это определяло их литературно-историческую значимость на протяжении веков. «Одни из них тем и драгоценны, что были составлены в самую смуту; другие отличаются или богатством содержания, или оригинальными взглядами на эпоху, значение которых заключается в том, что они были высказаны современниками смуты; третьи, наконец, возбуждают интерес личностью автора»3
Качественно новой особенностью произведений о Смуте было также то, что авторы XVII в. стали отходить от упрощенного противопоставления добра и зла. «В эту эпоху меняется взгляд на историю, на государственную власть, на самого человека»4 Д.С. Лихачев в статье «Проблема характера в исторических произведениях начала XVII в.» отмечал, что сочинения современников о Смуте «резко отличаются от предшествующих летописей ... в первую очередь повышенным интересом к человеческому характеру и новым к нему отношением».
Иван Грозный и его сыновья Федор и Дмитрий, Борис Годунов, Самозванец ЛжеДмитрий I и Василий Шуйский, патриархи Иов и Гермоген, Д. Скопин-Шуйский и П. Ляпунов, князь Д. Пожарский и К. Минин, П. Басманов и И. Заруцкий, царевна Ксения и Марина Мнишек, Марфа Нагая и семейство Романовых - вот главные герои литературы первой трети XVII в.
Собственная позиция автора или выполняемый им социальный заказ влияли как на отбор и интерпретацию фактов, так и на обрисовку характеров и исторических лиц.3 Писатели, современники Смуты, выработали такой совокупный взгляд на деятелей своего времени, который сохранился на протяжении столетий. «Поразительные по своеобразию характеристики, созданные в повествовательной литературе начала XVII в., воздействовали на всю историческую литературу последующего времени. Пересматривались факты, но не пересматривались характеристики))4 Конечно, речь идет не о застывших образах, словно высеченных навечно в мраморе, но об определяющих чертах характера исторических лиц, находивших свое выражение в их конкретных поступках или в поведении в целом. В наибольшей степени это относится к Лже Дмитрию I.
Самым ранним из известных сегодня произведений о Лжедмитрии I было «Сказание о Гришке Отрепьеве» , существовавшее в рукописную эпоху отечественного книжного дела во множестве списков. В 1847 г. была дважды опубликована пространная редакция этого сочинения под названием «Сказание и повесть, еже содеяся в царствующем граде Москве и о Гришке Отрепьеве и о похождении его».1 Позднее в 13-ом томе Русской исторической библиотеки была напечатана краткая редакция «Сказания» , которая и рассматривается коротко в настоящей работе.
Современные исследователи полагают, что «Сказание о Гришке Отрепьеве» (краткая редакция) было написано в первые дни после свержения и убийства Лжедмитрия I и не позднее времени перенесения мощей царевича Дмитрия в Москву, т.е. в промежутке между 17 мая и 3 июня 1606 г. Краткая редакция при этом предшествовала пространной и была призвана обосновать законность воцарения Василия Шуйского. Автором «Сказания», по-видимому, был думный дворянин М.И. Татищев.3
По своему содержанию и языку «Сказание» можно определить как политический памфлет, направленный против Бориса Годунова, возводившего «изменное слово», особенно «на великих и славных царских бояр, православные християнские истинные веры правителей, на князей Шуйских» (стлб.715-716), и виновного в убийстве царевича Дмитрия. Еще в большей мере «Сказание» предназначалось для развенчания Гришки Отрепьева, который «дъяволским научением и еретическим умышлением и бесовскими кознъми нача себя називати царевичем Димитрием Ивановичем Московским» (стлб.718). «Славный премудрый боярин и воевода Василей Иванович Шуйской» в «Сказании» противопоставляется «темному и лукавому» Лж& Дмитрию (стлб.725).
Трактовка образа Самозванца в драматургии 1830-х гг. (М.Е. Лобанов, А.А. Шишков, А.С. Хомяков, МЛ. Погодин)
Литературное дарование Василия Трофимовича Нарежного (1780-1825) также многими современниками и позднейшими критиками подвергалось сомнению, «это был писатель даже в свое время несколько старомодный»}
Одним из первых сочинений В. Нарежного явилась поэма «Освобожденная Москва» (1798), написанная сразу же после постановки трагедии М.М. Хераскова. Поэма была посвящена, однако, другому периоду русской истории, а именно нашествию Тамерлана при Василии I.
В 1800 г. двадцатилетний уроженец Украины В.Т. Нарежный пишет значительное по объему драматическое произведение на тему Смутного времени - «Димитрий Самозванец». Одноименная трагедия Сумарокова была в тот момент еще весьма популярной и «почиталась ... превосходною. Может быть сей успех обольщал Нарежного», - отмечал в 1830 г. «Московский Телеграф».2
Между пьесами Нарежного и Сумарокова можно найти немало общего (в том числе слабый историзм и введение любовной линии с участием вымышленного персонажа Георгия Галицкого), хотя Нарежному-драматургу, несмотря на его молодость, удалось достичь гораздо большего, чем его предшественнику. Он полностью разорвал тесные рамки классической трагедии: в его «Димитрии Самозванце» события динамично развиваются, действие переносится из одного места в другое, да и язык не всегда соответствует строгим нормам. Нарежный выводит на сцену значительно большее число персонажей (шестнадцать основных, не считая стражи и народа, против шести у Сумарокова), многие из которых являются реальными
Сумароков - типичный представитель школы классицизма, в то время как Нарежный - вероятно, под влиянием немецкой драматургии -отходит от строгих канонов построения трагедии и тяготеет к романтизму.
Трагедия была напечатана в 1804 г.1 и поставлена в Москве в 1809 г., став единственной дошедшей до сцены пьесой Нарежного. Современный анонимный критик воспринял ее как произведение сырое и рекомендовал автору в числе прочего забыть «расположение Немецких трагедий ... переделать свою, выбросить все лишние разговоры, а оставить необходимые для главного содержания, поправить слог...», и вот тогда, по мнению рецензента, он «напишет прекрасную трагедию» ъ С этим мнением впоследствии согласился и А. А. Бестужев-Марлинский, считавший, что сочинения Нарежного «имели б в себе много характеристического и забавного, если бы в их рассказе было поболее приличия в отделке, а в происшествиях поменее запутанности и чудес» 4
Другие позднейшие критики и исследователи творчества Нарежного расходились во мнениях. Одни полагали, что своими ранними сочинениями, в числе которых был и «Димитрий Самозванец», он «возбудил» «великую надежду», что автор «имел решительный талант; это доказывают его романы, это доказывает и самый его «Димитрий Самозванец»»5 Другие находили трагедию «очень посредственным произведением», подчеркивая, что деятельность писателя - «важное явление в литературе» первой четверти XIX в., а в «комических романах В. Нарежный является писателем, достойным внимания и хвалы».
В большинстве своем поэтические опыты писателя не получили продолжения, между тем успехи и заслуги В.Т. Нарежного в романистике действительно огромны. Сатирическими романами «Российский Жильблаз, или Похождения Гаврилы Симоновича Чистякова» (1814), «Черный год, или Горские князья» (1818), «Аристион, или Перевоспитание» (1822) Нарежный ввел в отечественную литературу новое сатирическое направление и открыл дорогу последователям - Ф.В. Булгарину и Н.В. Гоголю. С последним Нарежного роднит талант бытописателя и тонкий юмор, «они были земляками не только по происхождению; они были земляками по духу», - пишет В. Данилов и приводит высказывание писателя И.Гончарова: «Он (Нарежный) школы Фон-Визина, его последователь и предтеча Гоголя...»1
Сатирическое начало присутствует и в ранней трагедии Нарежного «Димитрий Самозванец». (Приведем один только пример: «Послушай, не знаю по какому непонятному случаю, взошло в России в обыкновение, чтоб Московские Цари никогда не имели отцами нищих...» - с.141.) «Сии простые ... слова, со многими комическими шутками, которые есть в Самозванце Г-на Нарежного» и, по мнению анонимного критика, «совсем не годятся в трагедии» , впоследствии были широко использованы М.П. Погодиным (кстати, по рекомендации Гоголя) в «Истории в лицах о Димитрии Самозванце».
ГПИ. Вып. 25. Кафедра русской и зарубежной литературы. - Куйбышев, 1959. С.96 . произведений XIX в. о Смуте, в большинстве своем опиравшихся на широко известные исторические концепции (Н.М. Карамзина, а позднее - Н.И. Костомарова, СМ. Соловьева, С.Ф. Платонова, Д.И. Иловайского, В.О. Ключевского и др.) относительно личности и происхождения Самозванца.
Называя Самозванца Отрепьевым, драматург никак не поясняет, каким образом тот склонил на свою сторону поляков; введенный в действие посланец Папы римский монах Игнатий занимается дворцовыми интригами, долгое время не подозревая о самозванстве царя; Шуйский и Басманов в трагедии как будто меняются ролями относительно своих исторических прототипов. Безусловно, неразвитость исторической науки в конце XVIII в., недоступность многих документов вынуждали драматурга самостоятельно достраивать цепь событий и дорисовывать портреты участников Смуты. Полулегендарный исторический Лжедмитрий был воспринят и представлен молодым автором в виде тирана и злодея. В этом смысле Самозванец в трагедии Нарежного близок к сумароковскому, с той лишь разницей, что его слова частично подкреплены действиями. При этом у Нарежного лжецарь также весьма непоследователен и противоречив.
Самозванец в исторической романистике последней трети XIX в. {И. Я[син]ский, Д.Л. Мордовцев, ВЛ. Авенариус, Н.Н. Алексеев)
Погодинская Марина Мнишек - юная кокетка, по своему характеру весьма подходящая своему супругу, хотя характер ее нарисован не вполне ярко. Писатель и журналист О.И. Сенковский называл ее «баядеркой», которая «умеет только целоваться»,, «да еще плясать мазурку».
В трагедии Хомякова образ Марины Мнишек четче и рельефнее. В некоторой степени она напоминает пушкинскую героиню, сначала очаровывающую Самозванца, а затем буквально отпугивающую его своей безжалостностью. Вслед за Пушкиным автор «Димитрия Самозванца» сравнивает надменную польку со змеей. Однако героиня Хомякова заботится не только и не столько о себе, сколько о судьбе Польши и планах Рима3; под чутким руководством отцов-иезуитов она активно воздействует на образ мыслей супруга. Ее совет Самозванцу - устроить врагам ловушку и хладнокровно расправиться со всеми сразу {«Когда настал борьбы последний день исторической драматургии С.62) о том, что любовь Марины к Димитрию «бескорыстна», представляется спорным. характеру, он воин, а не палач и не готов к «гнусной измене» и «казни невинных». В то же время Марина справедливо, хоть и в довольно резкой форме, указывает Лжедмитрию на его недостатки как государя («Ты хуже всех тиранов - ты еретик», «...оскорбив народа предрассудки, / В нем не ищи подпоры и любви» - X, с.398, 399) и предостерегает: «Жди мятежей и злобы ядовитой / И зреющей к восстанию вражды!» (X, с.399). Не будь эти слова подсказаны патером Квицким, они, вероятно, могли бы свидетельствовать об истинной любви Марины к супругу и ее мудрости (как, например, в романе Ф.В. Булгарина «Димитрий Самозванец»).
Как уже говорилось выше, и в трагедии, и в «Истории в лицах» рядом с Самозванцем постоянно находится верный и бескорыстный советник Басманов, чьи действия продиктованы заботой о государе и государстве. У Погодина Петр Басманов является воспитателем, наставником сумасбродного царя: «Вот еще няньку Бог дал ему! А без него давно бы он сломил шею», - комментирует дворцовая прислуга (с.77). По мнению О.И. Сенковского, погодинский Басманов - «бессильный учитель, который не может справиться с подвластным ребенком ...не умеет заставить себя слушать»1
Озвучиваемая Басмановым идея обязанности царя действовать во благо государства сближает трагедию Хомякова и «Историю в лицах» Погодина с пьесой А.П. Сумарокова, где носителем той же идеи является наперсник Пармен. Разница лишь в том, что у Сумарокова Пармен упрекает Самозванца в пролитии крови невинных и неоправданной жестокости, а в трагедии Хомякова Басманов, наоборот, призывает царя быть жестче и не гнушаться вынужденных жертв («Теперь / Лишь кровию, и лишь потоком крови, / Спасешься ты» - X, с.407).
При различной трактовке характера Самозванца (тиран у Сумарокова, рыцарь у Хомякова, пустозвон у Погодина) очевидно, что во всех трех случаях царь неверно понимает свои обязанности перед государством, недооценивает
Когда тебя судьба на трон такой взвела, Не род, но царские потребны нам дела....Без пользы обществу на троне славы нет. Еще любовь к тебе неостывает, Еще тверда присяга... Стряхни с порфиры прахчужого края\ На славу предков смелоопершись, Стань средь бояр, средьверного народа С могуществом всей русскойстороны, Иноплеменных ужас, бичстроптивых, И милостив, и кроток, иправдив.Погибнет он, но я еголюблю: Незлобный дух, и смелый, идостойный Прекрасного российского венца. Будь благоразумен, Христа ради будь благоразумен. Не поставь против себя бояр, из коих многие еще преданы тебе. Приобрети любовь прочих. Поддержи себя с твердостию и гордостию против иноземцев... Иначе ты погубишь себя. ... ...Покажи себя Царем, как ты показал себя под Добрыничами. Чтоб видели Бояре, что ты себя и Русскую силу знаешь, и не считали тебя чьей-нибудь игрушкой ... а там и веселись. ...Всем бы ты был хорош, если б умел держать себя поприличнее, и скрывать дела, противные их [бояр] образу мыслей.
Конец Самозванца бесславен. В «Истории в лицах» Самозванец, узнав о начале бунта и прямой угрозе его жизни, заламывает руки: «Ах! Боже мой! Я не ожидал» (П, с.1.70). В то же время, видимо, заразившись от него беспечностью, бояре-заговорщики упускают из виду суетливое движение Шуйского в направлении трона. Прозрение приходит, как всегда, слишком поздно, Василий Шуйский уже провозглашен царем; боярам же остается лишь также заламывать руки: «Как? Царем? За что?» (П, с. 182) и грозить: «Сгубили льва, так справимся с лисою» (X, с.461).
Б.Ф. Егоров полагает, что Хомяков не мог воспользоваться опытом Сумарокова и даже вряд ли был знаком с его «безнадежно устаревшей» трагедией (см.: Примечания // Хомяков А.С. Стихотворения и драмы. - Л., 1969. С.579). Однако, на наш взгляд знакомство Хомякова с пьесой Сумарокова не подлежит сомнению: маловероятно, чтобы, обратившись к образу Самозванца, поэт не изучил предварительно опыт предшественников, не говоря уже о том, что Сумароков был еще весьма читаемым и почитаемым автором в первой трети XIX века. Кроме того, даже в устаревшем сочинении Хомяков мог почерпнуть отдельные идеи и художественные элементы, что доказывают приводимые нами примеры.
Современники, отдавая должное таланту художника, «осуждали Погодина за то, что он от главного, избранного им предмета - истории -отвлекался поэзией». И все же, по сравнению с романтическим лиризмом трагедии Хомякова, погодинская «История в лицах» прозаична и по форме и по содержанию. Историк Погодин тяготеет к реализму, о чем свидетельствует запись в дневнике Погодина (1831 г.): «Мы смотрим с ним с двух сторон, он непременно хочет опоэживатъ как бы с хором, а я буду брать истиной». Сцены, реплики персонажей выглядят обыденными, жизненными; именно так вели бы себя и разговаривали люди в реальных обстоятельствах. В этой прозе жизни заключено ярко выраженное ироническое начало. По свидетельству современников, М.П. Погодин обладал «живым темпераментом, кипучей фантазией», речь его была образной и яркой4. Однако «Погодин, при всей широте своего ума и разнообразии способностей, был не богат юмором и остроумием», которыми «обладал в высшей степени» Н.В. Гоголь, на протяжении многих лет бывший близким другом Погодина.5 Именно Гоголь настаивал на использовании Погодиным «смешного» в драматических сочинениях. «Ради бога, прибавьте боярам несколько глупой физиогномии. Это необходимо так даже, чтоб они непременно были смешны», - писал он Погодину в феврале 1833 г., когда тот работал над хроникой о Борисе Годунове. Погодин в полной мере последовал совету друга и тогда, и позднее, при написании «Истории в лицах о Димитрии Самозванце». Так, фраза Лжедмитрия: «Каков, брат, я? - Захотел, и Царь!» (П, с.2) - вполне достойна Хлестакова. Уловив близость погодинского Лжедмитрия к своим героям, Н.В. Гоголь писал автору: «Самозванец мне очень нравится. Он не движется на
Лжедмитрий І в поэзии и драматургии рубежа XIX - XX вв. (А.Д. Львова, Н.Л. Пушкарев, А.С. Суворин)
Драматическая хроника «Смута» Арсения Аркадьевича Голенищева-Кутузова (1848-1913) вышла отдельным изданием в1879г.1,ав1914г. вошла в 3-й том Сочинений автора.2 Хроника посвящена М.П. Мусоргскому и написана под впечатлением от его народной оперы «Борис Годунов».3
В хронике не вполне четко просматривается главное действующее лицо, «все причастны к событиям, и никто не управляет ими», - пишет М.Н. Виролайнен.4 Однако мы согласны с мнением А. Лютера, считавшего центральным героем пьесы Василия Шуйского. 5 Начинаясь триумфом заполучившего престол Самозванца, хроника охватывает практически весь период Смутного времени и заканчивается патетическим монологом опального царя Василия, слишком гордого, чтобы принять предложенное польским королем политическое убежище.
Лжедмитрий I фигурирует лишь в первых двух действиях. Герой Голенищева-Кутузова не имеет ни имени (автор именует его Самозванцем), ни прошлого (известно лишь, что он сознательный похититель престола), ни будущего (в начале третьего действия из слов Шуйского мы узнаем о его гибели).
В хронике «Смута» мы видим «неопытного властителя», наглого выскочку, человека черствого, грубого, не уважающего ни людей вокруг себя, ни вековые порядки и традиции. Рисуя отрицательный образ Лжедмитрия, автор во многом следует за Н. А. Чаевым. Особенно ярко характер лжецаря раскрывается в его отношении к женщинам - царице Марфе, Ксении Годуновой и Марине Мнишек. В целом Лжедмитрий взирает на женщин с презрением: «Они любить, да плакать лишь умеют, / Да трусить, да браниться» (с.85). Способность любить воспринимается им как недостаток сродни трусости!
Едва появившись на сцене, он критикует русский обычай скрывать женщин от посторонних глаз в теремах, утверждая, что «обычай польский лучше» (с.9). Перебивая собеседников-бояр, царь кипятится: «Надоели / Мне ваши предрассудки, и на них /Я долго любоваться не намерен» (с. 10). И тут же, в присутствии бояр Лжедмитрий хвалится своим «трофеем» - красавицей Ксенией Годуновой. Как и Чаев, Голенищев-Кутузов вскользь упоминает о том, что бессердечный царь «не устыдился ... сиротку Ксению предать позору ... и бросить» (с.70). (Символично, что в тот момент, когда царевну Ксению ведут «на закланье», князя Шуйского хватают и отправляют «на пытку и позор» -с.23.)
И у Чаева, и у Голенищева-Кутузова в пьесах отсутствует любовная тема. Роль Марины в обоих случая эпизодична, Самозванец груб по отношению к супруге, его поведение ближе к домостроевским традициям, нежели к европейской рыцарской учтивости. У Голенищева-Кутузова Марина представлена легкомысленной девочкой, думающей только о развлечениях и неосмотрительно пытающейся обсуждать свои наряды и украшения с царицей Марфой. У свекрови же «негодная» невестка вызывает лишь плохо скрываемое «омерзенье» (хотя и участь Ксении не пробуждает сожаления в царице-матери, ненавидящей Годуновых). Резкость Л же Дмитрия вызывает слезы обиды даже у легкомысленной и жизнерадостной Марины. «Супруга - не раба!» - негодует она в ответ на грозное требование замолчать и идти прочь (с.79). Когда она все же удаляется, царственный супруг замечает ей вслед: «Несносный нрав!» - и добавляет: «Ушла и нечего об ней и думать!» (с.81).
У Голенищева-Кутузова получила развитие лишь намеченная Чаевым тема «мать и сын». Отношения Самозванца с царицей Марфой в хронике «Смута» весьма показательны. В них нет даже искры добрых чувств, любви, уважения, в то же время налицо взаимное неприязнь и презрение. Прилюдно «мать» и «сын» изображают любящих родственников: «желанный мой» говорит она, «родная» вторит он и провозглашает, что «Почтение к родителям у русских - / Святая добродетель» (с.7 5). Однако наедине друг с другом они перестают церемониться: «Старуха, замолчи!» - приказывает Лжедмитрий, «проклятый» - ворчит про себя царица. Интересно, мы впервые наблюдаем их вместе не во время их первой исторической встречи в Тайнинском, а значительно позднее, когда по указу бояр Марфа приходит к названому сыну просить о помиловании Шуйского (д.1, карт. 2). Несмотря на заносчивость и грубость молодого царя, жаждущего наказать «наглое злодейство» лукавого предателя, слабая женщина выходит победительницей из их противостояния, лишь намекнув на возможность разоблачения Самозванца. Еще одна встреча царицы-инокини и Лжедмитрия происходит буквально накануне гибели последнего. Лжедмитрий приходит к ней с требованием «вновь перед народом» повторить нужное ему «свидетельство о правде», после того как останки угличского «убиенного младенца» будут спрятаны «подальше, /Дабы никто не мог его найти» (с.83). Марфа же, скорбящая о безвременно ушедшем сыне, уставшая от своего «злодейства» (лжесвидетельства) и к тому же подстрекаемая Шуйским, готова с Лобного места покаяться перед народом и рассказать правду. Узнав от Шуйского, что готовится бунт и «злодей умрет», Марфа испытывает мимолетную радость от скорого отмщения, но вдруг понимает, что смерть самозванца не вернет ей сына, не принесет утешения. эпизодически, оставляя ощущение некоей вырванности из событийного и исторического контекста. На вопросы «как он оказался у власти?», «зачем ему эта власть?» мы не находим в хронике ответа.
В хронике нет и традиционных драматических конфликтов между Самозванцем и Шуйским или Самозванцем и народом. Мы слышим, что «Сам государь речами и делами / Искуснее крамольника любого / В народе семя посевает злое; /Народ смущен и негодует» (с. 19). Мы мельком наблюдаем, что боярство ропщет: пытается открыто высказывать свое неодобрение Татищев, не столь публично, хитрее действует Шуйский. При этом открытого столкновения интересов, явного противостояния Самозванца и боярской оппозиции мы не видим.