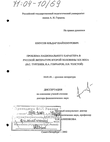Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Организация гротескного пространства текста: история и теория вопроса 13
1.1. Осмысление категории гротеска в научной литературе: особая форма художественного мировоззрения, поэтический прием, способ типизации 14
1.2. Классификация моделей гротеска 35
1.3. Функции гротеска в художественном пространстве текста 39
1.4. Гротескные коды в структуре художественного произведения 42
1.4.1. Усложнение амбивалентности в процессе трансформации гротескного мышления 43
1.4.2. Пародирование как константный код гротескной поэтики 45
1.4.3. Гротескная гиперболизация или особая форма преувеличения 48
1.4.4. Фантастическое как художественный прием, организующий гротеск.50
1.5. Выводы 55
ГЛАВА 2. Функционирование кодов гротескной поэтики в драматургии 1850-60-х гг. становление отечественной гротескной драмы 57
2.1. Освоение понятия «гротеск» в русской критике XIX в 57
2.2. Гротескная форма художественного мировидения в драматургических опытах второй половины XIX века 62
2.2.1. Театрально-драматургическая ситуация эпохи 62
2.2.2. Элементы гротеска в пьесах А.А. Потехина 66
2.2.3. Трансформация эстетической модели гротеска в сатирической драматургии А.Ф. Писемского 72
2.3. Специфика гротеска в драматургии М.Е. Салтыкова-Щедрина 77
2.3.1. Гротескные образы в драматических сценах и монологах конца 1850-начала 1860-х гг. 80
2.3.2. «Смерть Пазухина» и «Тени»: гротескное начало сатирических пьес 84
2.3.3. Трансформация карнавального действия в драматургии М.Е. Салтыкова-Щедрина 94
2.4. Выводы 97
ГЛАВА 3. Поэтика гротеска в драматургической трилогии а.в. сухово-кобылина «картины прошедшего» 98
3.1. Эволюция творческой концепции А.В. Сухово-Кобылина 102
3.2. История создания трилогии «Картины прошедшего» 108
3.3. Гротескная художественная система триптиха «Картины прошедшего»... 115
3.3.1. «Проклятый водевиль, к которому странным образом примешалась отвратительная трагедия»: усложненная амбивалентность 115
3.3.2. Гипербола как художественный прием в организации гротескного пространства трилогии 129
3.3.3. Фантастические образы трилогии и их функции 136
3.3.4. Пародирование и травестирование как средства формирования «перевернутого» мира в драматургическом цикле 141
3.3.5. Гротескное осмысление танатологических мотивов в трилогии 148
3.3.6. Ономастическое пространство драматургии А.В. Сухово-Кобылина .153
3.4. Гротескные герои трилогии «Картины прошедшего» и их двойники 156
3.5. «Картины прошедшего» – феномен трагического гротеска в русской драматургии XIX века 167
3.6. Традиции гротескного мировидения в драматургических опытах 1920-1930-х гг. Обзор 171
3.7. Выводы 184
Заключение 187
Библиографический список
- Гротескные коды в структуре художественного произведения
- Театрально-драматургическая ситуация эпохи
- Гротескная художественная система триптиха «Картины прошедшего»...
- Ономастическое пространство драматургии А.В. Сухово-Кобылина
Гротескные коды в структуре художественного произведения
В основе данной эстетической концепции бытия (формы художественного мировоззрения) лежит гармоническое соединение разнородных начал: «космическое, социальное и телесное даны здесь в неразрывном единстве, как неразделимое живое целое. И это целое – веселое и благостное» [Бахтин, 2010, с. 29]. Ученый подчеркивает необходимость обращения к гротескному реализму при изучении любых форм гротескной образности ввиду его присутствия в литературе всех последующих эпох. «Все поле реалистической литературы последних трех веков ее развития буквально усеяно обломками гротескного реализма … Все это в большинстве случаев – гротескные образы, либо вовсе утратившие, либо ослабившие свой положительный полюс, свою связь с универсальным целым становящегося мира. Понять действительное значение этих обломков … можно только на фоне гротескного реализма» [Бахтин, 2010, с. 34].
К вопросу об «осколочности», неразвитости гротеска мы более подробно обратимся во второй главе данного исследования при изучении драматургических опытов 1850-60-х годов. Происходящие одновременно смерть старого и рождение нового приводят к формированию в поэтике гротеска амбивалентности, противоречивой гармонии. Поэтому для гротеска характерны следующие содержательные категории: утверждение-отрицание, смерть-рождение, верх-низ, старое-новое. Отличительным признаком образной системы народной смеховой культуры, ее своеобразным маркером является присутствие материально-телесного начала, данного в «своем всенародном, праздничном и утопическом аспекте» [Бахтин, 2010, с. 29], а также функционирование системы гротескных снижений, опрокидывающей высокое и возвеличивающей низкое.
М.М. Бахтин разрабатывает концепцию гротескного тела, не вычленяемого в контексте всеобщего, носителем которого выступает «народ в своем развитии вечно растущий и обновляющийся» [Там же]. Образы материально-телесной стихии в гротеске, по мысли ученого, не отграничены от остального мира, а представляют органическое единство с природой. Поэтому ученый делает вывод о том, что в основе любого гротескного образа «лежит особое представление о телесном целом и границах этого целого. Границы между телом и миром и между отдельными телами в гротеске проводятся совершенно иначе, чем в классических и натуралистических образах» [Бахтин, 2010, с. 38]. По мнению Бахтина, гротеск возникает там, где человеческое тело вступает в контакт с миром, причем особая роль в этом контакте отводится материально-телесному низу, с помощью которого образ возрождается в новом качестве. Исследование Бахтиным гротеска Средневековья и эпохи Возрождения в связи с мировоззрением человека этого времени, в контексте народной смеховой культуры стало самым обоснованным и теоретически «прочным» с начала изучения понятия, а большинство идей ученого получили дальнейшее развитие в теории гротеска.
Так, переосмысление идей М.М. Бахтина содержится в работах А.Я. Гуревича. По мнению ученого, «гротеск – стиль мышления, пронизывающий все слои общества и соответственно присущ всей средневековой культуре» [Гуревич, 1984, с. 230]. Актуализация гротескного мировоззрения в Средние века обусловлена своеобразным сплавом традиционных народных верований с основами веры христианской, с чем связан его амбивалентный характер. Гротескное мировоззрение не позволяет разрешить противоречия между земным и небесным, добром и злом, но дает возможность их объединения и сосуществования. По Гуревичу, особенность гротескной формы художественного мышления состоит в органическом восприятии «сакрально-возвышенного в единстве с «низовым» и грубо материальным» [Гуревич, 1984, с. 247]. Гротеск смешивает противоположности и противопоставляет их одновременно, при этом разрушая границы между ними. Средневековое гротескное мышление, по мнению автора, является одной из форм приближения к сакральному, но не его разрушения.
Подробный анализ средневековой культуры и гротеска как части ее мировоззренческой и эстетической основы, с учетом открытий М.М. Бахтина и А.Я. Гуревича, содержится в книге В.С. Библера «На гранях логики культуры» (1997). Семантику гротескного образа в его концепции составляет «метаморфоза исходного (святого, высокого) образа; чувство глубокой и всеохватывающей свободы; возникновение новых, в этой индивидуальной свободе вспыхивающих образов, образных систем, миров» [Библер, 1997, с. 124]. «Новые» образы и «всеохватывающая свобода» в значительной мере обусловлены, по мнению ученого, условиями актуализации гротескного сознания: «Гротеск возникает в момент расставания с собственной культурой, когда она становится для тебя формой духовного рабства; это – переход от слитности к остранению и отстранению этой культуры, к возможности диалога с ней» [Библер, 1997, с. 130]. Отметим, что осмысление периодов актуализации гротескного сознания и его причин становятся ключевыми в современных теориях. Например, в работах исследователя гротеска Е.Р. Меньшиковой теоретически обосновывается категория «гротескное сознание», которое, по ее мнению, является «онтологической сутью в мышлении и мировосприятии ХХ века» [Меньшикова, 2004, с. 14]. Причиной, вызвавшей активизацию этой формы художественного мировоззрения, стал слом социально-культурных ориентиров, произошедший в начале века. Чрезмерное присутствие хаоса, нарастающий трагизм окружающей действительности привели к формированию сознания «карнавализованного в диалоге с исторической драмой. Это сознание оказалось востребованным для преодоления тяжести индивидуального существования на период становления новой государственности» [Меньшикова, 2004, с. 18].
Театрально-драматургическая ситуация эпохи
Постепенное становление модели трагического гротеска отразилось и в поэтике драматургических произведений А.Ф. Писемского. Больше известный как прозаик (повести «Комик», «Богатый жених», «Фанфарон», «Виновата ли она?», романы «Боярщина», «Тысяча душ» и др.), во многом предвосхитивший эстетику натурализма, он внес немалый вклад в развитие отечественной драматургии пьесами «Ипохондрик», «Ваал», «Хищники», «Просвещённое время», «Финансовый гений». Постановка «Горькой судьбины» имела оглушительный успех, пьеса обозначила возможности русской реалистической трагедии. Проявление же гротескного начала характерно именно для комедий Писемского, в которых «он щедро пользовался гоголевской традицией фарса и совмещения несовместимого» [Мирский]. С этой позиции исследовательский интерес представляет пьеса «Хищники», подвергшаяся резкой критике цензурного комитета и допущенная к публикации с измененным названием «Подкопы». В комедии проявляются такие черты гротеска, как фантасмагорически, нарочито неправдоподобные образы, заключающие в себе элементы реалистической фантастики в традициях Гоголя, поэтики балагана, комедии масок, народного площадного действия. Так, центральный персонаж пьесы – товарищ начальника ведомства Андашевский – обладатель «агрессивной внешности», черты которой нарочно заострены автором, и столь же экспрессивного нрава. Описание в ремарке его первого появления на сцене схоже с типичным представлением о наружности гиперболизировано-гротескного персонажа-маски итальянской комедии дель-арте Ковьелло. Сравним: «Входит Андашевский, господин с рыжею, типично чиновничьей физиономией; глаза его горят гневом, но рот улыбается» [Писемский, 1959, с. 63 – далее цитация по данному изданию с указанием страниц в скобках] и описание Ковьелло – «маска красного цвета, с длинным, похожим на клюв носом» [Дживелегов, 1954, с. 134] (курсив мой – И.Б.). Примечательно, что в облике Андашевского запечатлено и характерное для гротеска соединение несовместимых противоречий – «глаза горят гневом, но рот улыбается» – выдающее ненависть, корыстолюбие, скрываемое за привычной чиновничьей любезностью. Сходство чиновника и дзанни не ограничивается внешним подобием. Ковьелло в представлениях народного театра чаще всего «действует хитростью, напором, ловкой выдумкой, умом…» [Дживелегов, 1954, с. 134]. Так же можно охарактеризовать и Андашевского: всеми возможными способами он добивается места товарища начальника (угождает начальнику Зырову, выполняет малейшие его прихоти, порочит перед ним своих конкурентов, хитрит, настойчиво отпирается от доказательств должностных преступлений и пр.). Достигнув своей цели, честолюбивый чиновник решает не останавливаться и теперь метит в начальники ведомства. Для этого он опять прибегает к помощи хитроумных приемов Ковьелло – женится на дочери своего начальника, делает жену пособницей в своих делах, убеждая ее в своем таланте и призвании к государственной службе, с ее же помощью распространяет слухи о неспособности графа Зырова к управлению ведомством, даже приписывает ему «небольшое размягчение мозга» [118]. Слухи доходят до более важного лица – князя Михайло Семеныча, и тот решает снять графа с должности. Казалось бы, цель Андашевского достигнута, но, несмотря на ходатайство в свою пользу, он этого места не получает.
Сближение внешнего облика, поведения и образа мыслей персонажа комедии Писемского и героя средневековой народной комедии указывает на тяготение художественной системы драматурга к гротескному началу. При этом Андашевского, так же, как и персонажей пьес Потехина, нельзя назвать гротескным героем: в нем нет необходимых для «полновесного» гротеска многомерности, сложности, противоречивости, хотя по сравнению, например, с Пустозеровым, в нем явно выражены комические, даже грубокомические, элементы; налицо контраст между «веселыми проделками» в духе дзанни и их результатом и корыстными целями героя. Гротескные черты просматриваются и в других персонажах «Хищников». Например, в образе камергера Мямлина: его внешний облик представляет собой дисгармоничное соединение мужского и женского начал: «плешивый господин, с женской почти физиономией и с необыкновенно толстым задом» [79]. В этой портретной характеристике очевидно необходимое для гротеска соединение двух противоположных начал, причем именно в этом образе «швы соединения гиперболично подчеркнуты, бросаются в глаза, и поэтому акцент в гротескном противоестественном единстве … падает не на целостность образа, а на его необходимое, вот-вот грозящее его распадение» [Рюмина, 2010, с. 102] (курсив мой – И.Б.). Символом грядущего распадения служит и редкое заболевание, которым страдает чиновник – пляска св. Витта: при сильном волнении лицо его начинает сильно передергиваться, черты сильно искажаются, вместо слов раздается бессмысленное мычание. Эта деталь восходит к поэтике гоголевских произведений, в которых, как было сказано в предыдущей главе, непроизвольные движения и гримасы персонажей – элемент «нефантастической фантастики» – одна из «форм проявления странно-необычного в плане изображаемого» [Манн, 1988, с. 110].
Типично гротескный мотив омертвения живого, придания персонажам черт куклы, манекена отчетливо прослеживается в другом персонаже комедии – генерал-майоре Варнухе. Этот чиновник, «с неглупым, но совершенно не образованным выражением в лице» [79], в сцене представления начальству ведет себя как канцелярская кукла. Это выражается и в его образе мыслей: он совершенно исключает возможность собственного мнения, инициативу, на все доводы начальника о необходимости надлежащего исполнения служебных поручений он отвечает только: «Слушаю, ваше превосходительство!», выражая готовность слепо выполнять любые приказы, в обсуждении серьезных тем не участвует, своих мыслей не имеет. Действия его тоже механистичны: он «все время стоял, не пошевелив ни одним мускулом», но стоило начальнику взглянуть на него, как «он мгновенно и очень низко поклонился ему и затем опять сейчас же вытянулся в струнку» [81].
Гротескная художественная система триптиха «Картины прошедшего»...
Отличительной чертой гротеска является превалирование в его структурной организации такого художественного приема как гипербола, важной особенностью которой является не только количественное, но качественное преувеличение, то есть деформация, искажение. Чрезмерная, нарочитая, граничащая с абсурдом и алогизмом, гиперболизация так трансформирует изображаемый предмет, что он нередко теряет связь с действительностью: «в гротеске преувеличение достигает таких размеров, что увеличенное превращается уже в чудовищное. Оно полностью выходит за грани реальности и переходит в область фантастики» [Пропп, 1976, с. 70]. Сухово-Кобылин в своем драматургическом цикле в полной мере следует тенденции к гиперболизации, доходящей до фантасмагории, выявляющейся в поэтике всех трех пьес. Доведение определенных качеств, свойств изображаемого предмета до логического предела – важная составляющая художественной и философской концепции драматурга. Так, одним из центральных понятий его философской системы «Учение Всемир» являлась идея «экстрем», максимумов, нашедшая свое отражение в художественном творчестве: «Столкновение людей, доведенных до края, характеров на краю бездны и есть цель моего драматического сочинения» [Цит. по Пенская, 2000, с. 132], «в каждом из Рядов Драматического Цикла я старался показать человека, доведенного до Предела, до Крайности. И, может быть, за этот Предел перешагнувшего» [Там же]. В «Свадьбе Кречинского» степень гротескного сгущения еще не столь высока, поэтому преувеличение еще не носит столь ярко обличительного, устрашающего характера, как в других пьесах цикла. Так, доведенный до крайности карточными долгами Кречинский в начальных сценах комедии изображен в шаржированно-гиперболической манере: «Кречинский, входит бойко, одет франтом, … что-то рассказывает с жестами и шаркает» [17], между тем «он уж человек в летах: ему ведь под сорок будет..» [13]. С развитием действия гиперболизация усиливается. Так, в 130 характеристике купца Щебнева и ростовщика Бека прием выполняет, с одной стороны, функцию типизации, становясь основой ярчайших типических образов новой элиты, с другой – вскрывает и уничтожает недостатки, глумясь над кичливостью, глупостью и невежеством персонажей. Появление Щебнева перед зрителями сопровождается ремаркой: «одет по моде, с огромной золотой цепью, в бархатном клетчатом жилете и в весьма клетчатых панталонах» [33] (выделено мной – И.Б.). Однако возможности гиперболизации как приема формирования гротескного мира, способа искажения реалий действительности в «Свадьбе Кречинского» еще только намечены, но не реализованы.
В драме «Дело» и комедии-шутке «Смерть Тарелкина» они (возможности) проявляют себя в создании мира и достигшего предела, и его перешагнувшего. Гротескное искажение визуализировано в образе, воплотившем, перефразируя А.И. Герцена, «Cloaca Maxima современных гадостей» [Цит. по: Салтыков-Щедрин, Т. 3, с. 609] – бюрократической махины. В сценах с участием чиновников все «чересчур», все преувеличено до такой степени, что становится невероятным. Заострение образа, переходящее в искажение, достигнуто уже в афише драмы «Дело», в которой персонажи представлены только в соответствии с их положением в государственной системе, они словно и не личности, а бездушные части сложного механизма. Бюрократический лагерь, представленный как «Силы», принципиально не индивидуализирован – это по большей части персонажи-маски, в которых в гиперболизированном виде выявлен какой-либо порок, различаются же они лишь положением на карьерной лестнице. Драматург не дает им подчас даже имен, ограничиваясь указанием места в чиновничьей иерархии – «Весьма важное лицо», «Важное лицо». Чиновники, исполняющие сходные функции, носящие фонетически сходные и семантически «пустые» фамилии: Герц, Шерц, Шмерц, Чибисов, Ибисов, Омега, Шатала, Качала (последние два лица в «Смерти Тарелкина») – обозначены как «колеса, шкивы и шестерни бюрократии» [67]. Заострение усиливается тем, что в пьесе чиновникам противостоит лагерь «ничтожеств или частных лиц». Обычные люди не предусмотрены бюрократической «логикой», враждебны бюрократии всем своим человеческим существом, способны лишь быть средством получения дохода. В этот разряд Сухово-Кобылин помещает семью Муромских, Нелькина и управляющего имениями Муромского Разуваева. В данном противопоставлении обнаруживается и «перевернутый» характер художественного мира трилогии: «Силы» оказываются мнимостями, а ничтожества способны на героизм. По мнению Е.С. Калмановского, «всё «Дело» есть протяженная, исполненная подробностей картина неуместности частной человеческой беды в громоздкой системе русской бюрократической государственности … если же человек не способен такой порядок вещей понять и принять, он … обречен на муки и гибель» [Калмановский, 1989, с. 170]. Примечательно, что крепостному Тишке отводится отдельный, V разряд – он «не лицо» в бюрократическом государстве. «Особое положение» камердинера, его полное бесправие, не находит развития в драме, при этом очевидно, что автор таким образом развивает тему глубочайшего цинизма бюрократии. Тишка, не причастный к «выгодному» делу, а потому не дающего прибыли, словно и не существует для чиновников.
Предельно заострены сцены в канцелярии «Важного лица»: чиновники, согласно ремарке, «козируют» (болтают (от франц. causer)) [88], Тарелкин, занимающий далеко не последнее место в служебной иерархии, сидит на столе и распевает арию из услышанной вчера оперы. Кульминация наступает в момент «хорового пения» слуг закона: «Тарелкин (поет и бьет такт). Не состааааа-вил. ... не состаааа....не состаааа-вил. Ибисов также подхватывает. Хор» [89]. Гиперболизировано и рвение служащих при появлении начальника: «По канцелярии водворяется тишина; все садятся и принимаются за дело» [89]. В комедии-шутке «Смерть Тарелкина» комическое преувеличение перерастает уже в гротескное искажение. Одна из самых гиперболизированных сцен трилогии, имеющая в своей основе черты народной смеховой культуры, балагана – складчина на «похоронах» Тарелкина: «Варравин …(поймавши Чибисова и Ибисова за руки, выводит их к авансцене с прочими чиновниками.) Господа, -послушайте меня, ведь мы одна семья – не так ли? (Встряхивая их за руки.) Мы одна семья: Чибисов и Ибисов (привскакивая от боли.) Так! Так! Мы одна 132 семья!» [310]. Продолжая эту «игру», Варравин собирает со всех подчиненных деньги, чтобы «достойно проводить товарища в последний путь». Игра-пародия, воплощающая принцип предельной гиперболизации, нацелена на выявление и бичевание пороков. Парадокс гротеска состоит в том, что обличает бюрократию персонаж (Варравин), который непосредственно руководит этими чиновниками и организует дела, а точнее, они помогают ему в «деле бюрократии». Далее в ходе действия все чиновники сливаются в один персонаж, такой же безликий, как и вся бюрократическая машина, олицетворением которой он является; в нем гиперболически выявлены порочность и ничтожность бюрократии. («Варравин. … Ведь вы готовы на доброе дело? Чиновники. Готовы, готовы» [316]).
Ономастическое пространство драматургии А.В. Сухово-Кобылина
Перерождение же героя, преодоление предела обозначено в реплике Атуевой, раскрывающей Нелькину факт «свидетельства» Расплюева в деле об отношениях Лидочки с Кречинским. Здесь и вскрывается вся гнусность и низость жалкого «бесфамильного»: «Расплюев показал, что была, говорит, любовная интрига; что шла она через него; что он возил и записочки, и даже закутанную женщину к Кречинскому привозил; но какую женщину – он не знает» [71]. Способность и готовность к мимикрии, сладость предательства, гротескно подчеркнутая в Расплюеве, актуализирована в размышлениях по поводу этого типа Салтыкова-Щедрина: «В судьбе Ноздревых и Расплюевых есть нечто фатально-двойственное, – с одной стороны, в их природу так глубоко залегла потребность быть в услужении, что они готовы, в пользу „господина“, изнурять себя, рисковать своим настоящим и совсем не думать о будущем. … Но, с другой стороны, никто и не предает так свободно, как они. Изнурение – это долг, предательство – отдохновение, досуг. Как только Расплюев чувствует себя свободным от услужения, он начинает судачить и предавать … В мире благоустройства и благочиния таких людей пропасть, и все они умирают в нищете, но и на одре смерти хвастаются, судачат и предают…» [Салтыков-Щедрин, Т. 18, с.125]. Для Расплюева, явленного в «Смерти Тарелкина», уже нет ничего святого, главной целью его стало сохранение порядка путем заключения под стражу всех, кто встал на пути государственной «махины». Он, словно по велению дьявольской силы, превращается в строжайшего следователя, который подозревает каждого и мечтает о том, чтобы всю Россию упрятать за решетку: «Я 161 а-а теперь такого мнения, что все наше отечество это целая стая волков, змей и зайцев, которые вдруг обратились в людей, и я всякого подозреваю; а потому следует постановить правилом – всякого подвергать аресту» [193]. Вместе с тем, в действии заключительной пьесы в качестве полицейского писаря принимает участие «сынок Ванечка», стенания Расплюева по поводу судьбы которого должны вызывать жалость читателя/зрителя «Свадьбы Кречинского». Притворность оборачивается страшной реальностью: в государственной машине функционирует и еще один «винтик», подозревающий, вслед за родителем, всех и каждого призывающий к ответу. Так, «качательное положение» Расплюева в «Свадьбе Кречинского» в заключительной драме триптиха приобрело постоянство: он перешел на сторону абсолютного зла, трансформировавшись из неудачливого шулера в фантасмагорическую фигуру всемогущего Следователя.
Образ Расплюева настолько удачно воплотил в себе черты дельца нового типа, что стал нарицательным, послужил обозначением целого явления – расплюевщины, суть которой, по мнению К.Л. Рудницкого, сводится к «беззастенчивости порока, естественности цинизма, благодушию зла» [Рудницкий, 1957, с. 131]. Создание типического образа входило и в область художественных задач драматурга, подчеркивавшего: «"Расплюев" вам по Нутру. Этот по возрасту второй Расплюев уже Чиновник, а не Разночинец, был для меня целая Задача; ибо Вопрос состоял именно в том, чтобы выставить его в этом новом и торжествующем [Положении] Моменте и именно так, чтобы он был хотя и торжествующая, но старая, русской Публике [знакомая] известная Свинья, и чтобы этот Метаморфоз был бы логичен, т. е. естествен ен » [Цит. по: Пенская, 2000, с. 214].
Метаморфоза Расплюева завуалирована автором, читателю/зрителю явлен лишь ее результат в виде уже сформировавшегося типа. В полной мере гротескное превращение визуализировано в герое «Дела» и «Смерти Тареликина» – Кандиде Тарелкине. Уже в определении Нелькина: «Это не человек..., – Это тряпка, канцелярская затасканная бумага. Сам он бумага, лоб у него картонный, мозг у него из папье-маше – какой это человек?! Это особого рода гадина, которая только в петербургском болоте и водится» [230] актуализирована гротескная неустойчивость, принадлежность разным реальностям – в данном случае служение в канцелярии привело, по мнению Нелькина, к полному нивелированию человеческого начала, превращению отдельных частей тела в атрибуты чиновничьей деятельности. Между тем, в «Деле» перед нами фактически предстает вполне живой человек, с низменными, но человеческими потребностями: прокатиться на извозчике, сходить в театр, поесть в ресторане и т.д. Более того, Тарелкин, в некотором роде тоже страдающий герой, как и Муромские: его «съедают» кредиторы, а отсутствие дохода, адекватного потребностям, вызывает бессильную злобу. По мере развития действия, герой намечает свой переход в другое состояние: «хоть бы в щель какую, в провинцию забиться; только бы мне вот Силу да Случай, да я таким бы взяточником стал, что с мертвого снял бы шкуру; право, бы снял – потому нужда! Так вот что удивительно: нет вот мне ни Силы, ни Случая» [93].
Мечты о Силе и Случае в «Деле», в «Смерти Тарелкина» реализуются, по словам В.А. Туниманова, в том, что герой «узурпирует имя Сила и получает Случай осуществить свои намерения» [Туниманов, 1987, с.221]. В первом явлении первого действия Тарелкин принимает обличие умершего товарища Силы Силыча Копылова: «Долой вся эта фальшь. Давайте мне натуру! Да здравствует натура! (вынимает фальшивые зубы и надевает пальто Копылова.) Вот так! (Отойдя в глубину сцены, приглаживает пару бакенбард; горбится, принимает вид человека под шестьдесят и выходит на авансцену.)» [108]. Примечательно, что драматург придавал трансформации Тарелкина в Копылова принципиальное значение: «превращение это должно быть исполнено быстро, внезапно и сопровождаться изменением выражения лица и его очертаний. Это дело Мимики и задача для художника» [189]. Это переломный момент в формировании гротескного образа, являющий собой его неустойчивость и противоречивость. Переодевание Тарелкина соотносимо с «обновлением одежд и своего социального образа» [Бахтин, 2010, с. 91