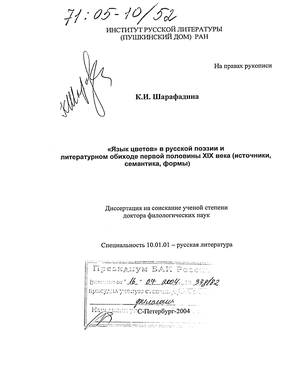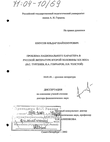Содержание к диссертации
Введение
Раздел первый. «Язык цветов» в литературно-бытовом сентиментализме конца XVIII - первой трети XIX вв .
Глава первая. Флористические коды и сюжеты французской прозы 1780-х - 1820-х гг. как фактор формирования "языка цветов" в русской дворянской бытовой культуре первой трети XIX в 12
Глава вторая. «Дамская ботаника» в образном языке дворянской литературно-бытовой культуры пушкинской поры 74
Раздел второй. Рецепция «языка цветов» в русской поэзии первой половины XIX в.
Глава первая. Образный ряд русской бытовой дворянской культуры в поэзии А. С. Пушкина и его современников - К. Н. Батюшкова, П. А. Вяземского, Е. А. Баратынского, Д. П. Ознобишина, А. С. Грибоедова (флористические мотивы) 201
Глава вторая. «Цветы, любовь, деревня, праздность...»: о семантике «Онегинского» букета 279
Раздел третий. Флоросемантика в русской литературе 1850-1860-х гг. и своеобразие флористического языка в поэзии А. А. Фета
Глава первая. Смена приоритетов в сфере растительной образности в литературе 1850-1860-х гг 332
Глава вторая. Спектр флоропоэтических мотивов в лирике А. А. Фета 350
Заключение 393
Список использованной литературы
- Флористические коды и сюжеты французской прозы 1780-х - 1820-х гг. как фактор формирования "языка цветов" в русской дворянской бытовой культуре первой трети XIX в
- «Дамская ботаника» в образном языке дворянской литературно-бытовой культуры пушкинской поры
- Образный ряд русской бытовой дворянской культуры в поэзии А. С. Пушкина и его современников - К. Н. Батюшкова, П. А. Вяземского, Е. А. Баратынского, Д. П. Ознобишина, А. С. Грибоедова (флористические мотивы)
- Смена приоритетов в сфере растительной образности в литературе 1850-1860-х гг
Введение к работе
Диссертация посвящена исследованию комплекса флоропоэтических мотивов в русском литературном быте и поэзии первой половины XIX века. Обращение к этой теме было продиктовано, с одной стороны, интересом к взаимодействию быта и литературы, их взаимовлиянию, соотношению собственно литературных феноменов и явлений этикетно-бытовых. С другой - вниманием к возникновению, особенностям бытования, авторским версиям флорошифров в литературе, истокам появления такого рода иносказательных языков и их динамике. Этот аспект определил хронологический охват исследования: от пушкинской эпохи, времени становления и наибольшей востребованности «языка цветов», когда он оформляется в значимый сегмент художественного языка, функционирующего в.рамках многомерной культурной модели, до радикального поворота парадигмы растительной образности в середине века. Импульсом для настоящего исследования стало симптоматичное преодоление современным литературоведением поверхностно-снисходительного отношения к эстетике тривиального и расширение за счет междисциплинарного подхода смыслового объема интерпретации литературных явлений в историко-культурном контексте.
Актуальность предпринятого исследования обусловлена характерным для современных исследований обострением научного интереса к следующему кругу проблем:
1) поднятому в свое время в работах Ю.Н.Тынянова и Б.М.Эйхенбаума, продолженному исследованиями В.Э.Вацуро, Л.И.Вольперт, Л.И.Петиной и др. вопросу о процессе взаимовлияния литературы и быта, когда литература непосредственно или опосредованно диктует бытовые ценности и ориентиры, а приоритетные для эпохи проявления быта отражаются в литературе и вызывают к жизни новые произведения;
2) воздействию массовой литературы, по преимуществу беллетристики, на формирование культурных представлений вне литературы, а с другой стороны, введения бытовых (в том числе этикетно-бытовых) реалий и представлений в литературные тексты разных жанров;
3) процессу культурной трансплантации в рамках взаимовлияния национальных литератур как процесса синхронного, так и опосредованно диахронно-го;
4) историко-литературному наполнению периферийных, но по-своему значимых и выразительных сегментов в обобщающей категории художественного языка, свойственного той или иной стадии литературного развития.
Источники исследования: круг источников исследования многообразен и разнопланов. Среди них следует выделить несколько типов. Для установления направления европейской рефлексии над образом восточной селамной (в том числе «цветочной») почты в работу были привлечены первые свидетельства французских и английских путешественников 18 в., подробно рассмотренные в научном плане впервые. Специфика рассматриваемого явления, со свойственным для него широким спектром контактов с художественной и внехудожест-венной сферами, потребовала выявления и привлечения французских и русских этикетно-бытовых пособий первой половины века, ботанических лексиконов и руководств к. 18 - 19 вв. Для установления структурно-типологических особенностей, системности «языка цветов» понадобилось расширение круга источников за счет обращения к архивным материалам, большинство из которых введены в научный оборот в обозначенном аспекте впервые. Это домашние альбомы, дневники, переписка, дилетантская проза первой половины XIX в. из архивов Санкт-Петербурга (РО ИР ЛИ РАН, РО РНБ). Для выявления общеэстетического формата флоропоэтики и семантических формул целенаправленно обследовались альбомные графические композиции, построенные на воспроизведении флороэлементов, литературная продукция этого плана и рекомендации «дамских» журналов.
Из собственно литературных (беллетристических) источников флоропо-этики в контекст исследования привлекались произведения французского сентиментализма и раннего романтизма (поэзия и проза). Для создания корректной картины ее усвоения использовались как оригинальные тексты в изданиях пушкинского времени, так и синхронные по времени переводческие версии. Выбор авторских версий использования флорообразности в поэзии (от Пушкина, Батюшкова, Баратынского, Вяземского, Ознобишина до Фета, Майкова, Плещеева, А.К.Толстого) определялся задачей исследовать «вторичную семан-тизацию» этикетно-бытового шифра в формах литературной рецепции, разнообразия интегрирования в образный язык, выявления жанрово-контекстного объема литературной флоросимволики.
Методы исследования: в работе применен комплексный подход к интерпретации явлений литературно-бытового и собственно литературного ряда, продиктованный спецификой исследуемого материала, аккумулирующего в себе разнопорядковые культурные, художественные и бытовые явления. В исследовании используется преимущественно историко-литературный, а также историко-культурный, функциональный и семиотический методы анализа.
Научная новизна предпринятого исследования определяется полной неизученностью историко-литературного функционирования культурного концепта "язык цветов" и порожденной им поэтики в отечественной литературе и литературном обиходе дворянства пушкинского периода.
Эпизодический интерес к этой теме возникал в рамках единичных сравнительно-культурологических исследований описательного характера, выясняющих этикетное содержание и бытовое проявление поэтики «языка цветов» на материале французской и английской традиции этикетно-бытовой литературы. Эти аспекты представлены в монографии американской исследовательницы Беверли Ситон "Язык цветов: история" (Университет Вирджинии, 1995). Собственно «язык цветов» как частное проявление "цветочного" символизма очень скупо рассматривался в монографии Филипа Кнайда "Французская цветочная поэтика XIX века" (Оксфорд, 1986). Викторианский вариант "языка цветов" на фоне более широкой проблемы развития цветочного символизма был подробно проанализирован в кандидатской диссертации М.А.Ващенко "Цветочная символика в историко-культурологическом контексте" (М., 2000).
На материале русской литературы проблема «языка цветов» как этикетно-бытового и эстетического феномена в его историко-литературном преломлении и бытовании в строго научном плане еще не рассматривалась, в то же время эта привлекательная тема породила массу откровенно популяризаторской ненаучной продукции. Обращения исследователей к этой теме исчисляются несколькими конспективными очерками-статьями (М.А.Ващенко, И.В.Грачева, Л.В.Чернец), но и их можно упрекнуть в вольной или невольной необъективности и недостоверности.
«Язык цветов» культурологи предлагают считать финальной стадией в развитии европейской традиции цветочного символизма. Принесенный в Западную Европу с Ближнего Востока (большинство источников указывают на Турцию) во второй половине XVIII в. в виде селама1, к началу XIX в. этот условный способ общения под влиянием европейских традиций символизации растений внутренне перестраивается и вскоре становится популярным литературно-культурным явлением, входящим в эстетизированный быт. Механизм смыслопорождения в поэтике «языка цветов» вызывал аналогию с неомифологизацией, так как заключался в закреплении мотивированных «личных» значений за теми или иными растениями и их кодификации.
Через французское (в меньшей мере немецкое) посредничество "язык цветов" входит и в живой обиход отечественной культуры дворянского периода, завоевывая в первую очередь сферы этикета и литературного быта.
Селамный пласт составил неотъемлемую часть исторического бытования русской дворянской культуры и художественной литературы пушкинского времени. Поскольку магистральная литература была дворянской, то перифе рийная по масштабам и сферам влияния поэтика «языка цветов» выступает как показательное явление на этой стадии развития русской литературы, а для литературного обихода этого периода селамные тексты весьма репрезентативны. Так, присутствие селамно ориентированной флоропоэтики обнаруживается в большой литературе прежде всего в жанровых формах лирики, ориентированных на художественные установки «легкой поэзии». Отмечены ею, хотя и в меньшей степени, объективированные большие художественные формы - поэма, роман в стихах, поэтическая драма.
В то же время приходится констатировать, что до сих пор «языку цветов» не определено место в системе культурно-литературной поэтологии первой трети XIX в. Его эстетическое и этикетно-бытовое наполнение не прояснено, не осмыслены механизмы его поэтики, не выяснен до конца вопрос об его масштабах. Неучет селамных аллюзий в образных рядах литературы этого времени ведет к невольному игнорированию некоторых параметров художественного языка эпохи, что сказывается на результатах истолковывания целого ряда текстов, как документально-бытовых, так и художественно-литературных.
Состояние "истории вопроса" продиктовало следующие цели и задачи нашего исследования:
- установление круга авторитетных инонациональных этикетно-бытовых и беллетристических источников, благодаря которым усваивалась и адаптировалась селамная поэтика;
- уяснение востребованности и основных стадий развития поэтики «языка цветов» в русской литературе как динамического процесса;
- определение культурно-литературного диапазона и уточнение форм проявления поэтики "языка цветов" в русской литературе и литературном обиходе первой половины XIX века;
- переоценка научной репутации отмеченного флорошифрами женского «письма» пушкинской эпохи, в частности литературно-бытовых документов А.П.Керн и А.А.Олениной;
- критический пересмотр переводов французских фрагментов в указанных документах и анализ системных ошибок перевода использованного в них условного «языка цветов»;
- определение жанрово-контекстной ориентации на поэтику «языка цветов» в отмеченных сферах и осмысление ее цикло- и контекстообразующих возможностей;
- выявление эволюции и основных форм флоросимволизма, ориентированного на поэтику "языка цветов", в русской литературной культуре первой половины XIX в.: а) своеобразие флористической семантики, ориентированной на разнообразные культурно-литературные сферы и пласты (от альбомных, эмблематических до литературных) в поэзии пушкинской поры; б) неологиза-ция флористического языка в поэзии Фета - на общем фоне смены приоритетов в сфере растительной образности в середине века.
Теоретическая и практическая значимость работы.
Новые интерпретационные подходы к анализу селамно ориентированной флоропоэтики дают многообразный материал для научного комментирования произведений Пушкина, Вяземского, Батюшкова, Грибоедова, Ознобишина, Фета. Выявленные этикетно-бытовые и собственно беллетристические источники отечественного варианта «языка цветов» составляют первый научный вклад в источниковедческий аспект исследуемой темы.
Источниковедческие и текстологические восполнения, исправления и уточнения переводов сентименталистских произведений и французских литературно-бытовых документов Керн и Олениной должны быть учтены исследователями, обращающимися к этим источникам, поэтому их необходимо учесть при переиздании и комментировании.
Обращение к конкретным анализам художественных произведений поэтов пушкинской поры, а также Фета и его современников позволяют выстроить более полную и адекватную картину эпохального литературного движения в его конкретных проявлениях. Такого рода наблюдения, выводы и оценки мо гут быть использованы в вузовской практике спецкурсов и спецсеминаров по истории русской поэзии.
Интегративно-комплексная методика анализа, представленная в диссертации, может быть использована при оценке сходных и малоисследованных явлений литературного быта.
Опубликованные материалы диссертации сделали содержащиеся в них источники, наблюдения и выводы доступными для исследователей литературы и культуры пушкинской эпохи.
Апробация работы.
Основные стадии исследования и положения диссертации в течение 15 лет излагались в виде докладов на международных конференциях и симпозиумах в Белостоке (Польша), Москве, Санкт-Петербурге, Душанбе, Омске, Минске, Владимире, на всесоюзных и всероссийских конференциях, межвузовских семинарах, летних школах (Екатеринбург, Томск, Иркутск, Красноярск, Кемерово, Барнаул, Ишим, Пятигорск, Пушкинские Горы, Царское Село, Псков, Тверь, Тарханы, Тамбов, Пенза, Великий Новгород, Ярославль). По теме диссертации опубликовано 53 работы, в том числе монография (20 п. л.).
Диссертация в целом обсуждалась на заседании отдела Новой русской литературы ИР ЛИ (Пушкинский Дом) РАН.
Структура диссертации. Поставленные задачи определили структуру исследования, состоящего из трех разделов. В первый раздел «Язык цветов» в литературно-бытовом сентиментализме конца XVIII — первой трети XIX вв." вошли две главы. На первом этапе освоения отечественной культурой селамнои поэтики определяющим как в сфере быта, так и литературы был «французский фактор» (ср. «Любви нас не природа учит, а Сталь или Шатобриан»). Поэтому в первой главе рассматриваются флористические коды и сюжеты французской прозы 1780-1820-х гг. как смыслопорождающий фон и опосредованный источник поэтики "языка цветов" для русской дворянской бытовой культуре первой трети XIX в. Во второй главе первого раздела "язык цветов", согласно заяв ленной в первой главе установке о его движении от литературы к быту, рассматривается как элемент художественного языка литературно-бытовой продукции пушкинской поры: рукописных альбомов и интроспективного женского «письма» (дневник А.П.Керн, дневник и литературные опыты А.А.Олениной).
Второй раздел «Литературная рецепция «языка цветов» в русской поэзии первой половины XIX века» состоит из двух глав. По мере движения времени и усвоения опыта взаимообмена естественно менялись тематические предпочтения, временные ориентиры и максимально активные источники флористического языка в собственно художественных и культурно-бытовых произведениях 1800-1830 гг. В первой главе рассматриваются селамные акценты некоторых флористических мотивов лирики А.С.Пушкина и его современников: К.Н.Батюшкова, П.А.Вяземского, в поэме Е.А.Баратынского «Бал», «гаремной» поэме Д.П.Ознобишина, в «Горе от ума» А.С.Грибоедова. Вторая глава посвящена семантике «Онегинского букета», - своего рода энциклопедического свода флоросимволики пушкинской эпохи, опирающегося на массу разнообразных культурно-литературных, в том числе и этикетно-бытовых источников.
Третий раздел называется «Флоросемантика в русской литературе 1850-1 860-х гг. и своеобразие флористического языка в поэзии А.А.Фета», он состоит из двух глав. В этой части исследования, согласно заявленной установке на выявление динамики исследуемого явления, рассматриваются принципиальные изменения семантики растительной образности, характерные для антипоэтической эпохи. 1850-е гг. обнаруживают отход от флоросемантических процессов, свойственных предшествующему времени и проявляют расширение флористических реалий и их более тесную связь с природой и конкретными пейзажами за счет понижения иносказательности и эмблематичности. В первой главе «Смена приоритетов в сфере растительной образности в русской литературе 1850-1860-х гг.» эти процессы рассматриваются на материале лирики современников Фета - А.Н.Майкова, А.А.Плещеева, А.К.Толстого. В эту главу привлечены прозаические произведения И.С.Тургенева 1850-х гг. («Свидание»,
«Дворянское гнездо»), так как они проявляют парадоксальную закономерность сохранения растительной, в том числе флористической, иносказательности (хотя и в виде факультативного момента) в повествовательных произведениях как большого, так и малого жанров (последнее демонстрируется на примере баллады А.Н.Майкова «Емшан»).
Вторая глава «Спектр флоропоэтических мотивов в лирике А.А.Фета» целиком посвящена поэзии этого автора. Центральным моментом в ней выступает анализ селамного мотива в его связи с эволюцией ориентальной темой в лирике Фета. Он рассмотрен на фоне амплитуды флористического репертуара и новых тенденций растительной образности, воспринятых поэтом. Заключает главу этюд «Энциклопедия розы» - он рассматривает динамику этого образа, проходящего через всю поэзию Фета - от 1840-х к 1890-м гг. Семантика розы у Фета демонстрирует пересечение восточных и западных акцентов в ее символизации.
В заключении сформулированы типологические ферты селамной поэтики в ее отечественном варианте, подведены общие итоги исследования, сформулированы его выводы, намечены перспективы дальнейших исследований флоро-мотивов в русской поэзии.
Общий объем диссертации - 425 страниц.
Флористические коды и сюжеты французской прозы 1780-х - 1820-х гг. как фактор формирования "языка цветов" в русской дворянской бытовой культуре первой трети XIX в
Проблема взаимодействия национальных литератур и функции переводных текстов в широком культурном контексте разных стадий развития отечественной словесности ставилась в исследованиях Д. С. Лихачева, Ю. М. Лотмана и др. По мнению ученых, русская культура XVIII в. в этом отношении во многом феноменальна. Число переводных произведений, приходящихся на это время, настолько велико, что в этом предлагают видеть специфический признак «рабочего» века (Г. А. Гуковский) русской литературы в целом. По подсчетам В. В. Сиповского (далеко неполным), количество переводных романов в этот период в десятки раз превышает число оригинальных. Так, в 1763 г. вышло два первых русских романа, переводных же — восемнадцать. Ситуация не поменялась и через сорок лет. В 1800 г. отдельными изданиями вышло три оригинальных и тринадцать переводных романов, а в журналах один оригинальный роман пришелся на тридцать один переводной .
Объяснение этой диспропорции только «незрелостью» отечественной литературы с некоторых пор расценивается как несостоятельное. Переводная беллетристика, за которой порой стояли целые культурные пласты, постепенно начинает занимать в картине литературной жизни России этого периода более серьезное и требующее глубокого научного осмысления положение, покидая место, отведенное ей на далекой литературной периферии.
Ю. М. Лотман, чтобы осмыслить принципы взаимодействия в XVIII в. переводной литературы с отечественной, счел целесообразным вернуться к понятию трансплантации, предложенному Д. С. Лихачевым для осмысления подобного процесса в древнерусской литературе. Предупредив о некорректности сведения этого процесса к представлению его в виде механического перенесения группы текстов, он убедительно продемонстрировал правомерность такого подхода на примере предпринятой В. К. Тредиаковским попытки трансплантирования через перевод французского романа П. Таллеманя «Езда в остров любви» культурно-бытовых форм организации литературной жизни типа французского салона 4.
Процесс знакомства и освоения русской культурой и литературой поэтики «языка цветов», начавшийся в конце XVIII в., во многом соответствует такой трансплантации. В роли «донора» выступила в этом случае французская дворянская этикетно-бытовая культура и литература сентиментализма. Они оказали непосредственное воздействие на усвоение художественным языком отечественной культуры созданного ими варианта флоропоэтики как «новой мифологии», основанной на принципиально иносказательном механизме смыслопо-рождения.
«Учебники», по которым русский этикет и литература осваивали этот условный язык, делились на два жанра: анонимные рукописные французские флористические списки и различные рецепции восточного селама. В флористических списках проходил постепенный процесс кодификации концептов «языка цветов». Они оказались наиболее и ранее всего востребованными отечественной альбомной практикой. В альбомном пространстве флорошифр продержался и дольше, чем в других литературно-культурных проявлениях и формах: списки, помещавшиеся в альбомах в качестве кода к используемому в его диалогах условному языку, существовали на протяжении всего XIX в.
Флористические списки предшествовали печатной продукции: на их основе составлялись появившиеся только в 1810-х гг. первые печатные французские пособия по «языку цветов» (самые известные из них— руководства Б. Делашене и Ш. Латур), регламентировавшие код для этикетного использования — в практике любовного и дружеского общения (переписки, галантных подарков и пр.).
Параллельно с этим путем развития флорошифра в этикетно-бытовом направлении французские авторы (Бернарден де Сен-Пьер, С.-Ф. Жанлис) предложили читателям в конце XVIII - начале XIX в. первые оригинальные опыты беллетризации сведений о восточном селаме, почерпнутых из записок французских и английских путешественников в Турцию.
В контексте этого интереса во французской литературе появились дилетантские произведения, вроде выявленного нами романа Реверони Сен-Сира «Сабина Герфельд», выполняющего роль своеобразной беллетризованной инструкции по освоению языка цветов.
Другим источником знакомства русской литературы с флоропоэтикой стало ее художественное преломление «легкой поэзией» (от Вольтера до Парни) и прозой французских сентименталистов (Б. де Сен-Пьера, С.-Ф. Жанлис, Ж. де Сталь, Ю. Крюденер), а также Ф. Р. Шатобриана, но и в его романтическую прозу этот мотив вошел окрашенным в сентиментальные тона. В прозе сентименталистов флоропоэтика была представлена наиболее концентрированно и с отчетливым этикетно-бытовым акцентом.
В этой главе мы останавливаем внимание на последнем пласте как практически не изученном (к этикетно-бытовым руководствам мы будем обращаться по мере необходимости, в частности, во второй главе, посвященной функционированию флоропоэтики в русском литературном обиходе).
Категория «естественного», свойственная сентиментализму, объединяла внешний мир природы с внутренним миром души, они рассматривались как «созвучные и сущностно сопричастные друг другу» 5. Отсюда особое внимание к внешнему облику природы и протекающим в ней процессам. Эта тенденция пересекалась со свойственным сентиментализму напряженным интересом к эмоциональной сфере и переживаниям отдельного человека.
Именно это сочетание культа природы и культа чувствительного сердца, определявшее феномен сентименталистского мировосприятия, оказалось наиболее благоприятным фоном для восприятия и развития поэтики, основанной на наделении растений изощренной эмблематикой чувств. Измерением интимного опыта «человека чувствующего» становятся образы природы.
«Дамская ботаника» в образном языке дворянской литературно-бытовой культуры пушкинской поры
Необходимость изучения словесности как системы взаимодействующих между собой исторических, культурных и бытовых факторов была обоснована еще в работах Ю. Н. Тынянова и Б. М. Эйхенбаума 69.
В литературоведении последнего десятилетия возобновился интерес к литературно-бытовым документам пушкинской эпохи: мемуарам, записным книжкам, дневникам, в частности женским. Жанр литературно-бытового альбома, к сожалению, не вошел в кругозор этого обновленного интереса. Собственно литературоведческих работ об «участии» альбома в литературном процессе первой трети XIX в., продолжающих исследования М. П. Алексеева, В. Э. Вацуро, Л. И. Петиной 70, пока не было.
В том, как происходил плодотворный взаимообмен между литературой и литературным бытом, в каких формах и в каком направлении альбом воздействовал на художественные особенности лирики первой трети XIX в., еще много неясного.
Это касается, в первую очередь, принципов и системности образного языка, определяемого литературно-культурным этикетом эпохи. Альбомами был живо востребован условный язык, основу которого составили культурно-этикетные шифры. Такой колоритный его элемент, как «алфавит Флоры», остается на сегодняшний день незаслуженно обойденным вниманием исследователей.
Французский фактор оказался определяющим и в овладении цветочными оракулами. Литератор Эме Мартен (Louis-Aime Martin, 1786-1847), друг и ученик Бернардена де Сен-Пьера, получивший известность в начале XIX в. благодаря «Письмам Софи» («Lettres a Sophie», Paris, 1810) — популярным и увлекательным изложением основ физики, химии и ботаники — так представлял своей адресатке спектр возможностей этого способа сообщения: «Dans leurs plus legers mouvements I L observauter voit un presage: / Celle-ci, par son doux langage, I Indique la fuite du temps / Qui la fletrit a son passage. / Si l une, des l aube eveillee, I Annonce les travaux du jour, I Et, sur la prairie ётаШйе, / S ouvre et se ferme tour a tour; / L autre s endort sous la feuillee, / Et du soir attend le retour, I Pour marquer l heure de l amour/ Et les plaisirs de la veillee. Livre charmant de la nature, I Que j aime ta simplicite! / Mais, des plus tendres sentiments, I Les fleurs offrent encor l image; / Elles sont les plaisirs du sage, I Elles enchantent les amants, I Qui se ser-vent de leur langage. / Leur langage est celui du cceur I Elles expriment la ferveur I Et les desirs de la jeunesse I Sans jamais blesser la pudeur, I L amant les offre a sa maitresse, / Et brule encore, dans son ivresse, I De lui prodiguer le bonheur I Dont un bouquet fait la promesse I «Самые незаметные движения цветов наблюдатель может истолковать как предсказание: их изысканный язык указывает на бег времени. Если один из них, пробужденный рассветом, возвещает дневные труды и открывается и закрывается в свой черед на лугу, усыпанном цветами, то другой спит под листвой и ждет возвращения вечера, чтобы указать час любви и радости ночного свидания. Но они способны по-особому выразить самые хрупкие чувства; они желанны знатоку, радуют влюбленных, которые пользуются их языком. Это искусство влюбленности и кокетства не оскорбит красавицу, и часто ее стесненная душа поверяет краскам букета нежные секреты своей мысли. Этот язык — язык самого сердца: они (цветы) выражают нежность, страсть и желания молодости. Любовник дарит их своей возлюбленной, чтобы не смутить (не оскорбить) ее стыдливости, и сгорает в упоении, предчувствуя счастье, которое может принести букет» перевод наш.— К. Ш. .
Собственную искушенность в цветочных оракулах Эме Мартен демонстрировал на практике: исследователи склонны усматривать его авторство в рукописных списках, ставших одним из источников для первого печатного пособия по языку цветов Б. Делашене (1811). Современники приписывали ему такое популярное руководство по языку цветов, как «Le langage des fleurs» (Paris: Audot, 1819) , а также бельгийские пиратские издания, в частности «Nouveau langage des fleurs ou parterre de Flore I Новый язык цветов или цветник Флоры» (Braxelles: Lacrosse, 1839).
Любопытное свидетельство обостренного интереса к поэтике «языка цветов» культуры пушкинской эпохи усматривается и в опыте русского перевода «Садов» Жака Делиля (1782), дидактической поэмы-инструкции (Д. С. Лихачев) по устройству пейзажных парков. В начале XIX в. «Сады» получили общеевропейский резонанс. В третьей песне, давая рекомендации для украшения парков цветами (на полянках и в цветниках, вкруг беседок и по краям дорог и озер, подле стен и в корзинах), Делиль попутно касается и символических возможностей: «Voulez-vous mieux Гогпег? Imitez la nature: / Elle emaille les pres des plus riches couleurs. / Hatez-vous: vos jardins vous demandent des fleurs. I Fleurs charmahtes! Par vous la nature est plus belle; / Dans ses brillants travaux l art vous prend pour modele, / Simples tributs du cceur, vos dons sont chaque jour I Offerts par l amitie, hasardes par l amour (Chant troisieme) / Хотите украсить газон? Подражайте природе: она украшает луга самыми богатыми красками. Поспешите: ваши сады нуждаются в цветах. Прелестные цветы! С вами природа еще краше, искусство в своих опытах берет вас за образец. Непосредственная дань сердца, вы являетесь нам каждодневно, как дары постоянной дружбы и порождения любви (буквально: случившиеся от любви)» (песнь третья, стихи 76-82).
А. Палицын предложил в 1814 г. русскому читателю точный, но неуклюжий перевод этих стихов: «Желаешь ли еще украсить лучше их? / Природе подражай в полянах и своих: / Она пестрит луга богатыми коврами. / Спеши: пора садам твоим блистать цветами. / Цветы прелестные! От вас природы вид / Милее став еще, сильнее взор разит, / Картинам образцом приемлет вас искусство, / Приносит в дар простой вседневно сердца чувство: / Вы жертва дружбы, дань любовной суеты; / Вам слава украшать дана и красоты» 74.
А. Ф. Воейков, автор самого известного русского перевода поэмы (1816), перелагая этот пассаж, вначале следует за оригиналом: «Но если хочешь ты искусною рукой / Еще убрать его луг.— К. Ш. — Природе подражая / И всеми красками лужайки испещряя, / Рассаживай, лелей цветы в своих садах; / Природа самая прелестнее в цветах. / Прекрасные цветы! Венец долин прекрасных! / В творениях своих блистательных, изящных, / Искусство вас всегда берет за образец» (песнь третия, стихи 85-89).
Образный ряд русской бытовой дворянской культуры в поэзии А. С. Пушкина и его современников - К. Н. Батюшкова, П. А. Вяземского, Е. А. Баратынского, Д. П. Ознобишина, А. С. Грибоедова (флористические мотивы)
На 1800-1820-е гг. приходится расцвет русской дворянской бытовой культуры и становление русской лирики на переходе от карамзинизма к пушкинскому периоду. Оба явления взаимосвязаны и оба, представляясь как нечто цельное и единое, при анализе выступают как конгломераты разнородных и разнопластных явлений: например, античности, пропущенной через идеалы и пафос Просвещения и неоклассицизма, французской «легкой поэзии», усвоенной сентименталистской и преромантической литературой. Эпоха вбирает в себя и прессует разнообразные культурные слои. Время от времени на первый пдан выдвигаются как востребованные то одни, то другие, то третьи тенденции, а сам источник культурных явлений входит в такие присвоенные формы опосредованно.
Поэты одного круга по-разному выявляют единую эпохальную этикетно-бытовую культуру. Так, для лицейской лирики А. С. Пушкина в создаваемых им образах этикетно-бытовой реальности определяющими становятся рокайль-но-игровые аллюзии. У К. Н. Батюшкова эмблематические контексты активно входят в практику окультуренного быта, особенно его ритуализоваиных форм (надгробных памятников, в частности). Е. А. Баратынский обращается к имманентной символике быта, заключенной в образах «обыкновенностей» дворянского обихода, в частности бала. П.А. Вяземский и А. С. Грибоедов воспроизводят элементы этикетно-бытовой поэтики «языка цветов», подчиняя их собственным художественным задачам.
Флористические мотивы, выделенные нами у этих авторов как доминанты в анализе образного ряда дворянской бытовой культуры, сополагаются с различными интерпретационными фонами — мифопоэтикой бала, сна, сада, эмблематикой надгробной скульптуры, этикетной символикой модных бытовых аксессуаров, наконец, с поэтикой «языка цветов» в форме этикетно-бытового селама. Выбор имен в этом параграфе и избранных для анализа произведений продиктован желанием показать развитие флоропоэтики в русской культурной традиции — в рамках собственно литературных, но в контексте мотивов, сохраняющих непосредственные или опосредованные связи с этикетно-бытовой реальностью.
В культурный контекст эпохи до недавнего времени менее всего была вписана поэзия К. Н. Батюшкова. Литературоведение в основном соотносило его творчество с литературным фоном — поэзией пушкинского круга и «Арзамаса». Лишь в недавнем исследовании А. Ю. Сергеева-Клятис, продолжая и развивая высказанное в свое время Б. В. Томашевским мнение о приверженно-сти поэта стилю ампир , сделала небезынтересную попытку выявления этих тенденций в творчестве Батюшкова на широком фоне русского ампира как культурно-общественного явления
Как известно, ампир, утвердившись в русском искусстве (архитектуре, живописи, скульптуре), быстро проникает в быт, подчиняя установку на подражание античности (гармония красоты и пользы) устройство интерьеров и экстерьеров, мебель, костюм, даже гастрономию . «Одухотворенный» быт, создающийся по законам изящного, воздействовал на строй чувств и мыслей человека. Ампирный пафос возрождает интерес и увлечение антикизированной эмблематикой, которые мы наблюдали в аллегорике альбомной графики и поэзии.
Эмблематизм становится яркой чертой и ранней поэзии Батюшкова, вообще тяготеющего к языку иносказательно-символических образов. Семантика флористической образности, входящей в его поэзию в составе образов, ориентированных на античный быт, еще не привлекала внимания исследователей.
Диапазон флороэмблематики, используемой Батюшковым, акцентация и сочетание ее с другими условными формулами его стиля до сих пор не выявлены и не оценены в полной мере. М. Н. Эпштейн, анализируя вклад поэта в развитие пейзажных образов русской поэзии, ставит ему в заслугу приоритет в разработке морской темы, в создании образа экзотического южного пейзажа, растительные компоненты которого наделены «чувственной роскошью», наконец, эстетическое освоение таких реалий природы, как акация и черемуха 224. Г. П. Козубовская, размышляя о мифологизме русской поэзии первой трети XIX в., уделила некоторое внимание иносказательности отдельных флористи-ческих и древесных образов (роз, нарцисса, розмарина, тополя) у поэта . Но интерпретация, предлагаемая ею, тривиальна. Так, цветочную аранжировку образа возлюбленной из «Моих пенатов» («две розы молодые» и нарциссы, вплетенные в локоны Лилы) она широко толкует как «выражение идеи неразрывности человека и природы» , а унесенный водами моря розмарин («Источник») — как образ хрупкости человеческой судьбы.
При показательной широте диапазона используемых поэтом флористических образов (более двух десятков конкретных растений, среди которых незабудка и василек, розмарин и лотос, сирень и акация, нарцисс и фиалка, ландыш и полынь), который сам по себе требует осмысления, не все из них сводимы к простым иносказаниям, преобладание которых в художественном языке Батюшкова было отмечено и осмыслено в работах Л. Я. Гинзбург и И. М. Семен-ко. Такая поэтическая фразеология действительно не требует соотнесения с рядами предметных значений. «Роза у него Батюшкова.— К. Ш. — не столько цветок, сколько символ красоты, чаша — не столько пиршественный сосуд, сколько символ веселья; урна — не столько реальная урна, сколько символ ут-рат»,— отмечала И. М. Семенко . Но не вся флористически ориентированная поэтика Батюшкова такова.
Для того чтобы наглядно продемонстрировать другие иносказательные возможности флоропоэтики Батюшкова, мы выделили несколько стихотворений, общим этикетно-бытовым контекстом которых выступает эмблематическое поле надгробных кладбищенских ансамблей эпохи ампира.
Смена приоритетов в сфере растительной образности в литературе 1850-1860-х гг
Конец 1820 - 1830-е гг. были временем, когда восходящая к «легкой поэзии» традиция восприятия и репрезентации цветка (шире - растения) получила свое максимальное воплощение в дворянской бытовой культуре и литературе. Полигенетизм семантики цветка мотивировал и сферу его существования -знаковость цветка объединяла его восприятие и толкование в культуре того времени. Спектр флористических иносказаний - неотъемлемый фактор литературной флористики пушкинской эпохи. Эстетически востребованный в сферах дворянского быта (цветы и цветники - обязательная примета усадебных садов и парков от провинциальных имений до дворцовых резиденций), реальный цветок выдвигал на первое место иносказательный план, соединявший семантику красоты, свежести, обилия жизненных сил и т.д. Знать и толковать аллегорические и ассоциативно-символические возможности практической и прикладной флористики помогали многочисленные «Алфавиты Флоры» и широкий спектр литературных произведений, большую часть которого составлял сентиментали-стский роман в его «дамской» разновидности. Закрепившаяся за садовыми и отчасти дикорастущими растениями роль первоэлемента условного общения адресата и адресанта, пользующихся «цветочной почтой», обусловила репутацию флористики как системы иносказаний. С этим семиотическим багажом растительная образность вошла в язык поэзии пушкинской поры.
К середине XIX века иссякают традиции романтизма, несущего в себе культурную память о сентименталистских ценностях, а поэзия уступает место прозе: буржуазная прагматика вытесняет дворянский эстетизм. Иносказательно ориентированная флоропоэтика утрачивает актуальность и постепенно перемещается на литературную периферию, проявляясь фрагментарно и эпизодически. Несколько дольше задерживается аллегорическая флористика в литературном быту, в частности в домашних альбомах.
Однако этот процесс не приводит к окончательному вымыванию флоро-поэтики ни из бытовой культуры, ни из литературы. Пространство усадьбы, включающее садово-парковое окружение дома, интерьеры усадебного или городского дворянского особняка, продолжает оставаться реалией России и топо-сом литературы 1840-1860-х гг. В воспроизведении усадебной флоры в прозе этих десятилетий определяющим становится жизнеподобие. Но в развернутых полотнах прозаиков цветок сохраняет связь с идеальным пространством усадьбы, хотя его иносказательность приобретает факультативный, а порой и потаенный характер. Экстенсивность прозы и объективированность (сюжетная вы-деленность) эпизодов, в которых появляются значимые флористические реалии, - факторы, способствующие своеобразной консервации аллегорических смыслов последних. У Тургенева и Гончарова, к примеру, растительные приметы сада оказываются не только бытовыми или абстрактно поэтическими деталями - ностальгически наполненными образами положительных ценностей уходящей эпохи, но и носителями акцентированных конкретных значений.
Эта перемена не прошла мимо внимания литературоведов и отмечена в ряде работ последних лет. Разумеется, внимание исследователей привлекают прежде всего общеизвестные и самоочевидные обращения писателей-реалистов к такого рода реалиям. Так, лейтмотиву сирени в отношениях и диалогах Ольги Ильинской и Ильи Обломова с проекцией на семантику «языка цветов» посвящены наблюдения Мильтона Эре 409 и Е.А.Краснощековой 410. В поле зрения И.В.Грачевой попадают померанцевый (свадебный) букет, этикетным значением которого Райский намекает Вере на известную ему тайну ее близости с Волоховым («Обрыв»), и маркирующие тему несбывшихся надежд и горького разочарования пресловутые «желтые цветы» из «Обыкновенной истории». В тургеневской флористике исследовательница отмечает запах резеды, сопровождающий Елену Стахову и «красную и не слишком большую» розу, которую выбирает Базаров из букета Фенички 4И. В обоих случаях Грачева предлагает в качестве возможного ключа к интерпретации «язык цветов».
Менее очевидные флористические элементы пока вниманием исследователей не пользуются. Так, тургеневеды еще не обращались к осмыслению скрытой значимости соотносимых с образом Лаврецкого и Лизы Калитиной садовых деревьев и цветов («Дворянское гнездо», 1858) - сирени, орешника, желтофиоли, липы, ивы (ракиты). Три первых растения выступают в романе как детали повседневной жизни тургеневской героини: сирень и орешник растут в саду у Калитиных, желтофиоли - садовое растение, запомнившееся Лизе с самого детства. Но некоторые аспекты эмблематического фонда этих растений позволяют увидеть в «пересечении» их растительных образов иносказательный смысл. Мотив первой любви сопровождается казалось бы тривиальным образом цветущей сирени, в которой поет соловей («в саду Калитиных, в большом кусту сирени, жил соловей»). «Друг другу они (Лаврецкий и Лиза - К.Ш.) ничего не сказали, даже глаза их редко встречались ... а между тем у каждого из них сердце росло в груди, и ничего для них не пропадало: для них пел соловей, и звезды горели, и деревья тихо шептали, убаюканные и сном, и негой лета, и теплом (глава XXXIV). Но рядом с сиренью оказывается прочно связанный с образом монастырского сада орешник.
Сад-«вертоград» (а позже парк) — необходимый элемент монастырского комплекса, наделенный наставительным смыслом. Его планировка и выбор растений имеют повышенный аллегорический и символический потенциал. Яблони, водный источник у крестообразного пересечения дорожек, душистые цветы, птицы на ветвях деревьев, - эти «эдемские» напоминания здесь обязательны.
Религиозная символика определяла как общую пространственную структуру сада, так и устройство отдельных частей412.
Яркая примета садов при Киево-Печерской лавре - обилие плодовых деревьев и цветов. Любовь киевских монахов к цветам, плодовым и декоративным деревьям, кустарникам восхищала иноземных путешественников. Посетивший Киев в середине XVII в. антиохийский патриарх Макарий был поражен садами Печерского монастыря: «Нас водили в сад архимандрита. Входят в сад дверью в виде высокой арки с куполом. Внутри ее какое-то растение с зелеными ветками и многочисленными шипами, похожее на желтый жасмин или ветви жасмина Хамы. ... из того же растения сделаны изгороди. В этом саду есть абрикосовые деревья и много шелковичных. Есть множество ореховых деревьев»413. Присутствие ореховых деревьев определялось религиозно-мистической семантикой ореха, разработанной Блаженным Августином: внешняя зеленая оболочка - плоть Христа, скорлупа - древо Его креста, ядро - Его божественная природа. Расколотый орех относится к числу символических предметов, сопутствующих в религиозной живописи Деве Марии. В аллегорическом натюрморте XVII в. орех имеет отношение к мотиву быстротечности всего земного.