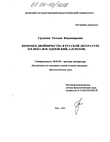Содержание к диссертации
Введение
Глава 1 Архетипическая парадигма в литературе 19
1.1 Фольклорно-мифологическая повествовательная модель «змей - царевна - герой» в русской литературе XIX века 19
1.1.1 «Змей» 36
1.1.2 «Царевна» 54
1.1.3 «Герой» 68
1.2 Фольклорно-мифологические мотивы и образы в драме А.С. Пушкина «Русалка» 80
1.3 Сказка и обряд в драме А.Н. Островского «Гроза» 93
1.4 «Уж не пародия ли?..» (баллада А.С. Пушкина «Жених») 108
Глава 2. Структура художественного символа 119
2.1 Символ и мифологема 119
2.2 Символика пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад» 138
2.3 Откуда и куда скачет тройка в поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души» 167
Глава 3. Миф, сказка и обряд в творчестве А.П. Чехова 191
3.1 Проблема изучения фольклоризма «нефольклорного» писателя 191
3.2 Традиции сказочного повествования в ранних рассказах А.П.Чехова 200
3.3 «Обращение» сказки и обряда в рассказах А.П. Чехова 212
3.4 Антисказка «Три сестры» 234
3.5 Инициация Егорушки: повесть «Степь» 252
Заключение 281
Список использованной литературы 292
- Фольклорно-мифологическая повествовательная модель «змей - царевна - герой» в русской литературе XIX века
- Фольклорно-мифологические мотивы и образы в драме А.С. Пушкина «Русалка»
- Символ и мифологема
- Проблема изучения фольклоризма «нефольклорного» писателя
Введение к работе
Настоящее диссертационное исследование, как следует из названия, посвящено проблеме взаимоотношений фольклора и литературы. Но если содержание понятия «литература» не требует комментария, то о понятии «фольклор» следует поговорить особо. В современной отечественной фольклористике сложились три основные точки зрения на состав и границы фольклора. По мнению В.Е. Гусева, их можно сформулировать следующим образом: фольоор - это а) словесное, устно-поэтическое народное творчество; б) комплекс словесно-музыкальных, драматических (игровых), музыкально-хореографических видов народного искусства; в) вся народная художественная культура, включая декоративно-прикладное искусство [Гусев, 1995: 9].
Первая точка зрения была разработана и высказана в советской науке Б.М. Соколовым и Ю.М. Соколовым, которые опирались на труды Ф.И. Буслаева, А.А. Потебни, А.Н. Веселовского и др [Соколов, 1926; Соколов, 1941]. Они предложили понимать под фольклором устное словесное искусство, с его специфической жанровой системой, набором сюжетов, героев, изобразительных средств, особой фольклорной поэтикой и единством стиля. На первый план при таком подходе выходит художественный характер народной словесности, которую М.К, Азадовский называл «народной литературой» [Азадовский, 1958:41]. Такую научную концепцию разрабатывал Н.И.Кравцов, осмыслявший именно художественную сторону произведений устного народного творчества, их поэтику и стилистику [Кравцов, 1972]. Эту позицию разделяли и продолжают разделять многие ученые [Аникин, 2005; Ведерникова, 2005 и др.].
В недрах этой точки зрения постепенно вызревала другая. Фольклор - это синкретическое явление, поэтому включает в себя танец, музыку, народный театр - духовную культуру народа [Гусев, 1993]. Такое расширение «области значений» фольклора, хоть и было очень существенным, так как синхронизировало научные поиски филологов, музыковедов, исследователей народного танца, все же оказалось недостаточным, поскольку не включило невербальные формы народной культуры - поверья, обычаи, мифологические представления.
Этот пробел хорошо осознавали еще Б.М. Соколов и Ю.М. Соколов. Но наиболее остро проблема была поставлена В.Я. Проппом и Б.Н. Путиловым. В.Я. Пропп привлек к изучению фольклора материал, традиционно находившийся в ведении этнографии [Пропп, 1998]. Б.Н. Путилов в работе «Фольклор и народная культура» [Путилов, 2003] отметил, что из предметного поля фольклора были выведены значительные пласты материалов, в связи с чем одна из сфер народной культуры оказалась обособленной от других. Кроме того, категория художественности ограничила изучение нехудожественных явлений фольклора: устных рассказов, поверий и т.д., - которые отошли в сферу интересов этнографии. Более продуктивным Б.Н. Путилов считал тот исследовательский подход, который разрабатывался в западно-европейской и американской фольклористике, изучавшей и устную словесность, и традиционные народные верования, то есть мифологию. Но мифологию только очень условно можно назвать видом словесности. Поэтому в сферу внимания фольклористики ученый предложил включать «любые виды и формы верований, обрядов, процедур, драматических или мимических действий, техники и искусств, если их
законно можно рассматривать в качестве отпрысков, манифестаций, представителей названных выше идей» [Путилов, 2003: 30].
Эта точка зрения стала предметом широкого обсуждения современных ученых в рамках круглого стола «Что такое фольклор?», проведенного жураналами «Традиционная культура» и «Живая старина» в период подготовки Первого Всероссийского конгресса фольклористов в 2005 году. Здесь был представлен весь спектр мнений по вопросу о границах понятия «фольклор». Четко обозначилась тенденция к широкому пониманию фольклора. Приведем лишь несколько толкований:
«Фольклор как явление одновременно обрядовое, эстетическое, мировоззренческое содержит не только систему жанров, но и мифологическую основу (от древнейших форм до позднейших религиозных представлений) в той мере, в какой она отразилась в фольклоре, прежде всего в обрядовых комплексах, сочетающих в себе различные бытовые, мировоззренческие, этические, эстетические и пр, представления и музыкально-поэтические тексты» [Бахтина, 2005: 4].
«Фольклор - это совокупность разных культурных текстов, заключающих в себе довольно большой (впрочем, не безграничный) диапазон «сообщений» и тяготеющий к изложению относительно устойчивого набора смыслов относительно устойчивыми (стереотипизированными) средствами» [Неклюдов, 2005: 6].
Фольклор - это «знаково-символическое воплощение традиционной народной культуры в различных видах и формах разных эпох» [Михайлова, 2005: 4].
Итак, современная фольклористика склоняется к тому, что фольклор - это «традиционная культура в целом» [Костюхин, 2005: 3], ее художественные и нехудожественные формы, вербальные и
паравербальные (акциональные, предметно-материальные и др.) способы выражения. Фольклор - это особая картина мира, складывающаяся в народном сознании в течение тысячелетий и не утратившая актуальности и ценностной значимости в наши дни.
Развернутая апелляция литературоведа к фольклористике могла бы показаться излишней, если бы не одно очень важное обстоятельство. От того, что мы понимаем под фольклором, напрямую зависит методология исследований проблемы взаимоотношений фольклора и литературы.
Долгое время в решении этой проблемы преобладал генетический подход. Поэтому филологическая наука интересовалась главным образом «родственными» связями фольклора и литературы, способами «присутствия» фольклорного материала в литературном тексте. Фольклоризм писателя объяснялся заимствованиями, в лучшем случае, переосмыслением сюжетно-фабульных или стилевых элементов фольклора [Выходцев, 1963, Далгат, 1981, Чистов, 1993, Чистов, 2005 и др.]. Историческому взаимодействию литературы и фольклора посвящена многотомная коллективная монография «Русская литература и фольклор», изданная Институтом русской литературы АН СССР в 70-е годы прошлого столетия. Отличительная черта такого «фольклоризма» в «определенной степени осознанности (эмоциональной, этнической, социальной, эстетической) нарочитости, стилизованности» [Чистов, 2005: 131].
Такой подход правомерен, когда под фольклором понимается только словесное искусство. Если фольклор возник раньше литературы, то литература вырастает из фольклора, находится с ним в отношениях преемственности. Все, что создано в фольклоре, питает литературу, перекочевывает в нее в виде специфических фольклорных
сюжетов, мотивов, образов, словесных формул. Если такие вкрапления в литературный текст есть - писатель фольклорен, если их мало или совсем не удалось обнаружить - нефольклорен.
В рамках этой научной концепции литературоведение выработало свои принципы анализа соотношения фольклора и литературы в творчестве писателя. Сначала обычно рассматривается «формирование интереса писателя к фольклору, основные факторы, влиявшие на этот процесс (биографические, литературные, идеологические, эстетические и т.д.)». Затем определяется «источниковедческая база - знакомство его с фольклором (или с определенными его жанрами, историческими слоями и т.д.) и современной фольклористикой». Только после этого характеризуются «способы обработки фольклорного материала, интерпретируются элементы разных фольклорных жанров» [Иванова, 2004: 10]. Принципы эти, заметим, очень разумны и четко структурируют исследовательский дискурс, устанавливая историческую последовательность фольклора и литературы. Они подразумевают, что «обращение того или иного автора к фольклорным средствам и образам, в том числе и к мифологическим, — всегда сознательно применяемый прием» [Далгат, 1982:47].
Между тем существует значительный пласт литературы, где «подобные методы просто не имеют смысла, ибо особенности своеобразия художественного стиля целого ряда писателей ... таковы, что они практически не использовали в своем творчестве ни устойчивой фольклорной атрибутики, ни тех специфических фольклористических приемов», которые свидетельствовали бы об их «фольклоризме» [Налепин, 2005:261-262]. Осознание этого факта требует новых подходов к проблеме «фольклор и литература».
В работах о фольклоризме литературы последних десятилетий фольклор и литература не разводятся как диаметрально противоположные виды искусства, о чем говорили В.В. Адрианова-Перетц [Адрианова-Перетц, 1974] или Д.С. Лихачев [Лихачев, 1979], а сближаются типологически и структурно [Емельянов, 1978; Смирнов, 1978; Медриш, 1980; Костюхин, 1994 и др.], и «в ряде случаев фольклорная традиция в определенном смысле более продуктивна в литературе, нежели в фольклоре» [Медриш, 1980: 14].
Современные исследователи, как нам кажется, преодолевают искушение «противопоставить процессы созидания и творения процессам воссоздания и воспроизведения» [Брицина, 2006: 42]. На смену «принципу сменяемости» в понимании духовной культуры приходит «принцип наслаивания» [Толстой, 1995:46]. Многие современные ученые убеждены, что фольклорные и литературные произведения строятся во многом на общих принципах композиции и структурирования текста [Артеменко, 2005; Толстая, 2005]. Все большее распространение получает мысль Д.Н, Медриша, что фольклор и литература являются двумя подсистемами, составными частями одной метасистемы - русской художественной словесности [Медриш, 1980: 11]. По словам Б.Ф. Егорова, «Д.Н. Медриш образовал свою метагалактику, объединив фольклор и литературу в метасистему - словесное творчество, - и рассматривает с точки зрения этой целостной системы функционирование и взаимовлияние подсистем (фольклора и литературы), каждая из которых тоже представляет собой сложную галактику, сложную систему, но может быть по-настоящему осознана лишь извне, со стороны, как подсистема системы более высокого ранга» [Егоров, 1980: 3-4].
А.Н. Власов тоже полагает, что справедливо «в отношении некоторых фольклорных явлений и литературы говорить о единой культурной традиции, объединяя их понятием словесности» [Власов, 2006:229]. Любой писатель одновременно является носителем национальной ментальности, то есть тех самых форм вербальной и невербальной народной культуры, о которых мы говорили выше. Следовательно, и как художник, и как человек он естественным образом впитывает и литературную, и народную традиции: не только письменную и устную словесность, но и обычаи, верования, суеверия и т.д. - характерное для его культуры мировоззрение, причем в формах, в том числе и художественных, характерных для этой культуры. Фольклор и литература оказываются не только подсистемами словесности, но при этом еще и подсистемами национальной культуры в целом, по-разному, но часто очень похоже (как мы стараемся показать) представляющими одни явления. Речь идет о своеобразном «билингвизме» культурной традиции, ее «двуязычном» характере [Власов, 2006: 236].
Традиционная культура в литературе формулирует самые общие этические и эстетические идеалы, заново подтверждает их истинность. Она является фольклорным «кодом» литературы, и при упоминании даже фольклорной детали «адресат сразу же переходит на "код" этой системы, и в сознании его возникают ... неупомянутые части этой модели» [Жукас, 1982: 12]. Установить факт ее наличия, показать, как она живет в новом художественном облике, как преобразуется в произведении и преобразует его, - вот что интересно в аспекте нашего подхода. Речь не идет ни о влиянии, ни о заимствовании. Сознательная воля автора часто не является определяющей. Литература не всегда сознательно оперирует тем, что сформировалось
еще в коллективном творчестве: «практически все основные принципы конструирования художественного образа: структура метафоры, принцип метонимизации, символ и т.п., принципиальная схема сюжета и т.д.» [Жукас, 1982: 14]. Это язык, на котором говорит художественная словесность, что-то добавляя, что-то забывая, но в целом оставляя его неизменным. Мы говорим о том типе фольклорно-литературных отношений, когда «фольклорные элементы, не вступая с литературой в прямые контакты, выступают по отношению к литературному процессу в роли своеобразных ферментов» [Медриш, 1983:9]. Фольклор и литература, по нашему глубокому убеждению, переплетены так тесно, что говорят на одном языке — языке культуры. Многое предлагаемое литературой есть индивидуальное отражение и преломление общих генеральных линий развития культуры, культурных парадигм.
Актуальность нашей работы, таким образом, обусловлена дискуссионностью вопросов, с одной стороны, о сущности и границах понятия фольклор и, с другой - о методах и путях исследования проблемы взаимоотношений фольклора и литературы.
Объектом исследования являются миф, сказка и обряд как структурно-семантические элементы произведений русской литературы XIX века.
Возникновению фольклора как эстетического и не только эстетического явления способствовала развернутая, все больше обретающая эстетические свойства мифологическая система, которую появление фольклора не отменило. Широкое понимание фольклора базируется как раз на осознании того, что «фольклор ... формировался в недрах мифологии, вырастал из нее, питался ею и на всем пути своей истории не мог расстаться с этим наследием»
[Путилов, 2003: 71-72]. Сказка и обряд из всех фольклорных явлений теснее всего связаны с мифологией. Миф реализуется не только, но главным образом в обряде. Обряд мифологичен. Многие мифы имеют обрядовую основу или тесно переплетаются с ритуалами, «являясь их составными частями либо обязательным к ним комментарием» [Мелетинский, 1995:264]. Происхождение сказки из мифа в современной науке не вызывает сомнений [Пропп, 1998; Костюхин, 1987; Мелетинский, 1970; Мелетинский, 1995; Путилов, 2003; Козолупенко, 2005 и др.]. Сказка и обряд формализуют, сюжетно оформляют десакрализованный миф и мифологические представления. Связь «фольклорного нарратива (в самом широком смысле) с вербальной повествовательной основой мифа» для многих несомненна [Артеменко, 2005: 14]. В свою очередь сказка и обряд тоже тесно связаны, как показал В.Я. Пропп [Пропп, 1998]. По словам Е.М. Мелетинского, «миф был гегемоном в том лишь частично расчлененном жанровом синкретизме, который характерен для состояния повествовательного искусства в архаическим обществах» [Мелетинский, 1995:262]. В сказке и обряде (многожанровом единстве) миф приобретает повествовательность, временную развернутость, воплощается в художественных образах. Именно появление жанров «предзадает культуре ее мегаисторический путь» [Смирнов, 2000:10]. Таким образом, миф, сказка и обряд образуют единый структурно-семантический комплекс, эксплицитно живущий в фольклоре и имплицитно - в литературе.
В литературе этот комплекс присутствует двояко: в виде традиционных культурных представлений и в виде готовых словесных, жанровых, стилистических и др. форм, то есть художественного языка, которым, трансформируя его, пользуется
литература. Один и тот же мифологический субстрат, попадая в фольклор или литературу, получает специфические свойства, но частично сохраняет исходную структуру и семантику, то есть образует архетипическую парадигму, которую мы так назвали в связи с ее мифологическим происхождением. Возможно, она и есть та «единица измерения», на установлении которой настаивал Л.И. Емельянов и которая характеризует «литературно-фольклорные связи, по возможности более сложные и органичные, нежели простой фольклоризм» [Емельянов, 1978: 173].
Предметом исследования в связи с этим становятся различные способы и механизмы проявления мифа, сказки и обряда как структурно-семантического комплекса в различных литературных произведениях и в творчестве писателя в целом.
Материалом для исследования стали литературные произведения разных авторов, жанров, времени создания, стилей и идейной направленности: роман «Евгений Онегин», драма «Русалка», баллада «Жених» А.С. Пушкина, роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души», роман И.С. Тургенева «Рудин», драма А.Н. Островского «Гроза», повесть В.М. Гаршина «Надежда Николаевна», роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина», рассказы А.П. Чехова, повесть «Степь» и комедия «Вишневый сад». Во-первых, все они принадлежат классической русской литературе XIX века, так как литературой модернизма различные фольклорные элементы могут осваиваться иначе. Во-вторых, фольклорно-мифологические пласты не лежат в них на поверхности, а «спрятаны» в структуре сюжетов, мотивов и образов. И наконец, в силу того что нами рассматриваются в основном
различные повествовательные явления, мы не обращаемся к лирическим произведениям.
Цель диссертации - установить характер и принципы соотношения индивидуального и традиционного в личном творчестве, выработать новые методы исследования литературы как письменной формы сохранения коллективной культурной памяти.
Достижение поставленной цели предполагает решение ряда задач:
Определить понятие «архетипическая парадигма» и продемонстрировать возможности его применения при исследовании «грамматики» литературного текста.
Выявить и интерпретировать в литературном произведении устойчивые первичные повествовательные модели и типы персонажей, образующие архетипические парадигмы, показать их «исторические корни» и инвариантный смысл, а также художественный потенциал при анализе синтагматики литературного текста.
Рассмотреть структуру художественного символа, установить соотношение, с одной стороны, символа - метафоры -метонимии, а с другой, символа - архетипа - мифологемы.
Выявить при анализе художественных символов их инвариантное, архетипическое, смысловое ядро и показать, как оно «задает» интерпретацию литературного произведения и трансформируется в нем.
Показать, что любой писатель, даже такой «нефольклорный», как А.П. Чехов, воспроизводит в своем творчестве в разнообразных и не всегда явных формах традиционные фольклорно-мифологические художественные принципы и представления.
Научная новизна работы состоит в том, что впервые проблема взаимоотношений фольклора и литературы рассматривается на материале конкретных произведений как сосуществование и взаимодействие устной и письменной традиций в национальной культуре; впервые предпринята попытка комплексного изучения мифа, сказки и обряда и образованных ими архетипических парадигм; установлены новые закономерности репрезентации фольклора в литературных произведениях; предложены оригинальные пути аналитического осмысления художественного символа.
Методологической базой настоящей работы являются фундаментальные положения Д.Н. Медриша о фольклоре и литературе как подсистемах русской словесности и исследования в области фольклоризма литературы (Е.М. Мелетинский, К.В. Чистов, Ю.М. Лотман, Б.Н. Путилов, У.Б. Далгат, В.Н. Топоров, М.М. Бахтин, Е. Фарыно и др.), В.Я. Проппа о структурируемое фольклорного текста и вытекающие из него теории «грамматики» литературного произведения (Р. Барт, А.-Ж. Греймас, Б.Ф. Егоров, А.К. Жолковский, Ю.К. Щеглов и др.); исследования в области мифологии и фольклора (А.Н. Афанасьев, А.Н. Веселовский, Дж. Фрезер, К. Хюбнер, О.М. Фрейденберг, В.Я. Пропп, Е.М. Мелетинский, Н.И. Толстой, М. Элиаде, Е.А. Костюхин, А.К. Байбурин, Н.А. Криничная и др.); в области художественного символа (А.А. Потебня, В.М. Жирмунский, А.Ф. Лосев, С.С. Аверинцев, Ю.М. Лотман, Н.Д. Арутюнова, К. Юнг, А.М, Пятигорский, М.К. Мамардашвили, Ц. Тодоров и др.); в области чеховедения (АЛ. Чудаков, В.Б. Катаев, И.Н. Сухих, Э.А. Полоцкая, Г.И. Тамарли, Д.Н. Медриш, М.М. Одесская и др.).
В работе применяются различные методы исследования, выбор которых обусловлен характером материала и конкретными задачами
анализа. Нами использовались главным образом культурно-антропологический и структурно-типологический методы, а также метод целостного анализа художественного текста. Объектом культурной антропологии является вся культурная традиция, включающая фольклор в широком значении, литературу, язык. Такой подход подразумевает синхронический и диахронический анализ культуры. Структурно-типологический метод, рассматривая произведения фольклора и литературы как структуры, состоящие из более простых элементов и составляющие в свою очередь сложные единства, позволяет перейти от описания отдельных элементов к анализу системы, «глубинных уровней литературы, которые, как правило, авторами не осознаются и реализуются в их произведениях независимо от их субъективных намерений» [Косиков, 2003: 219]. На защиту выносятся следующие положения,
При использовании методов анализа, применяемых в фольклористике, в литературном произведении выявляются повествовательные модели и типы персонажей, сформированные в мифе, сказке и обряде. Разные литературные герои входят в одну архетипическую парадигму и обнаруживают одинаковые инвариантные функции, свойства и атрибуты. В связи с этим открываются возможности а) сегментации литературных произведений; б) исследования общих традиционных элементов их структуры и поэтики; в) интерпретации отдельных литературных текстов с точки зрения взимодействия в них «готовых» и индивидуальных значений и правил построения.
Репрезентация и функционирование мифа, сказки и обряда в литературных произведениях различны: в композиции, в структуре
художественного символа, образов героев, моделей пространства и времени.
Миф сказка и обряд становятся своеобразным «кодом» литературы, включая литературное произведение в ассоциативное поле фольклора, усложняя характеристику персонажей, формируя глубинную перспективу, позволяя выявить в произведении универсальность и общечеловеческое звучание.
Структура художественного символа, который традиционно считается иррациональным и непознаваемым, поддается логическому анализу в аспекте парадигмы его значений, выработанных в ходе развития культуры, от мифа и фольклора - до литературы нового времени. Фольклор и литература - это способ воспроизведения символических форм культуры. Значение символа определяется взаимодействием значений мифологем, образующих его структуру. Эта инвариантная символическая семантика в литературном произведении обогащает его памятью традиции, но и обогащается им, приобретает дополнительные смыслы и значения.
В произведениях такого «нефольклорного» художника, как А.П. Чехов, выявляются миф, сказка и обряд как структурно-семантический комплекс - текстопорождающая модель, во многом определяющая их жанровую природу, композицию, систему персонажей, образы пространства и времени и т.д.
Теоретическая значимость работы заключается в комплексном междисциплинарном подходе к анализу литературного произведения, выявлении общих принципов структуро- и смыслопорождения в фольклоре и литературе, а также в дальнейшем развитии принципов интерпретации художественного текста в культурно-историческом и фольклорно-мифологическом аспектах.
Практическая значимость. Материалы и результаты диссертации могут быть использованы в школьном и вузовском преподавании фольклора и русской литературы XIX века, в разработке спецкурсов по проблемам взаимоотношений фольклора и литературы. Теоретические решения, предложенные нами, помогут в создании целостной картины развития русской художественной словесности.
Апробация результатов исследования. Концепция, основные идеи и результаты исследования обсуждались на международных конгрессах и конференциях: «Русское слово в мировой культуре: X Конгресс Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы» (Санкт-Петербург, 2003), «Русский язык: исторические судьбы и современность» (Москва, 2004), «Русская и сопоставительная филология: состояние и перспективы» (Казань, 2004), «I Всероссийский конгресс фольклористов» (Москва, 2006), «Рациональное и эмоциональное в фольклоре и литературе» (Волгоград, 2001,2004,2005), «История языкознания, литературоведения и журналистики как основа современного филологического знания» (Ростов-н/Д - Адлер, 2003), «Россия -Германия: диалог культур» (Таганрог, 2003), «Филология на рубеже тысячелетий» (Ростов-н/Д - Новороссийск, 2004), «Чеховские чтения» (Таганрог, 2004), «Виноградовские чтения» (Москва, 2004,2005), «Герценовские чтения» (Санкт-Петербург, 2004,2005), «Восток-Запад: пространство русской литературы» (Волгоград, 2005,2006), «Пушкинские чтения» (Пушкин, 2005); на всероссийских конференциях в Санкт-Петербурге, Ставрополе, Таганроге; на кафедре литературы Таганрогского государственного педагогического института в ходе обсуждения проблем на методологических семинарах, на итоговых научно-исследовательских конференциях.
Материал и основные идеи исследования использованы в вузовских курсах фольклора и истории русской литературы XIX века, в спецкурсе «Фольклор и литература», читаемых автором диссертации в Таганрогском государственном педагогическом институте.
Результаты исследования изложены в монографии, статьях и тезисах общим объемом 31 п.л.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы. Объем текста 344 страницы.
Фольклорно-мифологическая повествовательная модель «змей - царевна - герой» в русской литературе XIX века
В работе «Поэтика сюжетов» А.Н. Веселовский предположил: «Если свести в группы сюжеты мифа, сказки, средневековых исторических поэм, русских былин и т.д., то в результате получится нечто крайне ограниченное, получится материал далеко не богатый, а между тем в этих-то немногих группах и коренится все поразительное богатство сказок, объясняющееся простой комбинацией знакомых, простейших сюжетов» [Веселовский, 2001: 653]. А.И. Никифоров позже выдвинул идею морфологического изучения народной сказки [Никифоров, 1928]. Эта идея во всей полноте реализовалась в работах В.Я. Проппа «Морфология сказки» и «Исторические корни волшебной сказки»: количество сказочных сюжетов ограниченно и строение всех волшебных сказок однотипно. Эта однотипность строения определяется мифологическим прошлым сказки, тем обстоятельством, что сказка наследует «первосюжеты» и «первообразы» (сказка - это «ослабленный миф», по выражению К. Леви-Строса). Но миф - это не художественный текст, хотя постепенно и вырабатывает эстетическую функцию [Веселовский, 1989]. Поэтому первоисточником сюжетных схем, типов героев, конфликтов и в целом нарративных принципов мы будем считать сказку - первый повествовательный жанр художественной словесности. Именно в ней вырабатываются повествовательные модели - однотипные сюжетные схемы, образцы, художественные конструкции, - которые затем реализуются и в литературе, и, по замечанию Ю.М. Лотмана, «структурная природа произведения искусства ... есть реализация содержащейся в модели информации» [Лотман, 2002: 275]. Как заметил Р. Барт, «рассказывать начали вместе с началом самой человеческой истории» и «на свете нет человека который сумел бы построить (породить) то или иное повествование без опоры на имплицитную систему исходных единиц и правил их соединения» [Барт, 2000: 196 - 197]. А В.Б. Шкловский не сомневался, что «большая литература всегда говорила о сегодняшнем дне, вырываясь из сказки» [Шкловский, 1981: 106].
Стремление перенести на литературу методы анализа фольклорных текстов одним кажутся спорными, другим -чрезвычайно перспективными. Но если фольклорный текст, например, сказка, поддается структурированию, нельзя ли структурировать и литературное произведение? Не окажется ли, что и литература, при всем ее безграничном многообразии, восходит к ограниченным повествовательным моделям и типам персонажей?
На работы В.Я. Проппа отозвались многие исследователи [Lord, 1951; Dundes, 1965; Пермяков, 1970; Парпулова, 1976; Греймас, 2000 и др.]. А.-Ж. Греймас, французский структуралист, обобщив результаты Проппа, выработал «универсальную модель, применимую, по его замыслу, к любому повествовательному тексту» [Косиков, 2000: 19-20]. Система порождения текста на основе модели Проппа послужила прообразом многих семейств интеллектуальных систем - и в плане методологии структурного представления сюжетных знаний, и в плане организации текстообразования. В 1970 году, формулируя основные постулаты «порождающей поэтики», А.К.Жолковский предложил разбирать «очень простой тип построения» художественного текста и принять такую точку зрения, что «художественное построение производится по готовым принципам и с готовым запасом средств и не учитывается обогащение искусства в процессе творчества» [Жолковский, Щеглов, 1996: 51]. Задачу такой поэтики А.К.Жолковский видел в моделировании творчества, в таком анализе произведений искусства, который бы разлагал их на элементы. Правильным может быть разложение произведений «только на такие составляющие, из которых его потом можно было бы собрать по некоторым общим правилам» [Жолковский, Щеглов, 1996:51]. Так создается «метаязык для описания выразительной структуры художественных произведений» [Жолковский, Щеглов, 1996: 12]. Иллюстрацией подобного языка А.К. Жолковский и Ю.К. Щеглов считали именно пропповский набор мотивов («функций») волшебной сказки. Этот метаязык по отношению к раннему русскому кинематографу, его морфологии, функциям в пропповском смысле и способам построения сюжетных схем применила Н.М Зоркая [Зоркая, 1976]. Такая постановка вопроса в большей степени характерна для фольклористики. По мнению Б.Н. Путилова, наличие фольклорных вариантов объясняется существованием «определенным образом организованной семантики со своими сюжетными контурами (узлами коллизии), "готовой" для многократного вербального кодирования, т.е. для превращения в собственно тексты» [Путилов, 1994: 186]. Если для фольклористов очевидно, что «за видимым многообразием традиций разных народов мира (далеко не только повествовательных!) стоит набор исчислимых и единообразных сущностей, некий универсальный сюжетно-мотивный фонд» [Неклюдов, 2004: 236], то отечественное литературоведение только приступает к решению проблемы «грамматики» литературной формы на ее наиболее абстрактном уровне (см., например, [Тюпа, 1996; 2001]).
Фольклорно-мифологические мотивы и образы в драме А.С. Пушкина «Русалка»
Драма «Русалка» - одно из самых загадочных произведений А,С.Пушкина. Ее загадочность заключается не только в незавершенности, хотя именно благодаря Пушкину открытый финал, пропуск целых строк, строф, всякая недоговоренность стали своеобразным художественным приемом (его заимствует Н.В, Гоголь в повести о Иване Федоровиче Шпоньке; А.А. Ахматова в «Поэме без героя» прямо сошлется на пушкинскую недоговоренность, объясняя пропуски в тексте поэмы). Загадочным для многих современников и исследователей стал сам факт обращения поэта к этой теме. Известно, что в конце 20-х годов Пушкин живо интересовался фольклором, даже записывал народные песни, позже вошедшие в сборник П.В. Киреевского, Но едва ли простым интересом можно объяснить появление драмы в тот момент, когда у всех на слуху была комическая опера К Краснопольского «Днепровская русалка». Правда, С. Рассадин, сравнивая сюжеты этих двух произведений и находя много общего, высказывает серьезные сомнения, что Пушкин мог серьезно воспринимать убогие вирши Н.С. Краснопольского после стихотворений о русалках Г.Р, Державина, Н.М. Карамзина и др. [Рассадин, 1977]. Что же такое «Русалка» - переделка известного сюжета или оригинальное произведение? В чем заключается его оригинальность? В придании конфликту социального характера? Именно на эти вопросы пыталась ответить литературоведческая наука в последние десятилетия. Литературный образ русалки, особенно любимый поэтами-романтиками, лишь поверхностно отражает народные представления. Русалка в романтической поэзии - это молодая красивая девушка, которая ночью выходит на берег реки или озера или обитает в лесной чаще. Русалки водят хороводы и поют песни, соблазняя и заманивая мужчин. В пушкинском стихотворении «Русалка», написанном в 1819 году, зафиксировалась именно эта условно-романтическая традиция, которая мало дает для понимания его поздней драмы: Глядит на старого монаха И чешет влажные власы, Святой монах дрожит со страха И смотрит на ее красы. Она манит его рукою, Кивает быстро головой... И вдруг - падучею звездою - Под сонной скрылася волной. (I, 364) В стихотворении «Русалка» легко угадывается сюжет баллады Гете «Рыбак», известной Пушкину по переводу Жуковского, сделанному в 1818 году. Уже в «Русалке» проявилось замечательное свойство пушкинского гения: он никогда ничего не заимствовал, ничему не подражал (разве только в лицейские годы) - на «чужом» материале он создавал совершенно оригинальное по идейному содержанию произведение. Баллада Гете представляет собой типичный образец романтизма: и обстановка, и персонажи, и недосказанность, и фольклорная экзотика свидетельствуют об этом. Пушкин же «русифицирует» сюжет и заостряет конфликт. Герои его, тоже вполне романтической, баллады не рыбак и русалка, а русалка и монах, даже только монах. Именно так поставлен смысловой акцент. То есть для Пушкина важна не романтическая коллизия; фантастическое существо и человек, томимый обыденной действительностью, - а тема соблазна, грехопадения, которая будет так интересовать его всю жизнь. Это делает условный сюжет баллады психологически насыщенным, К тому же русскому читателю гораздо понятнее русалка, известная по национальной народной традиции. Детали: «нагая женщина», «чешет влажные власы» и пр. - есть у Пушкина, но отсутствуют у Гете, Думается, разгадка пушкинской драмы лежит именно на пути осмысления фольклорпо-мифологических истоков ее сюжета и образной системы. Этот материал дал поэту основания для столь характерной для него в 30-е годы рефлексии на тему добра и зла, преступления и наказания, традиционно апеллирующей к христианской образности и символике, «Пушкин стоял между двумя безднами - христианства и язычества, между двумя непримиримыми антиномиями, которые он свел воедино в своей драме» [Гиппиус, 1915:6]. Приступая к рассмотрению фольклорной основы драмы, каждый исследователь сталкивается с тем, что фольклор почти не зафиксировал «русалочьей» темы, за исключением обрядовых песен и быличек. А это, как известно, жанры, сохранившие черты языческой мифологии, В существование русалок верили и верят, о встречах с ними рассказывают как о действительном факте, В глубокой древности русалки олицетворяли водную стихию, которая ассоциировалась с хтоническими божествами "низа" в противовес мужскому началу, божествам "верха" - неба. Возможно, именно поэтому жертвами русалок чаще становились мужчины, которых они заманивали на дно реки или в лес. Образ русалки в фольклоре сочетает черты водных духов и персонажей, воплощающих плодородие (Кострома, Ярило и т.д.), смерть которых гарантировала хороший урожай. Отсюда и связь русалки с плодоносящей силой земли и с миром мертвых. А.Голан заметил, что «распространенный до начала XX века у разных народов Европы ритуал сжигания или утопления в воде женской куклы (чучела), совершавшийся на весенних празднествах, первоначально символизировал сочетание богини с богом, воплощенном в огне или воде, что должно было обеспечить плодородие, и лишь впоследствии был переосмыслен как уничтожение, предание смерти, похороны богини» [Голан, 1994: 78].
Символ и мифологема
«Понятие символа и в литературе, и в искусстве является одним из самых туманных, сбивчивых и противоречивых понятий», -отмечал А. Ф. Лосев в книге «Проблема символа и реалистическое искусство» [Лосев, 1995; 5]. Рассматривая разные типы символов: научные, технические, идеологические и пр., - ученый большое внимание уделяет художественным символам. Его работа пронизана мыслью, что в искусстве нет несимволических образов. Поэтому Лосев резко возражал против -тою, чтобы считать владение символами исключительной прерогативой «символистов»: «это направление в литературе и искусстве большей частью понимало символ очень узко, а именно как мистическое отражение потустороннего мира в каждом отдельном предмете и существе посюстороннего мира. Естественно, что большинство критиков и логиков, особенно в период революции, не считали нужным пользоваться термином «символ», потому что тут уже не верили в потусторонний мир и в мистическом понимании символа мало кто нуждался» [Лосев, 1995: 5]. З.Г. Минц тоже предложила собственно символистский подход к символу дополнить другим - «рассмотрением всей русской литературы конца XIX -начала XX в. как стремящейся - в разной степени, форме и по разным социокультурным причинам - к возрождению "символического"» [Минц, 2004: 45].
Внешняя сторона символа, по словам А.Ф. Лосева, должна указывать «на нечто совсем другое и все время подчеркивать, что внешнее здесь не есть только внешнее, но и внутреннее, существенное, а внутреннее, как бы оно ни было глубоко, здесь - не только внутреннее, но и существенное» [Лосев, 1995: 27].
Подобное понимание символа находим и у С.С. Аверинцева: «Всякий символ есть образ (и всякий образ есть, хотя бы в некоторой мере, символ); но если категория образа предполагает предметное тождество самому себе, то категория символа делает акцент на другой стороне той же сути - на выхождении образа за собственные пределы, на присутствии некоего смысла, интимно слитого с образом, но ему не тождественного. Предметный образ и глубинный смысл выступают в структуре символа как два полюса, немыслимые один без другого, ... но и разведенные между собой и порождающие между собой напряжение, в котором и состоит сущность символа» [Аверинцев, 1971: стлб. 826].
По словам Аверинцева, «сама структура символа направлена на то, чтобы погрузить каждое частное явление в стихию «первоначал» бытия и дать через это явление целостный образ мира» [Аверщщев, 1971: стлб. 827]- Суждение Лосева по этому поводу иллюстрируется следующим примером: «Я могу смотреть на дерево как ботаник, как эстетик, как садовод, как лесничий, как заготовитель леса для жилых построек, как географ, как мифолог- Когда древний грек находил в дереве некий управляющий его жизнью дух, он называл его гамадриадой, если дух погибал вместе с порубкой дерева, и дриадой, если он был настолько силен, что оставался жить и после порубки дерева. В Библии говорится о «древе познания добра и зла». И почти во всех религиях мыслится "мировое древо1 как мифологический символ всего мира- Это - все разные слои в одном и том же образе дерева, связанные между собою отнюдь не случайно и вполне закономерно, вполне системно. ... когда данное дерево стало для меня символом чего-нибудь, то и этот символ, очевидно, тоже многомерен. Здесь возможные другие подходы к феномену дерева никак не отсутствуют, но в случае символа они переосмыслены заново, оценены и распределены заново, вошли в новую структуру, которую им продиктовал символ; и в смысловом отношении они получили то второстепенное, то третьестепенное, то вообще несущественное, а может быть, даже и нулевое значение» [Лосев, 1995: 189]
Как видим, оба цитируемых автора подчеркивают многозначность художественного символа и их рассуждения совершенно убедительны. Тем не менее рискнем не согласиться с А.Ф. Лосевым в том, что некоторые подходы к предмету получают в символе «несущественное, а может быть, даже и нулевое значение». Ученый стремится к пониманию символа в каждом художественном произведении, то есть символ для него во многом окказионален: его значения порождены данным конкретным текстом, а все другие его смыслы могут быть несущественны или даже стремиться к нулю. Для С.С. Аверинцева, напротив, и контекстуальные, и интертекстуальные, и общекультурные семантические пласты символа являются основным предметом гуманитарной рефлексии, то есть «вопрошания о humanum, о человеческой сущности, не овеществляемой, но символически реализуемой в вещном» [Аверинцев, 1971: стлб, 828],
Проблема изучения фольклоризма «нефольклорного» писателя
Исследователь, поставивший перед собой задачу установить взаимосвязи творчества АЛ, Чехова с фольклором, сталкивается с большими трудностями. Несмотря на то, что, собирая материал для диссертации, Чехов изучал книгу М- Забылина «Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия», И. Сахарова «Сказания русского народа», М, Макарова «Русские предания», а также «Славянскую мифологию» [Бельчиков, 1930; Гвоздей, 1988], он кажется совсем «нефольклорным» писателем. По словам Д,Н. Медриша, «сама постановка вопроса - Чехов и фольклор - может показаться неправомерной, и не столько потому, что подобная задача почти не ставилась, сколько как раз в свете тех выводов, которые были получены в немногочисленных исследованиях на эту тему. Если свести проблему к учету упоминаний фольклорных жанров или сюжетов в произведениях писателя либо случаев цитирования им лирических песен и колядок или использования пословиц и поговорок, то результаты окажутся более чем скромными, ., Творчество едва ли не любого русского писателя, не исключая и современников Чехова, дает при подобном подходе материал и более обильный, и более разнообразный» [Медриш, 1980: 208]. Л.И. Емельянов несколько раньше выразился более категорично: были писатели, «которых вообще трудно поставить в сколько-нибудь конкретное отношение к фольклорным традициям (Гончаров, Чехов, Бунин, Куприн)» [Емельянов, 1978: 192].
Иногда бывает трудно или невозможно установить тот или иной фольклорный текст, который послужил отправной точкой становления авторского замысла. Такие попытки лишь запутывают дело, так как предполагают генетическую зависимость литературного произведения от фольклорного. Речь же, как нам представляется, должна идти о типологических схождениях двух видов словесного искусства, о наличии и функционировании в них общих художественных принципов и структурных элементов. «Внутренний мир произведения соотносится не только с биографическим и социальным контекстами, но и с той воплощенной в словесном творчестве смысловой средой, которая сложилась к моменту возникновения данного текста» [Смирнов, 1978: 187]» Эта смысловая среда есть мифопоэтический контекст творчества любого писателя, «семантические нормы, так или иначе видоизменяемые автором и определяющие внутренние возможности литературного развития)) [Смирнов, 1978: 187], но интенсивность и способы ее проявления могут быть различны в зависимости от множества факторов: художественных задач, индивидуального авторского стиля и т.д. Как отметил Л.И. Емельянов, «усваивая фольклор как одну из форм энергии, писатель превращает ее во многие другие, качественно отличные формы, в которых специфические признаки этой «первичной)) формы исчезают, но которые тем не менее обязаны ей в какой-то мере своим происхождением» [Емельянов, 1978: 176].
Долгое время проблема отношения Чехова к народной культуре рассматривалась в аспекте явного, прямого использования фольклора в произведениях писателя: сюжетов, образов, выразительных средств [Навроцкий, 1935; Баранов, 1965]. Постепенно интерес исследователей сместился в область скрытого, опосредованного фольклоризма [Роговская, 1974; Тумилевич, 1978; Семанова, 1990; Грачева, 1990; Мартыненко, 1990; McVay, 1991; Терехова, 2002; Воробьева, 2003 и др.].
«Внешних признаков фольклорности - цитации и пересказов устных народных произведений - у Чехова немного», - отмечено в статье О.Ф. Тумилевич «Чехов и фольклор» [Тумилевич, 1978: 102]. Исследователь выявляет скрытый сюжет сказок о дурне в ранних рассказах Чехова, обращая внимание не только на сходство, но и на различие народной сказки и чеховского рассказа.
В статье М.Е. Роговской «Чехов и фольклор («В овраге»)» автор ставит вопрос о специфике исследования чеховского фольклоризма: «Мало указать на источники, так или иначе, иногда очень косвенно отразившиеся у Чехова. Более важно, очевидно, попытаться установить, в чем своеобразие его использования фольклора, какова художественная функция фольклорного мотива в произведении» [Роговская, 1974: 330]. Однако эта декларация не всегда подкрепляется убедительными аргументами. Совершенно справедливо отмечает М.Е. Роговская использование Чеховым психологического параллелизма, но этот прием, сформировавшись в фольклорной поэтике, давно перестал быть исключительно фольклорным. То же относится и к утверждению, что персонификация добра и зла в конкретных образах у Чехова непосредственно восходит к сказке. Думается, речь должна идти не о фольклорных заимствованиях, а о динамическом развитии словесных искусств, берущих начало из общего источника, о своеобразном «параллелизме» их художественных поисков и шире - об изоморфизме разных форм культуры.