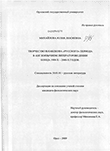Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Пародийное начало в структуре образов и мотивов в романе «Аэлита» 16
1.1. Пародийность и пародийность 16
1.2. Анализ романа «Аэлита» 35
1.3.Выводы 95
Глава 2. Формы и функции пародийности в повестях и рассказах берлинского периода 96
2.1. Повесть «Рукопись, найденная под кроватью» 97
2.2. Повесть «Убийство Антуана Риво» 123
2.3. Повесть «Чёрная пятници» 132
2.4. Повесть « Похождения Невзорова, или Ибикус» 138
2.5. Рассказ «На Острове Халки» (Последний день поэта Санди) 147
2.6.Выводы 153
Заключение 154
Библиография 160
Приложение 178
- Пародийность и пародийность
- Анализ романа «Аэлита»
- Повесть «Рукопись, найденная под кроватью»
- Повесть «Убийство Антуана Риво»
Введение к работе
Последние десятилетия в науке о русской литературе связаны с пересмотром основных представлений о самом составе русской культуры XX столетия.
Открытие и публикации ранее неизвестных художественных текстов, новых документов, мемуарных свидетельств, введение в научный оборот множества новых фактов и современные теоретические междисциплинарные (философские, литературоведческие, культурологические, исторические, психологические и др.) осмысления художественного наследия - радикальным образом изменили существовавшую картину современной русской литературы и культуры.
Русская литература 20-30 —х годов, создававшаяся за рубежом, только в последние десятилетия стала объектом пристального исследования в России. Но и наследие писателей революционного периода, оставшихся за границей или вернувшихся в Россию, также имело не вполне аутентичное истолкование в советском литературоведении.
Стремление к созданию целостного, не противоречивого представления о творчестве А.Н.Толстого повлияло на выбор временного промежутка для нашего исследования, связанного с годами жизни и творчества писателя в недолгой эмиграции в Берлине (октябрь 1921г.- июль 1923г.). Данный период занимает существенное место в его многообразном творчестве, поскольку имеет вполне самостоятельный художественный статус как в контексте творчества писателя, так и в общем контексте русской советской литературы и культуры 20-х годов. Мы полагаем, что обращение к такому необычному феномену русской культуры XX века, как «Зарубежная Россия», и в частности, к такому многоликому и парадоксальному явлению, как «Русский Берлин» представляет несомненный интерес для исследователей. Берлинский период - один из сложнейших периодов в творческий биографии Толстого, период «между Европой и Россией», «между
небом и землёй», «между жизнью и смертью» - промежуточная, пограничная ситуация. Время жизни в русском Берлине для Толстого явилось творческим, психологическим и биографическим рубежом, связанным с поиском писателем творческого и экзистенциального самоопределения. Процесс этот протекал сложно, он был отмечен противоречиями, и, естественно, что разные исследователи его по-разному осмысляли и оценивали. Особенно разноречивы оценки творчества Толстого этого периода в критике 20-х годов: Ю.Тыняновым, В.Шкловским, К.Чуковским и др.
Толстого постигла участь писателей, превращенных историей в предмет политизированного исследования. Один лишь пристрастный отбор материала способен сформировать очень разные картины. Понятно, что в «Воспоминаниях об А.Н.Толстом»1 1982г. зарисовки И.Андроникова, Н.Асеева, Ю.Олеши, И.Эренбурга, К.Федина, М.Жарова, Д.Толстого, Н.Толстой-Крандиевской проникнуты тёплой симпатией, а то и пафосом восхищения. (Нужно отметить, впрочем, образ Толстого в воспоминаниях Н. Крандиевской-Толстой , изданных отдельно, неоднозначен и даёт богатый материал литературоведу, признающему биографический метод). Воспоминания же И.Бунина, Р.Гуля, Е.Шкляра, рассматривающиеся в постсоветской критике как первостепенный источник, дают противоположные толкования: все они - русские эмигранты, вследствие острого неприятия большевистской власти оставившие родину, закономерно смотрят на Толстого, вернувшегося из эмиграции и принявшего советскую власть, как на «предателя и приспособленца». Белоэмигранты, оставшиеся в Париже и Берлине, а также русские «диссиденты» в один голос признавали постэмиграционные произведения Толстого «халтурой». Роман Гуль отзывается о них как "коммерческой" литературе, написанной по заказу большевистского правительства, исключительно для того, чтобы с почётом быть принятым в
1 Воспоминания об А.Н.Толстом. М.: «Советский писатель», 1982. - 495 с.
2 Крандиевская-Толстая Н.В. Воспоминания. - Л.:Лениздат. 1977. -224 с.
СССР - несомненный показатель безнравственности и духовной слабости. Пожалуй, единственная положительная ранняя рецензия на «Аэлиту» была сделана Ниной Петровской в газете: «Гипербола, фантазия, тончайший психологический анализ, торжественно музыкальная простота языка, все заплетается в пленительную гирлянду»2.
И. Бунин в своих воспоминаниях о писателе, названных им «Третий Толстой» (во многом сформировавших, кстати, стереотипическое представление о Толстом как о личности), подчёркивает циничное - быть может, даже потребительское - отношение Толстого к установившемуся в России порядку. Рассказ о последней встрече писателей, произошедшей в Париже в 1936 г., когда Толстой был там проездом, проникнут горечью и сарказмом. «...Он тоже уже шел навстречу мне и как только мы сошлись, тотчас закрякал своим столь знакомым мне смешком и забормотал. «Можно тебя поцеловать? Не боишься большевика?»
- спросил он, вполне откровенно насмехаясь над своим большевизмом, и с такой
же откровенностью, той же скороговоркой и продолжал разговор еще на ходу: -
Страшно рад видеть тебя и спешу тебе сказать, до каких же пор ты будешь тут
сидеть, дожидаясь нищей старости? В Москве тебя с колоколами бы встретили, ты
представить себе не можешь, как тебя любят, как тебя читают в России...
Я перебил, шутя:
Как же это с колоколами, ведь они у вас запрещены. Он забормотал сердито, но с горячей сердечностью:
Не придирайся, пожалуйста, к словам. Ты и представить себе не можешь, как бы ты жил, ты знаешь, как я, например, живу? У меня целое поместье в Царском Селе, у меня три автомобиля... У меня такой набор драгоценных английских
Гуль Р. Я унёс Россию, 1_1 .htm.
2 Геннадий Прашкевич. Алексей Николаевич Толстой, .
трубок, каких у самого английского короля нету... Ты что ж, воображаешь, что тебе на сто лет хватит твоей Нобелевской премии?»1
По множеству различных документов — воспоминаний, писем, дневников, публикаций, часто предвзятых или неправильно понятых - мы можем составить представление о знаменитом человеке в повседневной жизни, его привычках, пристрастиях. Но когда речь идёт о художнике, главными «документами» такого рода являются его произведения, и именно они - его истинная биография. Конечно, Толстой мог «надсмехаться над своим большевизмом»: он был и оставался настоящим русским барином, любил роскошь и, как он сам выражался, «легкую и изящную жизнь» . Но не ради хорошей жизни, не ради поместья в Царском Селе и набора драгоценных английских трубок вернулся Толстой в Россию, а потому, что был он русским - писателем, барином, просто человеком; потому, что в эмиграции была «собачья тоска». Когда Евгений Шкляр, погружённый, как и все прочие, в политическую жизнь русской эмиграции, спрашивал Толстого в Берлине: «Алексей Николаевич, а зачем Вы в "Накануне"?», тот отмахивался рукой от этого вопроса, словно от назойливого комара, и отвечал: «Да я же там не работаю. В Москву хочу, обратно, - вот и весь сказ!!!»3. Для него неважны были на самом деле «наканунцы» и «сменовеховцы», и на упоминание Александра Ященко о том, что Толстого исключили из Союза Писателей и журналистов «за «Накануне», тот отвечал равнодушно и насмешливо: «Да что такое вся эта эмиграция?.. Это, Сандро, пердю монокль — и только...». Можно думать, что так проявлялись цинизм, беспринципность, измена принципам, как это утверждали хором оставшиеся по ту сторону баррикад белоэмигранты. В самом деле, сегодняшний исследователь видит в Толстом равнодушие или высокомерие человека, видевшего, как невелико значение политических разногласий рядом с
1 Бунин И.А. Третий Толстой, .
2 Гуль Р. Я унёс Россию, .
3 Шкляр Е. Литературный Берлин (Заметки и впечатления).
другими ценностями. Художественное творчество является лучшим «детектором лжи», и писатель, кривящий душой перед самим собой, никогда не напишет ничего достойного. «Ни к красным, ни к белым! Ни с Лениным, ни с Врангелем», -призывали русские левые демократы. Толстой не был левым демократом, сменовеховцем, «наканунцем». Он был писателем, а это даёт право на истинный аристократизм и аристократическое чувство превосходства: не обращая внимание на рябь на поверхности воды, бывшую настоящим штормом для многих других, Толстой-писатель думал об эпической глубине литературы.
Быть может, Толстой и думал при отъезде в СССР о личной выгоде: как видно из воспоминаний, он действительно любил жить на широкую ногу, и ему это удалось. Его духовное перерождение, конечно, было на каком-то уровне чистым театром: чего стоит, например, подпись «гр.Толстой», в которой «гр» можно прочесть одновременно как «граф» и «гражданин». Однако его литературное наследие берлинского периода ни в коей мере не было «халтурой» и, прочитанное правильно, не оставляет такой двусмысленности. Перемена, постигшая Толстого, действительно была, и была глубокой, поскольку явственно отразилась в его художественном творчестве. «Что с ним случилось, не знаем, он весь внезапно переменился, - писал Корней Чуковский. - Переменившись, написал «Аэлиту»; «Аэлита» в ряду его книг — небывалая и неожиданная книга. В ней не Свиные Овражки, но Марс. Не князь Серпуховский, но буденновец Гусев. И темы в ней не похожи на традиционные темы писателя: восстание пролетариев на Марсе»1. О выборе Толстым жанра научной фантастики будет подробнее написано ниже, но ясно с первого взгляда, что поиск нового жанра — это всегда попытка взглянуть на мир под другим углом, увидеть его в новом свете. Нельзя отрицать, что «Гиперболоид инженера Гарина», а также пьеса «Бунт машин» и рассказ «Союз пяти» - научно-фантастические произведения, написанные в расчёте на
1 Цит.по: Ревич В. Алексей Толстой как зеркало русской революции// Перекрёсток утопий М.: Ин.-т востоковедения, РАН, 1998. С.51.
массового читателя, произведения во многом дидактические и даже пропагандистские, именно такие, каких ждало от Толстого советское правительство (развёрнутый план «Гиперболоида инженера Гарина» был в 1924 г. подан Толстым как заявка в Государственное издательство). После лирического и психологически утончённого «Детства Никиты» такая перемена действительно заметна. Но является ли решение Толстого взяться за написание таких книг «личной безнравственностью», в которой обвиняет Толстого Бунин? Это вопрос мировоззрения - позорно или нет для художника создавать произведения, доступные максимально широкому кругу читателей и ориентированные специально именно на массового читателя. Если речь идёт о художнике, а не ремесленнике, в этих произведениях неизбежно будет не всем доступная глубина.
Ю.Тынянов в своём обзоре «Литературное сегодня» проницательно отмечает пародийную сущность «Аэлиты», однако представляет её как лёгкое средство сделать роман завлекательнее, а историографический пласт романа, рассмотренный в данном исследовании, для видного русского формалиста -«марсианская философия, почерпнутая из популярного курса и внедрённая для задержания действия, слишком мало задерживающегося о марсианские кактусы»1. Странно видеть, что один из виднейших русских литературоведов XX в., автор монографии о Достоевском и Гоголе, прямо касающейся теории пародии, и во всех тонкостях понимавший сложность жанровой природы любого произведения, так отреагировал на публикацию «Аэлиты» и пришёл к выводу, что «не стоит писать марсианских романов». Мы можем наблюдать поучительную картину того, как атмосфера идейных битв влияет на самые выдающиеся умы. В.И.Баранов, и в 1985г., с другой стороны, вряд ли обоснованно называет сформировавшуюся в 20-е годы поэтику Толстого «новой разновидностью реализма», особенности которого
1 Тынянов Ю.Н. О литературной эволюции. // Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С.156.
«обусловлены внутренними закономерностями литературного процесса молодой Советской Республики»1.
Глубоко знавший творчество Толстого В.Р.Щербина пишет о «пути А.Толстого к слиянию с революцией» и о политизированных нападках на него западных критиков: «не прекращаются попытки советологов очернить исторический мужественный выбор писателя, его включение в строительство новой, советской культуры». Будучи крайне политизированной, статья В.Р.Щербины - со своей стороны баррикад - очень точно описывает ситуацию в литературоведческих кругах, связанную с именем Толстого: «вокруг него, начиная с первых поколений белой эмиграции до наших дней, ведётся ожесточённая полемика противостоящих идеологических сил»2.
Понятно, что внутри этой ожесточённой полемики невозможно объективное, научное исследование. Творчество Толстого до сих пор является не только художественным, но и политическим феноменом, что с неизбежностью делает многие исследования его творчества пристрастными. По-видимому, сегодня исследователь может смотреть на эти десятилетия как на один из многих этапов в истории русского литературоведения. Появляются неполитизированные издания архивных материалов, предоставляющие разностороннюю информацию о жизни и мнениях известных писателей изучаемого в диссертации периода и их литературного окружения . Таким образом, хотя творчество Толстого, казалось бы, подробно изучено и описано, лишь теперь становится вполне возможным взгляд учёного на тексты писателя вне актуальных идеологических боёв, с опорой лишь
Баранов В.И. Творческие искания А.Н.Толстого и советская литература 20-х годов. //А.Н.Толстой, материалы и исследования. М: Наука, 1985. С.111.
- Щербина В.Р. Толстой: творческий путь// А.Н.Толстой. Материалы т исследования. М.: Советский писатель, 1956. С.15.
3 См., например, Русский Берлин 1921 - 1923: По материалам архива Б.И.Николаевского в Гуверовском институте / Сост., подгот. текста, вступ.ст. и коммент: Л.Флейшмана, Р.Хьюза, О.Раевской-Хьюз. - 2-е изд., испр. - Paris - М.: YMCA-Press - Русский путь, 2003. - 388-с.
на собственно философские убеждения и верования - обязательное условие существования литературоведения как науки.
Творчество Толстого сегодня вызывает пристальный интерес со стороны исследователей и читателей. В последние два десятилетия, после довольно продолжительного перерыва, одна за другой выходят полемические статьи (напр.: С.Л. Слободнюк К вопросу о гностическом элементе в творчестве А.Блока, Е.Замятина и А.Толстого (1918-1923) /1994/; ЕД. Толстая Буратино и подтексты Алексея Толстого /1997/; Л. Ф.Кацис Кто такой Буратино? Марионетки в русской прозе 1920-1930-х годов /1997/; Е.Д.Толстая Алексей Толстой между небом и землёй: первый эскиз революционного романа /2002/; Е.Толстая Толстой и Ветлугин /2003/; Л.П.Григорьева О скрытой пародийности «Рукописи, найденной под кроватью» А.Толстого/2005/; Л.П.Григорьева О пародийном подтексте романа А.Н.Толстого «Аэлита» /2005/; И.Белобровцева Лицо не в фокусе (К проблеме одного прототипа) /1990/; М.Липовецкий Утопия свободной марионетки, или как сделан архетип /2003/ и др.), монографии (напр.: М.И.Свердлов По ту сторону добра и зла. Алексей Толстой: от Буратино до Петра /2004/ и др.), сборники (А.Н. Толстой Новые материалы и исследования71995/72002/ и др.), телепрограммы («Алексей Толстой- советский граф»/канал «Россия», 17 августа 2005г./), которые рисуют новый, непривычный и для большинства незнакомый образ Толстого, неангажированно осваивая поэтику его творчества (романов, повестей, публицистических статей). В настоящее время предпринимаются попытки более глубокого осмысления собственно «эмигрантского» корпуса текстов Толстого берлинского периода - «Последний день поэта Санди», «Рукопись, найденная в мусоре под кроватью», «Аэлита» и некоторых др., которые отличаются наибольшей реминисцентностью и аллюзийностью. М.Н.Липовецкий, который указал на интенцию самооправдания в структуре «Золотого ключика», работы Е.Д.Толстой и М.И.Свердлова, статьи Л.П.Григорьевой вносят весьма значимые уточнения в понимание как контекста эмиграционной литературы и литературы
русского Серебряного века, так и в трактовку непосредственных проявлений той же поэтической специфики Толстого в берлинский период. Современные исследователи приходят к выводу, что «именно в эмиграции, в Париже и Берлине, А.Толстой завершил своё ученичество, осмыслив гениальное искусство и духовный подвиг А.Блока в статье «Падший ангел» /1922/, стал современным писателем, прячущим осознанную символическую картину мира под реалистическим повествованием» то, что М.А.Волошин и вслед за ним Е.Замятин назвали «неореализмом».
Литературовед, взявшийся в такой ситуации за исследование творчества Алексея Толстого, оказывается в двойственном положении. С одной стороны, литература (особенно русскоязычная), посвященная его творчеству, весьма обширна, хотя, с другой стороны, и не приобретает масштабов литературоведения об А.С. Пушкине и Л.Н.Толстом или англоязычной «мильтоновской интустрии» и потому вполне обозрима. Такая ситуация выглядит оптимальной для исследования на любую тему. С другой стороны, если критически оценить подавляющую часть предисловий, биографий и популярных литературоведческих комментариев Толстого, изданных за XX в., например, в издательствах «Детская литература» и «Просвещение» сотнями тысяч экземпляров, видно, что при всей добросовестности и порой незаурядности, с которыми написаны и составлены эти тексты, они дают намеренно упрощённое и (вследствие этого) неизбежно искажённое представление о фигуре писателя. Для рядового читателя и сегодня Толстой - автор в первую очередь «Аэлиты» и «Золотого ключика», произведений очень социалистических (что спорно), и «Петра Первого» - эпопеи о величии русского народа (что в целом верно). В общих чертах, хотя, конечно, с освещением нюансов, эта картина переносится и на литературоведение второй половины прошлого столетия. Так, роман «Аэлита», жанровые особенности которого, как и их значение для творческого замысла писателя, проанализированы в данной работе, обычно рассматривался в русском литературоведении XX в. как юношеский
фантастический роман о социалистической революции на Марсе. Следует отметить как феноменальную широкую читаемость «Аэлиты» в советский период при её пародийной нагруженности сложными смыслами, и подчеркнуть, что это следствие писательского мастерства Толстого, который, высказав всё, что желал, в имманентной форме романного прозаического иносказания, придал вдобавок тексту, используя популярность научной фантастики, формульный вид, годный для массового неподготовленного читателя. Более того, некоторые существенные художественные задания романа, например, лирическое, остаются реализованными и на этом уровне.
Однако, с учётом важной работы упомянутых выше современных исследователей, у диссертации есть опора для анализа собственно поэтики прозы Толстого, и при этом обнаруживаются её довольно сложные структуры, не замеченные ранее свойства, новые контексты. Многое в них связано с установкой на пародийность и самопародийность. Как отмечают некоторые авторы (Е.Толстая, Л.Григорьева и др.), пародизация является даже основной, «кодовой» чертой поэтики А.Толстого. Мотивация пародийности - не только в игровом начале как признаке толстовской поэтики, но и в продолжающейся длительное время зависимости А.Толстого от «знаковых» фигур эпохи, с которой ему предстояло расстаться. Именно пародийность прозы берлинского периода будет рассмотрена в
диссертации.
Данная работа, таким образом, приобретает актуальность уже в силу своего хронологического места в литературоведческих изысканиях. Сегодня возможен объективный взгляд на события и тексты, ещё два десятилетия назад имевшие такую тесную связь с политической ситуацией того времени, что сам факт написания статьи, скажем, об Алексее Толстом, уже был публицистическим жестом. Проблема пародии, в свою очередь, хоть и была рассмотрена такими авторитетными литературоведами, как Бахтин и Тынянов, теоретически разработана, как всеми признано, ещё не достаточно глубоко. Методологически в
диссертации учитывается теоретическая разработка пародии в русском литературоведении раннего XX в. Тынянов вводит функциональное различие между пародийностью и пародийностью — употреблениями пародических форм в пародийной или непародийной функции. По его словам, «пародичность и пародийность влияют также и на жанровые структуры. Так, например, ясно, что для перевода явления одной системы в другую (пародийность) — вовсе незачем целиком сохранять и объем произведения, достаточно дать знак жанра, в который включен знак другой системы. Поэтому, например, пародии, направленные на большую форму (напр., пушкинскую поэму), — обыкновенно даются в форме фрагментов (ср. пародии Полевого). Между тем пародичность — т.е. применение пародических приемов вне пародической функции — может быть свойством любой широко развитой формы»1. Помимо разрушающей свой объект смехом и унижающей его пародии мы - вслед за Тыняновым - различаем также изучающую пародичность. Холодная, отчасти смеховая, как и пародия, она имеет целью не отвержение, а постижение подражанием. При анализе произведений Толстого видно, что употребление им пародических форм очень сложно и направлено на достижение самых разных художественных целей. Актуальность диссертационного исследования, таким образом, определяется как недостаточной изученностью глубинного слоя поэтики произведений Толстого вообще и берлинского периода в частности, а также недостаточной точностью понимания берлинского периода творчества Толстого в современном литературоведении. Эта ситуация сложилась объективно в результате резкой политизации всех идейных и культурных явлений, связанных с русской революцией, и здесь не имеется в виду недостаточная квалификация предшествующих авторов, писавших о Толстом берлинского периода. Следовательно, научная новизна заключается уже в выборе проблемного поля для исследования, на котором наиболее актуальна дальнейшая разработка рецепции А.Толстым эпохи Серебряного века. Мы также связываем
1 Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 309.
научную новизну с углом зрения, под которым рассмотрен материал, а именно наблюдением и осмыслением пародичности и пародийности творчества Толстого, которые особенно сильно проявляются в эти переломные для его эволюции годы, что потребовало выработки, на основе изучения теории пародии, собственного методического подхода, позволяющего усмотрение пародических и пародийно-иронических обертонов на уровне не только тематически-идейных и образных рядов, но таюке на уровне мотива, словесной игры, поэтической реминисценции и аллюзии.
Формулировка темы диссертационного исследования и стоящая за нею выработка теоретического угла зрения на художественные тексты, а именно пародического, оказывается неразрывно связана с непростой судьбой Толстого как писателя и как человека. История меняет мировоззрение человека; если это индивид, непричастный художественному творчеству, энергия такой перемены оформляется в поступке, в практической деятельности. Если же переформируется мировоззрение писателя, творца, - он создаёт новые поэтические приёмы в процессе выработки новой концепции мира. В ситуации, когда история заставляет художника переоценить свои прежние воззрения и заново расставить приоритеты, произведения, бывшие для него ориентирами, а также его собственные творения становятся объектом пародии.
В работе мы ставим своей целью прояснить сущность пародии и пародийности как неотъемлемой части любого литературного процесса, а также особенно важной роли пародийности в произведениях Толстого во время напряжённого духовного и творческого поиска, когда сомнению подвергаются неоспоримые раньше концепции и происходит становление его как зрелого писателя, пришедшего в конечном счёте к эпическому в литературе. На пути к такой цели задачами, подлежащими решению, становятся: овладение полнотой литературных фактов, имеющих непосредственное отношение к творчеству Толстого берлинского периода; предварительная концептуализация пародийной
сущности важнейших текстов периода; на основе такой гипотетической концепуализации центральной задачей диссертации ставится корректный анализ текстов «Аэлиты» и примыкающих к ней повестей на основе пристального чтения и с максимально возможным для нас по глубине усмотрением пародийности во всех слоях текста, но особенно в поэтико-языковом; сопоставление полученных данных с суждениями других исследователей, писавших об этих текстах; формулировка возможных на основании такой работы выводов.
Отдельно будет рассматриваться роман «Аэлита», принимающий форму авантюрно-приключенческого жанрового массового произведения и являющийся на деле интеллектуальным романом, чья организация лишь усложняется на первый взгляд примитивной формой. Именно пародия (и - на более глубоком уровне — пародичность) лежат в основе художественного метода Алексея Толстого; особенно ярко это видно на примере произведений, написанных Толстым в эмиграционный и постэмиграционный периоды его творчества (повести и рассказы «Рукопись, найденная под кроватью», «На острове Халки», «Убийство Антуана Риво», «Похождения Невзорова, или Ибикус», романы «Аэлита» и «Гиперболоид инженера Гарина»). Представляется, что именно эта постановка вопроса позволяет получить представления о поэтике всех послеэмиграционных произведениях Толстого как метатексте. Кроме того, исследование этого ключевого периода творческой биографии писателя может представить в новом свете более поздние его произведения, в том числе хрестоматийный роман-эпопею «Пётр Первый», и пролить свет на такие феномены, как отношение общеизвестного «Золотого ключика» к своему итальянскому первоисточнику.
Материалы исследования могут быть использованы также в преподавании литературоведческих дисциплин, спецкурсов по истории русской литературы XX века, литературе Русского Зарубежья, при создании пособий по аналитическому чтению, пособий по творчеству А.Н.Толстого для иностранных учащихся.
Пародийность и пародийность
Исследование пародии в зрелом творчестве Толстого предполагает как можно более чёткую постановку проблемы пародии. Для этого есть две причины: сложность пародии как теоретического понятия и жанровая специфика толстовского берлинского периода, в котором присущая роману внутренняя пародичность окрашивает все жанровые опыты писателя.
Обратившись к популярному литературоведческому словарю за общеупотребимым определением нашего предмета, молено прочесть, что пародия - это «жанр литературно-художественной имитации, подражание стилю отдельного произведения, автора, литературного направления, жанра с целью его осмеяния» .
При несколько более углублённом изучении вопроса подобная ясность исчезает. Выясняется, что пародия представляет собой одно из самых спорных понятий в теории литературы. Её активно изучают теоретики, но эта область по-прежнему «темная»: специфика пародийного высказывания для современной науки неясна, по мнению большинства современных исследователей проблемы. Даже деление жанровой пародии на бурлеск и травестию не вполне общепринято. Существуют несколько версий происхождения пародии на древнегреческой почве; проблема пародичности вовлекает исследование в философско-культурологическую проблему игры в человеческой деятельности и познании; неясны границы между пародией и иронией, пародией и стилизацией, между пародией и литературной критикой, и вообще встаёт проблема соотношения понятия пародии и понятия жанра. Несомненно, чтобы разобраться в тонкостях непрямого высказывания в романных и глубоко романизованных текстах Толстого 20-х г.г., следует возможно более точно наметить рабочее определение пародийности в них. В данном разделе работы будут с этой целью рассмотрены основные возможности применения термина «пародия» в современном русском литературоведении: в связи с теорией игры, в связи с авторитетнейшими в XX в. теориями пародии М.М.Бахтина и Ю.Н.Тынянова, а также некоторые конкретные суждения современных исследователей по вопросам разграничения пародии, вариации, стилизации литературной критики.
В современных работах по классической филологии различаются пародия, в целом, как литературный механизм совмещения резко противоположных смысло-стилистических планов; пародия как собственно комический приём; пародия как комический прием, при этом конструирующий новое произведение, и пародия как метод литературной критики. Представляется, что данный опыт исследований имеет очень большую теоретическую ценность. Особенно важно было бы осмыслить глубинную связь пародийности с ритуалом, внутри которого исполнитель и слушатель-зритель были неразрывно связаны смыслом общего действа и притом действа, имеющего жизненно-практический смысл. Осмысляя опыт современной филологии в изучении пародии на древнегреческой почве, следует иметь в виду такие важные аспекты: многообразие явлений и их функций, которые традиционно наименовываются в совокупности пародией; тонкость смыслоразличения при их рассмотрении и разделении; связь пародии с жизненно важным, жизнепорождающим ритуалом; связь, вследствие этого, пародии с игрой, свободой и порождением нового; связь, вследствие этого последнего, пародии со смехом как выражением свободы («ненаправленным», не-сатирическим смехом); далее, принципиальную двуплановость пародии, роднящую её некоторым образом с символико-аллегорической поэтикой; принципиальной связи пародийной поэтики с рефлексивностью литературы, с её самоосмыслением и самооценкой, т.е. с литературной критикой.
Следует сказать, что достижения на этом пути, по-видимому, ещё впереди, т.к. даже у очень крупных исследователей есть тенденция упрощать и минимизировать проблему пародии и пародийности, либо сводя её к узкожанровой, либо усматривая в ней в первую очередь орудие литературной критики. Столь тонкий литературовед, как Ю.М. Лотман, например, пародию характеризовал так: «Пародия никогда не может выступать как центральный художественный жанр и не она начинает борьбу со штампами. Для того чтобы пародия могла быть воспринята во всей своей художественной полноте, необходимо, чтобы в литературе уже существовали и были известны читателю произведения, которые, разрушая эстетику штампа, противопоставляли бы ей структуру большей истинности, более правильно моделирующие действительность» .
Подобная иерархизация «структур» большей или меньшей истинности, которые бы то более, то менее правильно «моделировали» бы действительность в литературе, как представляется, отдаляют нас от тех теоретических перспектив осмысления пародии как эстетического явления, которые так многообещающе открывались в исследованиях по классической филологии и были связаны с принципиальностью функции отражения, необязательностью комического эффекта и вообще с гносеологическими корнями в пародии. Редукционизм подобного же рода есть даже в очень ценных и полезных монографиях, посвященных пародии как жанру .
Задачи диссертации не позволяют, отклоняясь от основной темы, разрабатывать общеэстетическую проблематику, связанную с пародией в целом: сущности комического, подражания, понятия сатиры и юмора, иронии и гротеска в целом; но непосредственно связанные с пародией вопросы будут кратко освещены ниже. Таковы уже упомянутые: роль игры в искусстве и литературе, игровой аспект в пародийности; вопрос о связи между пародией и иронией; разграничение пародии, стилизации, реминисценции; кроме того, встаёт проблема соотношения пародии как жанра и пародийности внутри других жанров. Соотношение пародии с такой жанровой областью, как литературная критика, уже кратко охарактеризовано.
Из указанного ряда теоретических понятий, непосредственно связанных с пародией, наиболее общим является понятие игры, которое по сути является философско-культурологической концепцией, весьма важной для мысли XX в., как это было показано в упомянутом выше в связи с «витальной» функцией пародии знаменитом трактате Й. Хейзинги «Homo ludens» ещё в 30-е г.г1.
В литературоведении представление о творческом акте как о чистом, незаинтересованном и радостном проявлении некоей серьёзной игры смыкалось с общей концепцией искусства в модернизме, наиболее ярко, как кажется - в английском эстетизме; но в целом концепция игрового начала в искусстве имела значительно более многообразные проявления: по контрасту назовём ранние советские социопоэтики, например, В. Переверзева. Новый стимул концепция искусства как игры, литературы как чистого игрового акта получила в конце века под воздействием постмодернистских тенденций.
Анализ романа «Аэлита»
Роман «Аэлита» представляет собой одновременно существенный факт русской рецепции эмигрантского творчества писателя и важнейшую веху его творческого становления как романиста, идеолога и художественного критика.
Сложность восприятия романа в России на разных исторических этапах отчасти связана с переработкой писателем первоначального текста романа 1922 -23 годов для советских переизданий. Легко предположить, что именно переработка Толстым романа внесла в него основные пародийные моменты, связанные с двойной позицией художника, вернувшегося на Родину из любви к ней, но не к большевикам, - но прочтение первого варианта романа на необходимом уровне глубины показывает, что пародичность носит внутренний, идейно-эстетический, порой лирически-субъективный характер. Вопрос о направлении редактирования романа автором для советского издательства, требующий отдельного рассмотрения и не связанный прямо с глубинным творческим процессом, породившим «Аэлиту», остаётся за рамками нашего исследования. Он важен для общей картины пародийности в романе, но во вторую очередь. Для анализа в этом разделе диссертации взят первоначальный текст романа.1
Значительно важнее та «первичная» пародичность, которая органично присуща порождению романного текста вообще.
Роман, по своей жанровой сущности способный служить средством художественного исследования, сближать далёкие друг от друга концепции, пародийно отражая их друг в друге, является мощным гносеологическим орудием для художника слова, и особенно в той ситуации острейшего идейного и духовного поиска, в которой находился Толстой накануне возвращения в Россию из эмиграции. Сопоставление текста романа с публицистикой и художественной критикой писателя начала 20-х годов («Перед картинами Судейкина», «Открытое письмо Н.В. Чайковскому». «Письмо Андрею Соболю», «О новой литературе», «Россия Григорьева» и др.) показывает как идейно-художественное единство этого корпуса единовременных текстов, так и принципиальную разницу в постановке вопросов и в проблематике в целом. На фоне однозначности и тематической изолированности высказываний в публицистике ярче видна тонкость диалектического хода мысли в «Аэлите», неразрывно связанная с пародичностью романного жанра. Изучение внутренних жанровых механизмов «Аэлиты», прежде всего пародичности, позволило бы лучше понять как собственно идейный поиск автора, так и его включённость в напряжённую работу над новыми формами романной поэтики, имеющую в 20-е годы общеевропейский масштаб - достаточно упомянуть, что фактически одновременно с «Аэлитой» выходит «Улисс» Джойса. Если по влиятельности на литературный процесс и художественным достижениям в целом эти романы сопоставлять и некорректно, то по степени пародичности, по особенной свободе её использования это вполне возможно.
Вопрос о жанровых особенностях романа «Аэлита» чрезвычайно важен в свете поставленного вопроса о характере пародичности. Является ли роман «фантастическим или «научно-фантастическим», или «социально-фантастическим», приближается ли он к «социальному реализму» или является неудачной вариацией авантюрного повествования на революционную тематику, - всё это обсуждалось довольно обстоятельно , но удовлетворительной точности определения достигнуто не было. Самая суть романного жанра, велящая ему быть исследованием и проблемой, а не констатацией и системой, протестует против ограничений указанного выше свойства. Несомненно, любое определение кладёт пределы называемому явлению, но в данном случае ни выдвижение фантастического - у Толстого чистого приёма - в первый ряд дефиниции, ни попытки определить степень «социальности» не подходят к сути дела. Нет сомнения, что Толстой был увлечён «фантастической» жанровой оболочкой своей книги, ему вообще нравилась позиция писателя, любимого читателем за занимательность, автора «романа с замками, подземельями и привидениями»2.
Он с увлечением отдаёт некую - периферийную, небольшую - долю писательского внимания футурологическому аспекту «уэллсовского» романа. Он, например, обнаружил высокую проницательность в предсказании некоторых социально-психологических и чисто научно-технических (писатель получил образование в Петербургском Политехническом Институте) новшеств, которые вошли в XX веке в жизнь в форме «марсианских» общественных проявлений. Таковы, например, наркотики. Массовое вдыхание «драгоценного» дыма хавры всеми марсианами - часть механизма управления обществом (эксплуатация этой находки Толстого идёт во многих советских фантастических произведениях, например, у Стругацких в «Парне из преисподней»). Огромная роль плантаторов, владельцев полей хавры, в революции на стороне Тускуба - также проницательное предсказание роли наркоторговли в современном мире. Писатель ставит проблему управляемости социальными движениями вообще и революциями в частности, просчитываемости социальных движений, возможности полезной для власти управляемой провокации: «Тускуб умен и вероломен. Он нарочно вызвал все эти события, — чтобы навсегда раздавить остатки сопротивления», - догадывается Гор («Поворот событий»)1.
Такова же идея «Золотого миллиарда», счастья для избранных при обречённости остальных: Тускуб мечтает о золотом веке, он хочет открыть последнюю эпоху Марса — золотой век. «Избранные войдут в него, только достойные блаженства... жажда равенства и всеобщая справедливость — разрушают высшие достижения цивилизации» («Поворот событий», №2, стр.38). Предсказана мрачная , осуществленная в Юго-Восточной Азии в конце XX века идея переселения городского населения в деревни на «перевоспитание» («Тускуб» №1,стр.73). Писатель-инженер догадывался о роли понятия «цифры» в технике будущего - у него появляется некая «цифровая доска» в роли компьютера или центра управления. Как инженер, он оценил «яйцеобразную» форму космического аппарата, взятую у Циолковского, но приспособленную к собственным эстетическим внутрироманным целям; а также общение по компьютеру с применением видео, мобильную связь и кое-что другое. Всё это делает книгу интересной — правда, по-иному, нежели для её первых читателей, - но совершенно не определяет её сути.
Более того, можно констатировать едва ли не отрицательное отношение к научно-техническому прогрессу как таковому. Так, тонкая ирония имплицитна описанию марсианина - не то пилота аэроплана, не то английского спортсмена: «Голова марсианина в шапке — яйцом, с длинным козырьком. На глазах — очки. Лицо — кирпичного цвета, узкое, сморщенное, с острым носом. Он разевал большой рот и кричал что-то. ... одет в тёмную, широкую куртку. Сухие ноги его, выше колен, прикрыты плетёными гетрами» («Марс», №6,стр.125). Носитель «марсианского», т.е. далеко ушедшего технического прогресса - тот же малосимпатичный субъект в гетрах и шлеме, какими на Земле были английские и немецкие лётчики Первой мировой, например. Добавим, что умирающим и исполненным насилия и репрессий общества Марса управляет не кто-нибудь, а инженеры - «Верховный Совет Инженеров, — высший орган управления всеми странами Марса» («Соацера», №6, стр.140).
Повесть «Рукопись, найденная под кроватью»
Центральной место в этой группе текстов малой прозы принадлежит «Рукописи, найденной под кроватью» (1923 г.) и «Ибикусу» (1924). Последняя представляет собой своего рода свод, тематический центр всех произведений об эмиграции этого периода, что касается «Рукописи...», то эта повесть, которую автор назвал «наиболее из всех ... значительной по тематике»1, выделяется необыкновенным богатством поэтических средств, в том числе пародийных и пародических, широтой идейного контекста, в котором работает пародийно настроенное авторское сознание, и, кроме того, повесть отличается радикальностью и глубиной осмысления проблемы человека, выброшенного историей из человеческой нормы. Повесть обнаруживает склонность Толстого к историософскому анализу и понимание им раннего экзистенциализма. В ней же можно видеть точно поставленную эстетическую проблематику: обсуждается литературное творчество как познание и как личное спасение, ставится вопрос об авторе как человеческой личности в истории и авторе как безличной, божественной инстанции духовного проникновения в истину («рукописи») . Инструментами же авторского анализа и, в огромной степени, самоанализа, является игра смыслов, пародирование и ирония. Представляется, что текст повести «Рукопись, найденной под кроватью» по богатству представленных смыслов, объединяющих другие повести этого времени («На острове Халки», «Убийство Антуана Риво», «Чёрная пятница», «Мираж», «В снегах», «Похождения Невзорова, или Ибикус»), является наиболее целесообразным объектом внимания. Очень важен также поздний и обобщающий эмиграционную проблематику текст «Ибикуса». Для пристального чтения будет избран текст повести «Рукопись...», в необходимых случаях будут проведены параллели с тестами других произведений берлинского периода.
Сложные, в том числе собственно пародийные отношения с предшествующей традицией выстраиваются в повести «Рукопись, найденная под кроватью», на разных уровнях художественной системы: на уровне паратекста1, который выводит на жанрово-топическую традицию; на уровне нарратологии, вопрос о которой был впервые корректно поставлен в давней статье Л.П. Григорьевой2, на уровне героя, сюжетно-тематического мотива, но особенно действенно - на поэтико-языковом уровне: антропонимики, ритмо-лексических образований. Осуществляется очень тонкий вид пародичности на уровне мотивных структур. Те мотивы, которые в поэзии Серебряного века имеют одно звучание, в повестях Толстого 20-х годов приобретают другое. Это видно лишь читателю, хорошо знакомому с претекстами, с источниками Толстого. Важно, что более всего пародируется собственное литературное сознание автора, из которого он вырос, его же собственные прежние вкусы, жанры, эстетические предпочтения.
Прежде всего рассмотрим паратекст повести, к которому отнесём её яркое название, менявшееся автором при публикациях, что показывает важность этого элемента паратекста («Рукопись, найденная среди мусора под кроватью» в журнальной публикации 1923г., и («Рукопись, найденная под кроватью» 1924г.). Обеспечение господства пародичности на уровне паратекста происходит отсылкой к топосу, общему месту в длительной литературной традиции: рукопись, найденной где-либо её публикатором, оказывается в его распоряжении, прочитывается, комментируется, иногда дописывается и публикуется. Эта большая традиция мотивирует само существование текста. Её формы, сложившиеся за долгое время, могут быть разными: от простой литературно- бытовой мистификации (стихи, якобы висевшие на ветвях дерева или приплывшие в бутылке по водам реки), до изысканной игры этим приёмом у мастеров современной прозы. Так, например, новелла «Рукопись, найденная в кармане» Хулио Кортасара лишь названием сообщает читателю, что герой покончил с собой, бросившись под поезд метро, то есть паратекст берёт на себя огромную смысловую нагрузку. Повесть Толстого входит в эту традицию и пользуется её пародийным потенциалом; который тем больше, чем традиция старше. В данном случае она огромна. Рукопись, найденная «среди мусора» молчаливым публикатором, который от себя говорит почти одно только название, помещается для читателя, таким образом, на фоне множества других «найденных» рукописей, известных литературе. Тем обеспечивается непроизвольно возникающий пародийный фон, главным образом фон авантюрно-приключенческой и старой классической литературы.
Заметим, что якобы-нахождение рукописи (автором её текста, реальным писателем) есть, кроме того, момент, глубоко личный, касающийся собственно отношений автора со своим текстом, который он хотел бы таким образом от себя оторвать, отчуждаясь от него. Всякий раз в таких случаях встаёт вопрос о том, что именно отчуждает от себя автор, зачем ему столь сложная система слоев, отчуждающих текст от автора, порывающих видимые связи между ним и его пером. Надо полагать, что «Рукопись...», повесть 1923 года, оформлена подобным образом не только для увеличения собственно творческих возможностей, например пародийной свободы, но и вследствие личного, почти исповедального момента, который в ней присутствует. Автор - русский эмигрант во Франции, переживший подлинную катастрофу своего сознания, не говоря уже о бытовой и социально-экономической жизненной катастрофе; он видит себя со стороны, он отчуждает, преувеличивая до карикатуры, а затем беспристрастно анализирует и свои, и чужие страхи и проблемы, наконец, убивает отжитое и отчуждённое в теперь ненужном герое. От трагедии героя остаётся только рукопись. Таким образом тот, кто был героем повести, смог преодолеть его, героя, страшную «внутриповествовательную» жизнь, сумел, написав об этом повесть, стать из героя-объекта субъектом-автором. Исчезновение в публикации 1924 г. снижающего «среди мусора» может быть вызвано как раз тем, что Толстой за прошедший с марта 1923 г., которым датирована повесть, окончательно пережил болезненный период, смог снять слишком эмоциональный штрих, выдающий личное отношение к художественному миру.
Повесть «Убийство Антуана Риво»
Как верно указывал Д.Д. Николаев1, А.Н. Толстой в своих историософских поисках был сосредоточен на проблеме человека - это она его особенно волновала и мучила, а не абстрактные картины мирового движения и судеб всего человеческого рода. Сущность человеческого естества, которую можно уловить лишь на границе жизни и смерти, в поступках, приводящих на эту границу и нарушающих её - это, пожалуй, и есть то, что становится центром внимания писателя в повести « Убийство Антуана Риво», примыкающей к повестям «Ибикус» и «Рукопись, найденная под кроватью». Повести датированы автором в 1923 году так: март - «Рукопись...», сентябрь - «Убийство Антуана Риво». Полная публикация «Ибикуса» относится уже к 1924 г., таким образом, работа, в сущности, над тремя текстами шла одновременно, или перемежаясь, или очень близко по времени друг относительно друга. Не удивительна связь их на уровне проблематики и образных рядов. «Нет разума в истории, бытие - бессмысленный и кровавый хаос...вечно разрушаемый муравейник. История разумна, - великая радость осмысленности, вечный пафос жизни, торжественность ежечасно приносимой жертвы. Пятьдесят процентов за разум, пятьдесят за бессмысленность. Дело выбора». цитирует Д.Д.Николаев слова писателя из найденной им малоизвестной газетной статьи1
Это высказывание Толстого служит удачно найденной исследователем эксплицитной параллелью к тому смыслу, который имплицитно содержится как во всех эмигрантских текстах, так и в повести об убийстве и убийце - «Убийстве Антуана Риво».
Повесть проще по поэтике, исключающей литературно-пародийный фон, её проблематика сосредоточена на заурядном человеке, которого история ставит на бытийную границу жизни и смерти, делает убийцей (и, вполне возможно, убитым). Эту повесть можно считать несколько упрощённой параллелью к «Рукописи...», но упрощение поэтики делает возможным укрупнение важнейшего объекта художественного исследования - человека в истории, делающего выбор между жизнью и смертью. Человек при этом и страшен, и жалок, непредсказуем и одновременно животно примитивен. Главное же — у него появляется лёгкость преступания границ, приобретённая опытом недозволенного и немыслимого.
Подобно тому, как Семён Иванович Невзоров из «Ибикуса» «приобрёл лёгкость, осторожность в разведке, хватку в решении» и считал себя «новым человеком» среди «дураков с невентилируемыми мозгами, набитыми трухой предрассудков о дозволенном и недозволенном» (340), Мишель из «Убийства Антуана Риво» - это тот самый «новый» послевоенный и послереволюционный человек, который так интересует писателя. Невзорову революция «выела мозги» (477), а в «Убийстве...» простой случай послевоенного человека Мишеля Риво диагностируется так: «Война испортила человеческий механизм» (356).
Поскольку речь идёт о главном тезисе, здесь на поверхность текста выходит непосредственно авторское слово, что у Толстого бывает редко, и всегда связано с игрой и пародийностью. Цитата, начатая выше, продолжается так: «... Стоит хаос, как после тайфуна. Революции! Какой запоздалый романтизм! Игра для детей среднего возраста! Коммунисты, фашисты... Ку-клукс-клан. Скучно. Жизнь потеряла магнетическую силу. Война убила вкус: девчонки стали холодны, как рыбы, вино - кисло, в кабаках зеваешь до слез. Перестали даже писать занимательные книги. А? Вы не следите за литературой? Единственное учреждение, которое еще на высоте, это - полиция. От всей великой культуры остались полицейские корпуса. Говорят еще - идет новая сила: это концерны тяжелой промышленности. Они захватывают жизнь по вертикали. Но это пахнет социализмом наизнанку. Здесь нам, последним индивидуалистам, рыцарям маски и потайного фонаря, делать нечего»(356). Автор этих слов, формально персонаж, -умный вор. Но для вора, даже самого высокого полёта, он подозрительно широко мыслит, точно формулирует, много знает, блестяще выражает мысль, «следит за литературой» и, по выражению представляющей его проститутки, «знаменит как Виктор Гюго» (355). В этом пассаже, как бы походя включённом в сюжет об убийстве, так резко сгущены интеллектуальные смыслы, актуальные для писателя, так много указаний на литературу и литератора-человека, вынужденного наблюдать трагедию истории, что есть возможность предположить, что перед нами литературно-игровой выход писателя в прямую публицистичность, прямое публичное высказывание, прикрытое иронией (писатель в таком случае, как и вор - «последний индивидуалист, рыцарь маски и потайного фонаря» (355). Фигура литератора, действительно причастного игре, маске, иллюзии пародийно отражена в «схожей» фигуре вора - оба манипулируют сознанием и жизнью других, сильны, презрительно непричастны обыденности, отстранённо наблюдают течение времени. В этой странной пародийности много горечи; возможно, почти отчаянного желания смехом, игрой вытеснить страх перед кровью и ужасом истории.
Однако в данной повести это единственный случай работы пародийности на границе текста и паратекста. Повесть разрабатывает несколько устойчивых образных рядов и мотивов, почти всегда совпадающих с теми, которые молено наблюдать в «Ибикусе», «Рукописи...».