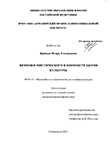Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Философско-методологические и философско культурологические парадигмы «террористического насилия» 14
1.1. Феноменология террористического насилия: деструкция насилия или деструктивное насилие? 14
1.2. Культурогенез человеческой агрессии и антропологические метаморфозы насилия 29
Глава 2. Культурные практики насилия и «человек террористический»: философско-антропологические смыслы 53
2.1. Революционное насилие и террор: деструкция политического пространства бытия человека 53
2.2. Военное насилие и прагматика терроризма: антропология деструктивного насилия 78
2.3. Формы насилия и культурно-историческая типология терроризма 100
Заключение 120
Библиография 126
- Феноменология террористического насилия: деструкция насилия или деструктивное насилие?
- Революционное насилие и террор: деструкция политического пространства бытия человека
- Военное насилие и прагматика терроризма: антропология деструктивного насилия
- Формы насилия и культурно-историческая типология терроризма
Введение к работе
Актуальность исследования. В настоящее время можно говорить о том, что если насилие является в определенной степени «вечным спутником» бытия человека, то терроризм стал одним из симптомов болезни современной общечеловеческой цивилизации, ее отрицательным маркером, свидетельством необходимости остановки человечества в погоне за самоутверждением перед лицом Бога и природы, перед самим собой. При этом, кажется, что сама история скрывает такие следы пребывания насилия и терроризма в прошлом, мифологизируя их под различными именами вроде «власти», «господства», «войн» и «революций». Только сегодня насилие и терроризм предстают перед нами как бы в «чистом виде», и это предоставляет нам возможность их изучить и в перспективе, если не исключить, то управлять «потоками» насилия и терроризма. В свою очередь это означает не только понять терроризм в качестве самостоятельного феномена во всей его специфичности и отличии от других форм насилия, но также проследить все глубины взаимосвязи насилия и терроризма с культурой и живым человеком, с практиками и технологиями контроля терроризма и локализации всех форм насилия.
Таким образом, мы имеем актуальную проблему глобального масштаба, требующую своего решения, причем такого рода, что сама наша повседневность сигнализирует о необходимости всесторонней рефлексии проблемной ситуации. Чувство опасности и страха за свою жизнь нередко препятствует осмыслению проблемы, но может также дать ключ к ее решению, который кроется в выявлении взаимосвязей между терроризмом и насилием, погружением их в широкую культурно-историческую перспективу и нахождения антропологических оснований исследуемых явлений.
Нам, миру в целом важно изучить эффекты взаимополагания и взаимопревращения насилия и терроризма, которые являются своеобразным ключом к целому ряду других проблем, связаны с диалектикой
взаимодействия культур, наций и этносов, диалогом религий и сообществ, а
также с пониманием самого статуса человека в пространстве истории и современности.
Степень разработанности. Взятая сама по себе проблема насилия и терроризма в современном его понимании имеет не столь давнюю историю, однако, наш интерес к проблеме взаимодействия, взаимоотношения насилия и терроризма открывает возможности и перспективы поиска таких связей в ранней истории человеческой мысли. Уже в античной философской мысли в работах Гераклита, Сократа, Платона и Аристотеля мы находим постановку проблем насилия, вражды, господства и власти, их понимания и контроля в обществе и государстве. Римская философия ставит проблему насилия и смерти в природно-экзистенциальной плоскости осмысления человеком самого себя, а также в соотношении с нравственной категорий должного и необходимого. В эпоху средневековья насилие приобретает религиозные смыслы в работах Аврелия Августина, Фомы Аквинского, Пьера Абеляра, рассматривавших насилие как зло и грех в моральной перспективе.
Правовые аспекты применения насилия, соотношение насилия частного и государственного, насилия и оснований государственности в философии эпохи Возрождения и новоевропейской философии были выявлены Н. Макиавелли, Т. Мором, Т. Гоббсом, Ж.-Ж. Руссо. И практически в это же время происходит рефлексия насилия в его связи с революцией и террором, вызванная чередой буржуазных революций в Европе. Особенно заметный вклад не только в научное осмысление взаимосвязи революции и терроризма, но и примеры идеологического обоснования такого насилия мы находим у деятелей Французской революции 1791-1794 гг. Террор как специфическая политика государства в условиях чрезвычайного положения и террор как инструмент «народной воли» предстает в текстах и практиках М. Робеспьера, Сен-Жюста, Дантона. Отметим, что обратной стороной этой «линии» в репрезентации революции была консервативная политика, которая, впрочем, сходилась с
революционной в признании насилия в качестве политической «технологии»
и установлении связи терроризма и революции, представленная работами Э. Берка, А. де Токвиля. В целом такое понимание насилия и терроризма наследуется немецкой классической философией и философией марксизма, продолжающейся в многочисленных трудах теоретиков и практиков революции в лице М. Бакунина, О. Бланка, Л. Гумпловича, А. Грамши, К. Маркса, В. Ленина, Г. Маркузе, Б. Савинкова, Ж. Сореля, П. Ткачева, Ф. Энгельса, Э. Че Гевары и других «практиков» и теоретиков революционного насилия и террора, которые связывали эти феномены с завоеванием и удержанием власти и освобождением «народа» или «пролетариата».
Отметим, что наряду с апологией революционного насилия и террора в качестве «инструмента» политики и формы власти, зарождается теория войны в современном ее понимании как регулярных насильственных действий для достижения политических целей и «интересов» национальных государств. Человеком, определившим на долгие годы представления о войне, был К. фон Клаузевиц. Его идеи послужат основой для размышлений и окажут влияние на К. Шмитта, Р. Арона, Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, А.Е. Снесарева и других авторов.
В собственно социально-гуманитарном дискурсе понятие насилия рассматривалось в работах Г. Спенсера, М. Вебера, Г. Моски, Э. Канетти. Идею насилия как универсального атрибута человеческой «природы» отстаивали представители социобиологии и ряд мыслителей: Л. Берковец, К. Лоренц, З.Фрейд, Э. Фромм и другие. Онтологические и философско-антропологические подходы к исследованию проблемы насилия и терроризма представлены в работах в работах Г. Маркузе, X. Ортеги-и-Гассета, А. Рапопорта, Ж.П. Сартра, К. Ясперса, А. Кожева. Преимущественно социологическая интерпретация насилия, связывающая его причины с социальными процессами, присутствует в трудах и идеях таких ученых и философов, как Ж. Батай, 3. Бауман, П. Бурдье, М. Вебер, Э. Гидденс, Р. Жирар, Р. Кайуа, М. Мосс, С. Московичи, М. Фуко.
Революционное насилие и террор с одной стороны, а также деградация классической войны в тотальную трансформировались в XX веке в формы тоталитарного террора, что позволяет нам рассматривать взаимосвязь терроризма и насилия в контексте проблематики тоталитаризма в работах Э.Фромма, К. Поппера, X. Арендт, Р.Н. Арона, Ф.А. Хайека, 3. Бжезинского, которые дали нам широкую феноменологию тоталитарного насилия. Среди работ отечественных авторов, посвященных данной проблеме, мы опирались на труды А.С. Ахиезера, КС. Гаджиева, Н.В. Загладина, Ю.И. Игрицкого, В.М. Катукова, А.А. Кара-Мурзы, М.П. Одесского, А.С. Панарина, В.А. Подороги, В.П. Римского, Д.М. Фельдмана и других.
К парадоксам этики насилия и террора обращались многие русские мыслители - Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, а также современные отечественные (А. Гусейнов, Ю. Давыдов, В. Степин, А. Скрипник, В. Бочаров, Р. Апресян, Т. Степанянц, В. Лекторский и другие) и зарубежные ученые и философы (А. Бадью, Дж. Агамбен, М. Терещенко).
Современные исследования терроризма представлены специальными работами Ю.И. Авдеева, А. Бернгарда, И.М. Ильинского, В.Н. Кудрявцева, Б.С. Крылова, Д. Лонга, В.В. Лунева, В. Маллисона, С. Маллисона, В. Петрищева, Ю.С. Ромашева, Б. Хоффмана, В.В. Никитаева. Взаимосвязь терроризма с войной и понимание его как специфической формы военного насилия мы находим в работах X. Хофмайстера, М. Либига, Ф. А. Фрайхер фон дер Хейдте, П. А. Шерера, Д. Стерлинга, Л. Ларуша.
Психологические аспекты взаимосвязи насилия и терроризма находят свое отражение в работах Ж. Лакана, С. Жижека, Д.В. Ольшанского, Ю.М. Антоняна, М. Коупленда, Ч. Руби. Исследования терроризма сопряжены с национальной, религиозной, этнической спецификой в работах И.П. Добаева, Н.В. Жданова, А.А. Игнатенко, Р.Г. Ланды, А.В. Малашенко, Л. Сюкияйнена, М.Т. Степанянц, СИ. Чудинова, Ф. Бенслама, А. Парфрея, М. Палмер, Дж. Эспозито, Б. Льюиса и других авторов. Исследованиям глобального или
транснационального и транскультурного терроризма посвящены работы М.
Сейджмана, М.П. Требина, Е.П. Кожушко, СУ. Дикаева, В.Я. Кикотя, Н.Д. Эриашвили. Проблемы религиозного экстремизма, рассмотрены в исследованиях Ю.И. Авдеева, Г.Т. Аллисона, КН. Бурханова, А.И.Гушера, Ю.С. Горбунова, А.В. Дмитриева, И.П. Добаева, СВ. Дьякова, СМ. Ермакова, К.В. Жаринова, Н.В. Жданова, И.Ю.Залысина, О.В.Зотова, Ю. Иванича, А. Игнатенко, А.В. Коровникова, Р. Ланда, С.А. Ланцова, Н.Б.Лебедевой, З.И. Левина, Е.Г.Ляхова, А.В. Малашенко, Л.И. Медведко, Г.И. Мирского, Л.А. Моджаряна, Б. Миркасымова, В.Е.Петрищева, В.Н. Пластуна, Л.Р.Полонской, Л.Р. Сюкияйнена и других.
Итак, анализ разработанности проблемы показал, что сам дискурс насилия и терроризма в их взаимном притяжении и отталкивании конструирует новое исследовательское поле, которое открывает актуальные возможности и перспективы философско-культурологической и философско-антропологической методологических установок в интерпретации и понимании взаимодействия насилия и терроризма.
Объект исследования - феномены насилия и терроризма в культуре.
Предмет исследования - взаимополагание феноменов насилия и терроризма в культуре и их соотнесенность с бытием человека.
Цель диссертационного исследования - философско-антропологическое понимание террористических формообразований насилия в культуре и человеческом бытии.
Задачи исследования:
реконструировать философские и социально-гуманитарные парадигмы исследования феномена терроризма;
дать философско-антропологическую интерпретацию культурогенеза и антропологических метаморфоз насилия;
выявить формы насилия в культуре и предложить культурно-историческую типологию насилия - терроризма;
проанализировать антропологию деструктивного насилия во
взаимосвязи войны и терроризма;
- исследовать революционное насилие и терроризм с позиции
деструкции политического бытия человека.
Теоретико-методологические основы исследования. Выбор междисциплинарной, философско-антропологической и философско-культурологической методологии исследования, используемых подходов и принципов обусловлен сложным характером объекта исследования и спецификой предмета исследования:
исторической и социокультурной обусловленностью феноменов насилия и терроризма (сравнительно-исторический, диалектический, деятельностный методы);
сложным системным характером объекта, взаимополаганием и пограничностью форм насилия и терроризма, а также влиянием политического, религиозного, национально-этнического факторов (системно-структурный, системно-функциональный методы);
антисистемным характером феномена терроризма и специфичностью культурных практик насилия (диалектика и культурно-антропологические методы);
Научная новизна исследования:
реконструкция парадигм исследования феномена терроризма дала его определение как превращенной, иррациональной формы насилия, следствием которой является страх и ниспровержение ценностных (моральных, политических, повседневных и т.д.) иерархий с целью реализации стремлений человека или социальных общностей к контролю над жизнью других людей и установлению той или иной системы власти;
дана интерпретация культурогенеза агрессии как первичной формы насилия, в антропологических метаморфозах которой
реализуется архетипичность ритуального жертвоприношения как структурно-типологического прообраза террористического акта;
проведена специальная процедура интерпретации революционного насилия и терроризма, что позволило их описать в качестве конкретно-исторических форм деструкции политического бытия современного человека;
осуществлен анализ культурно-антропологических оснований деструктивного насилия во взаимосвязи и взаимозависимости конкретно-исторических форм войны и терроризма;
выявлены основные формы насилия в культуре традиционализма, современности и постсовременности, что позволило предложить авторскую культурно-историческую типологию реализации взаимополагания структурного отношения «насилие -терроризм».
Основные положения, выносимые на защиту:
-
Основные исследовательские парадигмы в осмыслении феномена терроризма показали, что адекватное понимание этого сложного феномена возможно через указание на его суть как на одну из превращенных, иррациональных форм полагания насилия, следствием которой является страх и ниспровержение всяческих аксиологических иерархий. Целью такого насилия можно считать контроль над жизнью человека и человеческих общностей (биополитика) как установление политического господства и власти в широком смысле. Диспозиция и практики терроризма в настоящее время не ограничиваются противостоянием государства и его оппонентов и включают в себя конкретных людей, сообщества, культуры и государства.
-
Анализ культурогенеза человеческой агрессии и антропологических метаморфоз насилия показал, что архетипом терроризма является жертвоприношение, поскольку по характеру действия террористический акт есть не что иное, как мгновенное изъятие объектов в акте уничтожения, что
есть жертвенная «трата» (Ж. Батай), происходящая сиюминутно, без
откладывания и оправдания. Целью жертвоприношения является достижение исходной имманентности окружающему миру, которая с поправкой на идеологию современного терроризма может иметь различный характер, от традиционного религиозного и политического - до этнического и экологического. Террористический акт по смыслу и действию внутренне структурирован как специфическая форма жертвоприношения, что делает его абсолютно иррациональным и непрозрачным для обыденного или разумного понимания.
3. Исследование революционного насилия и терроризма в ракурсе
концептов «чрезвычайного положения» (Дж. Агамбен) и «жертвенного
кризиса» (М. Мосс) привело к выводу, что революция предстает как борьба
равных вне норм права и координат легитимности, материей которого
является нелегитимная жертва (homo sacer), а формой и механизмом
реализации - терроризм, который сближается с революцией в знаковом и
игровом измерении зрелищности и потребления.
4. Антропологические основания деструктивного насилия во
взаимосвязи и взаимозависимости войны и терроризма предполагают, что
терроризм есть не только кризис традиционных методов ведения войны, но и
последовательная деградация последней в трех аспектах: в отношении к
субъекту как переход от вражды государств к вражде партий, в котором
современный терроризм раскрывается как «абсолютная вражда»; в
отношении к объекту война перестает быть борьбой с равным и оказывается
жертвоприношением, которому родственен терроризм; сегментированное,
неоднородное пространство классической войны переходит к одномерному
пространству террора, которое населено не противником, а жертвами.
5. Основные факты соотнесения насилия и терроризма как формы
жертвоприношения в культуре традиционализма, современности и
постсовременности дают определенную культурно-историческую
типологию:
а) преобладающий религиозный характер средневековой культуры
обуславливал существование террористического насилия в формах
религиозной войны и преследования инакомыслящий (иноверцев, неверных,
еретиков и т.п.);
б) эпоха Нового времени вносит политические и национальные смыслы
в насилие («государственный интерес» и «воля народа»), что приводит к
проникновению террористического насилия в революцию и новые формы
власти и управления государством и населением;
в) современный терроризм представляет собой качественно новое
явление, когда террористическое насилие осуществляется не на уровне
национальных государств и поддерживаемых ими властных групп, а в
плоскости столкновения сообществ и индивидов с государствами,
культурами, нациями и цивилизациями.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Материалы проведенного исследования представляют интерес в рамках философской антропологии, философии культуры, философии политики. Исследование может быть использовано при разработке региональных программ борьбы с экстремизмом и ксенофобией, конкретных исследованиях террористических субкультур.
Результаты диссертационного исследования могут применяться в процессе преподавания курсов философии, культурологии, философской и социальной антропологии, чтении курсов по антропологии насилия, революции, философии войны.
Личный вклад автора заключается в идее контекстного и культурно-исторического взаимополагания насилия и терроризма; в оригинальном научном подходе к анализу парадигм осмысления феномена терроризма, как на одной из превращенных, иррациональных форм насилия; в обосновании понимания терроризма в соотнесенности с феноменами революции и войны; в разработке культурно-исторической типологии терроризма.
Личный вклад диссертанта состоит в обосновании методологических подходов и принципов исследования, в определении задач, целей, формулировке новизны и положений, выносимых на защиту, подготовке научных публикаций, отражающих ход и результаты исследования.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования были изложены в выступлениях на международных и всероссийских конференциях: IV Всероссийской научной конференции молодых учёных, докторантов, аспирантов и студентов «Философия поверх барьеров: культурно-цивилизационные и антропологические кризисы идентичности в современном мире» (апрель 2009 г.); V Всероссийской научной конференции молодых учёных, докторантов, аспирантов и студентов «Философия поверх барьеров: философия науки, история и современность» (апрель 2010 г.); Всероссийской конференции с элементами научной школы для молодежи «Развитие внутрироссийской мобильности научных и научно-педагогических кадров на базе ведущих научно-образовательных центров в области социально-гуманитарных наук» (ноябрь 2010 г.); Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Национальный вопрос в России: прошлое, настоящее, будущее» (апрель 2011 г.); VI Всероссийской научной конференции молодых учёных, докторантов, аспирантов и студентов «Философия и наука поверх барьеров: Нации и этнокультурная идентичность в современном мире» (апрель 2011 г.); Всероссийской молодежной конференции «Когнитивное моделирование: динамика гражданского общества и фактор национально-конфессиональной толерантности» (сентябрь 2011 г.); Второй Российской научной конференции с международным участием «Социология религии в обществе Позднего Модерна» (апрель 2012 г.); Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Культурные тренды современной России: от национальных истоков к культурным инновациям» (апрель 2013 г.).
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав и пяти параграфов, заключения и библиографического списка.
Феноменология террористического насилия: деструкция насилия или деструктивное насилие?
Философская и социально-гуманитарная рефлексия проблем терроризма и насилия имеет довольно давнюю историю. Причем если обращение к исследованию насилия можно считать фундаментальным, то терроризм из еще недавно «модной» темы успел стать «проходной». Причиной тому, как нам кажется, сформировавшаяся привычка или усталость от самого внимания к данной теме, поскольку если для массового сознания человека конца прошлого века и начала нашего терроризм еще представлялся чем-то новым и чужим, то сейчас достаточно очевидно, что он стал частью нашего мира и даже повседневности, как бы печально это ни было. При этом критическая мысль прилагает немало усилий в присвоении этих «навязчивых» феноменов современной жизни, однако их успешность ставится под вопрос не по причине научной несостоятельности, а скорее по практическим следствиям научных изысканий.
Внутри самого научного дискурса о терроризме и насилии, мы сразу же оговоримся о том, что будем рассматривать эти феномены параллельно, также есть свои проблемы, которые можно рассматривать как борьбу различных концептуальных систем и моделей интерпретации. Поскольку действительно, по меткому замечанию Н. Грякалова: «говорить о терроре -не то же самое, что его мыслить»1. Только в рамках философской мысли он отмечает четыре возможные стратегии в осмыслении «предельного» говорения о терроризме: «... как состояния мира (натуралистический дискурс), как события воли (критический дискурс), как понятия (спекулятивный дискурс) и как формации (генеалогический дискурс)»".
Каждая из этих стратегий претендует на предельное объяснение насилия и терроризма, но, как мы уже отметили выше, в настоящее время все они признаются недостаточными, поскольку присвоения не происходит. Причиной тому можно считать две. Первой - ущербность самих логик определения явления, что в провозглашенной постмодерном ситуации заката гранднарративов как ситуации отсутствия универсальных эпистемологических конструкций выглядит достаточно убедительно. Второй - сложность и специфичность самих феноменов, которые «опережают» теории. В этом случае необходимо признать существование таких явлений реальности, которые, несмотря на их посюсторонний характер (то есть мы исключаем из этого ряда то, о чем невозможно рациональное знание, подобно феноменам веры и т.п.), «превосходят» существующие объяснительные модели в силу различных причин.
Раскрывая первую причину, следует обратиться к существующим подходам в определении терроризма, которые в своем большинстве начинают с этимологии этого слова. Как отмечает Адриана Кавареро, этимология слова «террор» в современных языках восходит к латинским глаголам «terrco» и «tremo». Значение исходного основания этих слов «ter» указывает на акт дрожи и в греческом языке приведенные глаголы вращаются вокруг смысла: «... бояться не как психологическое измерение, но как физическое состояние»3. Отсюда А. Кавареро делает вывод, что сфера террора характеризуется физическим опытом страха, как это проявляется в дрожащем теле. А также значение дрожи дополняется значением бества, поскольку уже в классический период, по замечанию автора, «о tresas» обозначает тот, который бежит, к которому присовокупляется также значение полета: «установлена связь между словами «treo» и «phcugo», «чтобы дрожать» и, «чтобы сбежать». В свою очередь существовала также связь между «phcugo» и «phobos» и прежде всего двойная валентность «phobos»...»4. Приведенный спектр значений сосредоточен вокруг физического воздействия, вызывающего страх, и начинающегося внезапно. Его следствием как раз и является дрожь или бегство. Значение полета Кавареро объясняет тем, что дрожь и бегство связаны с вибрацией тела, которое человек испытывает в полете. Она отмечает, что террор имеет смысл инстинктивного движения, инстинктивной реакции тела или всего живого на угрозу смерти.
Так родственное terror «о tresas» относится к сфере войны и обозначает: «выражение страха перед смертью в сражении, которое является не всегда той же самой вещью как трусость, «о tresas» указывает на солдата, который убегает... вместо того, чтобы остаться в его месте в фаланге, использование предлагает порядок или заказанное расположение, которое сломано и потрясено теми, кто бежит; другими словами, это вызывает суматоху, которая, хотя ее интенсивность может измениться, находит ее максимальное число...» . Отсюда террор есть страх с потерей контроля за своими действиями, за действиями, которые предписаны. Он есть расстройство установленного порядка под действием страха за свою жизнь.
Такое понимание следует признать не только исходным в спектре значений слов террор и терроризм, но также отметить тот факт, что указанные значения исходны в феноменологическом смысле. Поскольку речь идет о непосредственном восприятии насилия, того очевидного факта, что тело инстинктивно реагирует на опасность и угрозу смерти тремором, дрожью и стремлением убежать. А также как следствие этого нарушение существующего порядка, иерархии. Хтонический характер террора как «ужаса» раскрывается здесь через его логические следствия во всей мифологической полноте и находит основание опять-таки в этимологии, поскольку террор по своему действию родственен ужасу - horror. Ужас же происходит от латинского глагола «horreo»6, образующего связку значений близких к переживанию террора и состояние ступора, замирания, которое в греческой мифологии было связано с медузой Горгоной.
Современное пространство смыслов террора и терроризма в значительной мере ушли от «физиологии ужаса» и «мифологии порядка». Исключение составляют психологические трактовки, которые отмечают исходное значение слова как переживание ужаса, возникающее вследствие угрозы или применения насилия . Большая же часть исследователей так или иначе связывают терроризм с борьбой за власть и рассматривают его в контексте институционализированной борьбы государства с его различными оппонентами. Наиболее очевидный пример представляет собой определение терроризма данное в Федеральном законе от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»:
«1) Терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий;
2) террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя:
а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористического акта;
б) подстрекательство к террористическому акту;
в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), организованной группы для реализации террористического акта, а равно участия в такой структуре;
г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации террористического акта;
є) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности;
з) террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, связанных с устрашением населения и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления экологической катастрофы или иных особо тяжких последствий в целях противоправного воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях».
В общем виде, от признания терроризма идеологией насилия и практики воздействия на органы власти через насилие, под терроризмом понимается насилие реальное (акт насилия) или символическое (угроза насилия, идеология), направленное против законной власти (органов власти). такой подход к определению терроризма можно назвать доминирующим в отечественной и зарубежной мысли. В качестве примера можно начать со словарного определения терроризма в «Толковом словаре русского языка» СИ. Ожегова, в котором он обозначен как: «устрашение своих политических противников, выражающееся в физическом насилии, вплоть до уничтожения» . Оксфордский словарь определяет терроризм как «неофициальное или несанкционированное использование насилия и запугивания в преследовании политических целей»9.
Революционное насилие и террор: деструкция политического пространства бытия человека
В этой главе мы начнем исследование с прояснения взаимосвязи терроризма и революции. Уже на первый взгляд связь между ними существует, чему есть немало примеров в истории. Как минимум две революции традиционно рассматриваются в качестве иллюстрации такой связи, Великая французская революция и революция 1917 года в России. В своем исследовании мы не будем ставить пред собой цель детального исторического исследования, скорее исторические факты нужны нам в качестве верификационного основания для наших теоретических конструкций. Уже доказанная нами связь терроризма и войны в сугубо шмиттовской трактовке политического была дополнена нами предположением об антисистемном «соскальзывании» войны к более архаичным формам и, прежде всего, такой, как жертвоприношение. Отметим, что архаичный характер не означает возврат к самим практикам и их символическому наполнению. Скорее происходит именно извращение адекватных социокультурной системе форм, которые проявляются в явлениях воспроизводящих более древние, отжившие, но причудливым образом сплавляющиеся в единое целое с современными, так возникает связь жертвоприношения и политического, что мы увидели в террористической войне и войне с терроризмом. Возможно, то же самое происходит и с революцией, которая довольно часто сопровождается проявлением терроризма.
Как показывает X. Арендт, война и революция также тесно связаны, поскольку нередко происходит взаимопереход от революции к войне и от войны к революции. Их общим знаменателем для Арендт является насилие, мы же можем добавить, что не просто насилие, а именно терроризм. Можно согласиться с ней также в той части, что некоторые аспекты современной войны говорят в пользу ее отмирания и большей активности революции. Это уже упомянутые нами в предыдущей главе технологии, развитие вооружения, которое делает войну бессмысленной, поскольку ее логическим завершением может стать глобальная катастрофа. Другой аспект, на котором останавливается Арендт, заключается в том, что война перестает решать возложенную на нее функцию защиты мирного населения. Это связано с тем, что современные державы не в состоянии выйти из состояния войны сохранив в целостности свои государственные структуры.
Как нам представляется, такое утверждение, сделанное Арендт со ссылкой на Францию и Россию XIX века, нуждается в более подробном рассмотрении. Ведь была масса и противоположных исходов войн, даже в том смысле, что противоположная сторона, сторона выигравшая войну, сохраняет свой политический режим и даже его укрепляет. А вот упоминание о тотальной войне как вновь возникшей в ходе Первой мировой войны, в результате которой насилию подвергаются некомбатанты в том числе, можно согласиться с той оговоркой, что тотальная война является терроризмом в нашем понимании.
Именно отсутствие разделения между мирным населением и войсками противника необходимо рассматривать как деградацию войны и ее скатывание к террору с сохранением ее политического характера. Движение войны к революции для X. Арендт имеет давнюю историю: «... взаимное влияние между войной и революцией неуклонно возрастают, а акцент в их взаимоотношении все более и более смещается от войны к революции. Безусловно, взаимосвязь между войной и революцией не так уж нова; она родилась вместе с революциями, которым война за освобождение либо предшествовала и сопутствовала, как в случае американской революции, либо же сами революции вели к оборонительным или освободительным войнам, как это случилось во Франции. Вместе с тем, наш век стал свидетелем еще и третьей, совершенно новой возможности, когда ожесточение войны служит как бы прелюдией к кульминации насилия и революции... И если нам не суждено исчезнуть вовсе, то более чем вероятно, что именно революции, а не войны, будут сопровождать нас в обозримом будущем»61. Дополнить предположение Ханны Арендт можно только поправкой, что современность сопровождается не только революциями, но также терроризмом. Связь между этими явлениями стала еще очевиднее, чем в XIX или первой половине XX века с появлением «цветных революций» и глобального терроризма не просто сосуществующих в одном пространстве-времени, но вступающих в симбиотическую связь.
Вместе с тем, анализ термина, который проводит Арендт, более удаляет от интересующей нас связи, чем подтверждает ее. Слово революция было заимствовано из астрономии и первоначально означало циклическое движение звезд. Кажущееся противоречие с последующим, политическим значением этого слова, Арендт разъясняет исходя из понимания событий времени первых буржуазных революций, когда революция имела смысл именно возвращения к начальному состоянию и движения по некоторой траектории развития общества: «Слово «революция», когда его впервые спустили с небес на землю и использовали для описания событий, происходящих в мире смертных людей, служило главным образом метафорой, вносящей в случайные события, взлеты и падения человеческой судьбы... элемент вечного, неодолимого и постоянно повторяющегося движения. В XVII веке, когда слово «революция» впервые применили в качестве политического термина, его метафорическое содержание находилось гораздо ближе к первоначальному значению слова, поскольку оно использовалось для обозначения повторяющихся процессов, возвращения на круги своя» 2. И это возвращение уже в пространстве политического дискурса Нового времени будет неразрывно связано с идеями свободы и секуляризации, идеей нового человека и общества. При этом Арендт решительно отвергает религиозный характер революций в части их наследования идей равенства и установления новых социальных отношений, подобных райским. Именно секуляризация открывает революции в смысле нового этапа развития общества. Такое понимание исходит в своей основе из христианского линейного восприятия времени, но также родственно пониманию времени древними греками, трактовавшими время как прерывность в развитии общества и государства.
Возникшее в XIII веке представление о революции по X. Арендт основывалось на совершенно новом понимании времени и самой революции как принципиально нового этапа в развитии . Из соединения этих двух идей, свободы и новизны, Арендт предлагает исходить в понимании революции. При этом принципиальная новизна революции содержит противоречие, поскольку сочетается с исходным значением революции как повторения. И идея свободы не выглядит здесь неуместной, поскольку также предполагает возвращение к исходным правам человека или его статусу. Все утверждения о наличии у человека естественных прав, идея «гражданского договора» и обоснование государства возникают в этот период именно как секулярная идея общности людей. Однако, по своей форме она копирует религиозные идеи.
В этой связи достаточно интересно выглядит упоминание X. Арендт о том, что равенство людей в религиозном смысле было признано уже в Римской империи, теперь этот статус был перенесен в область права. Свобода человека в религиозном смысле после изъятия религиозного содержания становится свободой политической. И в этой связи, не является ли человек в ситуации революционного «об-в-ращения» или «об-новления» не только человеком претендующем на политические права вне связи с возможными религиозными смыслами, но «просто» человеком. Возможно, что это исходная точка или то понимание человека, которое скрывается за концептом естественного человека в естественном состоянии войны всех против всех Т. Гоббса. Тем более, что исходный смысл слова человек именно таков, как о том напоминает X. Арендт: «... латинское слово homo, эквивалент нашему «человек», первоначально обозначало не более чем «просто человек», то есть лицо, не обладавшее правом...» . Говоря более определенно, Арендт указывает на некое новое состояние человека, в котором он оказывается в ситуации революции и определяет его как «просто человек».
То же или довольно схожее говорит Дж. Агамбен в трилогии своих работ о homo sacer. Человек как живое существо разбирается в связи двух греческих категорий, zoe и bios, означающих просто жизнь как таковую и жизнь определенную, «правильную форму жизни» человека или группы людей - как пишет Дж. Агамбен65. Ссылаясь на идеи М. Фуко о биополитике Агамбен отстаивает тезис о включении природной жизни в политику, что стало определяющим событием современности. При этом ключевое понятие homo sacer прослеживается им со времен античности, когда это слово совмещало противоречивый смысл священного объекта, который, однако, не мог быть принесен в жертву, а умерщвлен без всякого наказания за это .
Рассматривая основные положения римского права и определения сакрального Агамбен приходит к выводу о том, что homo sacer есть жертва особого типа: «... sacratio предполагает двойное исключение: как из ius humanum, так и из ius divinum, как из области религиозного, так и из области профанного. Топология структуры этого двойного исключения, основанной на двойном изъятии и двойном захвате, удивительным образом напоминает структуру исключения суверенной власти, и это больше, чем просто аналогия...
Военное насилие и прагматика терроризма: антропология деструктивного насилия
Сравнение терроризма с войной некогда не вполне явное в настоящее время приобретает не только четкие очертания, но, как нам кажется, раскрывает некоторые аспекты самого терроризма. Даже в первом приближении война в ее стандартном понимании как вооруженное противостояние стран с участием только комбатантов, уже не вполне соответствует реальности, в которой противостояние стран по большей части разворачивается в так называемых малых формах войны и противостоянии нерегулярных военных образований. Нередко это происходит на территории третьих стран, которые уже начиная с эпохи модерна стали территорией войны. Эта же территория является пространством возникновения и реализации терроризма.
Причем мы можем здесь проследить связь войны и терроризма не только с ближайшего времени противостояния сверхдержав в XX веке на территории Афганистана, положившему начало современному международному терроризму с исламско-фундаменталистским идеологическим основанием. Несколько ранее схожие процессы соединения войны и терроризма происходят в результате национально-освободительного движения, череды событий названных войнами в начале того же XX века в северной Африке (Алжир, Марокко), Кипре, Палестине, Юго-восточной Азии (Вьетнам, Корея). Это далеко не полный перечень, который мы приводим не столько с той целью, чтобы перечислить все возникшие в истории связки войны и терроризма, сколько как иллюстрацию нашего тезиса об имплицитно существующей связи войны и терроризма.
Впрочем, некоторые исследователи рассматривают эти процессы как деградацию самой войны, настаивая на том, что она обусловлена внутренней динамикой войны как технического действия. Несмотря на нашу позицию, которая противоположна этой точке зрения, можно согласиться с тем бесспорным фактом, что война в век атомного оружия претерпела свои изменения. В целом война находится в зависимости от техники и технологий, однако, в условиях ядерного паритета и конвенций о нераспространении атомного оружия мы приходим к стандартной ситуации равновесия или баланса ядерных сил, открывающих возможности противоборства другими средствами или имеем ситуацию «как бы» до ядерного противостояния. По аналогии «счастья под условием» (С. Жижек), мы сталкиваемся с войной под условием. Условием мы считаем как раз наличие ядерного оружия в ситуации его неприменения. Именно о наличии такой ситуации говорит мировая практика, которая также знает ситуации угрозы применения ядерного оружия. Пример Северной Кореи, Ирана или Пакистана некоторым образом намечает связь с проблемой терроризма, но скорее в ее спекулятивно-политическом ключе, бесплодном в плане научной критики. Более адекватным нашим задачам будет обращение к войне в ее сущностном плане как феномена политического, феномена в котором актуализируется противоречие между легитимностью и преступностью, дозволенным и запретным, насилием, обусловленным политическими, религиозными, национальными и иными причинами. Такие формы войны как национально-освободительная, гражданская война тесно связаны с терроризмом и нередко не различаются.
С указанных позиций наш анализ следует начинать с обращения к теории войны именно в указанных аспектах проблематизации ее определенности в качестве таковой, по крайней мере, ее классических определений эпохи модерна. Нас будет интересовать метаморфоза таких сложных форм войны, которые изложены Карлом Шмиттом в работе «Теория партизана». Партизан как иррегулярный боец с регулярной армией обращает наше внимание на проблему войны как регулярного действия. Прослеживая историю регулярных военных образований со времени Великой Французской буржуазной революции, К. Шмитт, выделяет партизана как оппонента регулярности. Партизан и иррегулярность военного противостояния проявлялась в периоды «разложения», которыми предстает Тридцатилетняя война (1618-1648), гражданские и колониальные войны . Шмитт оставляет в стороне это утверждение, не рассматривая его подробно и только позднее в беседе с Иоакимом Шикелем возвращается к нему как вопросу о соотношении бедности и партизанства92. Оставаясь на той же позиции, которую занимает сам Шмитт, можно продолжить, что война и есть кризис политического, отсутствие возможностей разрешить проблему мирными средствами. Но партизан появляется в тот момент, когда уже внутри самой войны как некоторого организованного процесса возникает кризис. С этой точки зрения партизанство и терроризм близки, а сам терроризм часто действительно есть кризис традиционных методов ведения войны или их невозможность. Шмитт не останавливается на колониальных войнах, поскольку они дают мало оснований для иллюстрации самого партизана, но в отношении связи войны и терроризма они очень показательны. Война вне европейского континента часто ведется не по правилам и конвенциям или, как пишет Шмитт, не «оберегается».
Возвращаясь к Шмитту, отметим, что он сам довольно близко подходит к тому, чтобы рассматривать терроризм, называя его партизанством. Упоминания об «ужаснейших жестокостях» со стороны испанцев партизан и регулярной армии французов (испанская герилья 1808г.), гражданской войны в Вандее, борьбы колонизаторов с аборигенами косвенно указывают на это ", а далее Шмитт прямо об этом пишет: «Современный партизан не ожидает от врага ни справедливости, ни пощады. Он отвратился от традиционной вражды прирученной и оберегаемой войны и перешел в сферу иной, настоящей вражды, которая возрастает на пути террора и ответного террора вплоть до истребления»94. В этом положении кратко изложена суть концепции партизана К. Шмитта. Партизанская война сближается с такими специфическими формами войны как гражданская война и колониальная война, которые не только маргинальны по отношению к традиционной войне («оберегаемой» войне), но маргинальны также пространственно, поскольку вытеснены из европейского пространства.
Отметим несколько основополагающих тезисов Шмитта. Прежде всего, следует отличать войну «оберегаемую» и партизанскую войну, которые имеют под собой разное основание в виде вражды традиционной, Шмитт пишет о «прирученной» вражде, заключенной в строгие рамки конвенций и правил, носящей игровой характер и настоящей вражды. Настоящая вражда свойственна партизану и выражается в терроре. Также в ответ на террор партизанский возможен и ответный террор со стороны регулярной армии. Здесь Шмитт отмечает не столько обратимость террора, сколько противостояние регулярной и иррегулярной силы. Партизан также как и террорист является иррегулярным бойцом, для которого человек в форме является мишенью95. Другой характеристикой партизана Шмитт признает его политический характер, о котором он пишет следующее: «В качестве дальнейшего признака сегодня напрашивается интенсивная политическая вовлеченность, которая отличает партизана от других борцов. На интенсивно политический характер партизана нужно указать уже потому, что его необходимо отличать от обычного разбойника и злостного преступника, чьими мотивами является личное обогащение»96. Как отмечает Шмитт, на политический характер партизана указывает уже этимология слова «партизан», происходящего от слова партия.
В контексте революционных ситуаций, когда партия интенсивно ведет борьбу за власть вооруженными методами связь между партизаном, партией и террором становится более очевидной, чем в мирное время. В этом аспекте теория партизана как противостояния регулярного - иррегулярного дополняется противостоянием легитимного - нелегитимного.
Следующей характеристикой, которую выделяет К. Шмитт, является мобильность партизана, в которой он связан с техникой. Последнее особенно говорит в пользу идеи Шмитта о зависимости партизана от регулярных образований. Партизан, также как и террорист не самодостаточен. Он вынужден сотрудничать с регулярными образованиями, по причине зависимости от поставок техники, медикаментов, оружия и другого. Но также помимо этого материального аспекта он нуждается в признании. Идеи Шмитта здесь согласуются с идеями Кожева о борьбе за признание. Если у Кожева господин и раб находятся в постоянной борьбе за признание, то у Шмитта партизан должен сохранять свой политический характер, чтобы не стать преступником. В отношении террориста это также справедливо. Чтобы не стать преступником или чтобы его не определила в качестве такового противоборствующая сторона, террорист вынужден обращаться за признанием в другой стороне, которая его признает и поддержит. В настоящем мире, который является миром масс-медиа, признание во многом зависит от доступа к последним, от того, насколько представлена информация о событии в мировых СМИ. Политическая интенсивность не только должна быть такой на самом деле, но и в мире медиа.
Формы насилия и культурно-историческая типология терроризма
Культурно-антропологические метаморфозы насилия в истории, его актуальные практики и поиск ответа на вопрос о каком-то окончательном определении терроризма сегодня со всей ясностью поднимают вопрос о типичном в «навязчивых» феноменах насилия и терроризма. Как мы уже показали, уже в психологических определениях терроризма значится такая его характеристика как повторяемость, циркуляция страха, говорящая о типичном. В содержательном плане терроризм был определен нами как одна из форм насилия, с указанием на ее конкретно-историческую особенность в виде цели - биополитического насилия как суверенного контроля над жизнью. При этом сама диспозиция терроризма, по нашему глубокому убеждению, с течением времени изменялась и в настоящее время уже не сводится к противостоянию государства и его оппонентов, а включает в себя отдельных людей, сообщества и государства. Одним словом, дискурс о терроризме с необходимостью должен включать в себя исторический аспект или генеалогический, по аналогии с археологией мысли М. Фуко. Но это должен быть не только смысловой анализ содержания понятия «терроризм», но динамика форм насилия, восходящих от жертвоприношения как архетипа к современному терроризму, позволяющая создать культурно-историческую типологию терроризма.
В качестве отправной точки такой генеалогической стратегии мы позволим себе обратиться к существующим типологиям терроризма, чтобы затем на основе их анализа наметить собственную типологию терроризма как одной из форм насилия в ее исторической перспективе. Для начала обратимся к авторитетному мнению коллектива исследователей под руководством известного исследователя терроризма Ю.М. Антоняна, которые понимают под терроризмом: «... относительно массовое, исторически изменчивое, уголовно-наказуемое явление, характеризующееся совершением умышленных преступных действий с целью вызвать страх и панику, с выдвижением различных требований» . Со ссылкой на В.В. Лунеева приводится упоминание о видах терроризма, к которым относят политический, уголовный, националистический, «воздушный» и международный. Даже на первый взгляд такая типология обнаруживает свою несостоятельность в силу того, что политический терроризм может носить международный характер и быть «воздушным» по причине совершения теракта в воздухе. Сами авторы издания «Этнорелигиозный терроризм» предлагают другую типологию:
«1. Политический, связанный с борьбой за власть и, соотвественно, направленный на устрашение политического противника и его сторонников.
2. государственный, определяемый потребностью в устрашении, полном порабощении и подавлении собственного населения, уничтожении всех, кто борется с тираническим государством.
3. Этнорелигиозный, осуществляемый с целью торжества, практической реализации националистических и религиозных идей.
4. Общеуголовный, совершаемый прежде всего преступными организациями для получения материальных ценностей, подавления или уничтожения конкурентов, принуждения государственной власти к совершению определенных действий в свою пользу.
5. Военный, который имеет место во время войны и ориентирован не только на экономическое и военное ослабление, уничтожение промышленной и военной мощи противника, но и на то, чтобы привести его в оцепенение, деморализовать население, вызвать панику.
6. «Идеалистический» совершают с целью переустройства мира, победы «справедливости», торжества «великой» идеи. Такой терроризм чаще всего присущ лицам с ущербной психикой.
7. Партизанский реализуется ради освобождения Родины от захватчиков. Наиболее яркий пример: партизанские движения в СССР во время Великой Отечественной Войны»119.
Безусловно, авторов типологии в большей степени интересует этнорелигиозный терроризм, который далее они определяют через категории подавления и уничтожения национальных и религиозных групп на основе мотивов «торжества нации» и (или) религии, а также «реализации национальных и религиозных идей»120. Отметим, что далее оговаривается возможность и иных мотивов участия в этнорелигиозном терроризме, представителей различных этнических групп и религий и даже неверующих, но центральной идеей будет этнорелигиозная. И здесь, прежде всего, возникает вопрос об основании объединения этнического и религиозного компонентов определения в один. Достаточно обратиться к определениям понятий «нация» и «религия», чтобы понять, насколько различны лежащие в основе идеи. Религия, как некоторая связь со сверхестественным, как правило, за исключением национальных религий, универсальна. Даже наиболее активный в современном мире террористический проект или движение, который черпает свои идеи в радикальном исламе, скорее интернационален, чем национален.
Верно также то, что в действительности часто происходит объединение национального и религиозного терроризма, однако типология стремится к четкой определенности и выявлению общего. Если же в нашем случае таким общим считать не содержание «реализации ... идей» (мы опустили слова «национальных» и «религиозных»), то остается сама идея как таковая, любая идея, которая ведет, мотивирует к терроризму. Более того, авторы определения подразумевают под этнорелигиозным терроризмом различные сепаратистские выступления, в которых терроризм выступает уже как метод в борьбе национальных и религиозных групп с суверенным государством, а не групп между собой. В пользу первого, о приоритете именно такой диспозиции, которую мы связываем с эпохой модерна, поскольку эта эпоха и есть время образования национальных государств, по крайней мере, на территории Европы, говорит также отсутствие различия между этносом и нацией. Этнос имеет множество определений. Среди них существую такие, которые связывают его с идентичностью, коллективно признанной, устойчивой системой культурных различий, восходящей к работам П. Бергера, Т. Лукмана, К. Гирца. В.А. Тишков также связывает понятие этноса с культурной идентичностью, которая понимается как самоидентичность во взаимодействии с другими группами людей121.
Другую точку зрения, которую можно отнести к «ессенциализму» озвучивает Ю.В. Бромлей, предлагая обзор дефиниционных признаков «этноса»: «... в целом среди наших специалистов явно преобладает представление об этносе как социальном явлении в широком смысле этого слова. Вместе с тем и в рамках этого общего подхода к пониманию природы этноса в его конкретных дефинициях имеются немалые расхождения. Одни авторы, например, в качестве главных признаков этноса называют язык и культуру, другие добавляют к этому территорию и этническое самосознание, некоторые указывают, кроме того, на особенности психического склада; в этом же ряду подчас отмечаются антропологические особенности; включается в число этнических признаков и общность происхождения, а также государственная принадлежность»122. Не останавливаясь на достоинствах и недостатках этих подходов, отметим, что преобладающий в современной науке конструктивизм активно обращается к культурной обусловленности этничности123 и не говорит в данном контексте о государстве. Государство есть непременный дефиниционный признак нации. Как отмечает Э. Хобсбаум современный смысл этого слова возник сравнительно недавно, в XVIII веке124 и однозначно был связан с возникновением национальных государств, то есть таких государств, которые объединили множество этнических групп. Э. Хобсбаум в этом смысле дает исчерпывающее определение нации: «Подобно большинству серьезных исследователей, я не рассматриваю «нацию» ни как первичное, изначальное, ни как неизменное социальное образование: она всецело принадлежит к конкретному, по меркам истории недавнему периоду. Нация есть социальное образование лишь постольку, поскольку она связана с определенным типом современного территориального государства, с «нацией-государством», и рассуждать о нациях и национальностях вне этого контекста не имеет, на мой взгляд, никакого смысла»125. То есть концепт этно-национального терроризма довольно точно отражает ситуацию именно эпохи модерна, ситуацию возникновения национальных государств и борьбы этносов как между собой за главенство в этом государстве, так и борьбу этнических групп с уже существующими государствами (национально-освободительное движение).
К этому терроризму Брюс Хоффман относит многочисленные террористические образования постколониальной эпохи, начиная с еврейских террористических организаций «Иргун» и «Лехи», боровшихся за создание национального еврейского государства, до антиколониальной борьбы на Кипре и Алжире. Хоффман относит к этнонациональному терроризму только эти движения, которые выстраиваются вокруг сепаратистской борьбы этнических групп с государством в то время, когда последние уже сложились. Вторая мировая война создала возможность пересмотреть глобальное мировое устройство, утвердившееся после Первой мировой войны и колониальные границы европейских держав.