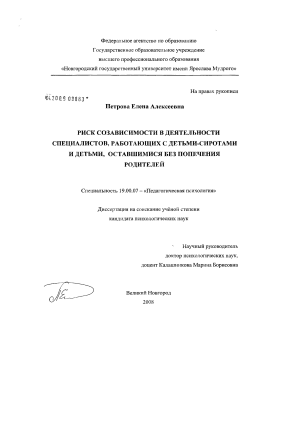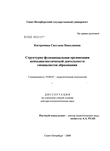Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Изучение риска созависимости в отечественной и зарубежной психологии 10
1.1. Понятие «созависимость», динамика развития созависимости 10
1.2. Причины формирования созависимости и особенности созависимой личности 22
1.3. Разработка проблемы риска «профессиональных» и «личностных» деформаций в психолого-педагогической литературе 42
1.4. Специфика профессиональной деятельности специалистов, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 53
Выводы по первой главе 86
Глава 2. Методологические подходы и психодиагностический комплекс исследования риска созависимости в деятельности специалистов, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 87
2.1. Методология исследования созависимости 87
2.2. Организация и методы эмпирического исследования риска созависимости .90
2.3. Характеристика выборки исследования 103
Глава 3. Результаты эмпирического исследования .риска созависимости у специалистов, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 105
3.1. Изучение созависимости у специалистов 105
3.2. Изучение психологических характеристик созависимых специалистов, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 107
3.3. Выявление факторов риска формирования и развития созависимости 123
Выводы по экспериментальной части 133
Заключение 135
Библиография 137
- Разработка проблемы риска «профессиональных» и «личностных» деформаций в психолого-педагогической литературе
- Специфика профессиональной деятельности специалистов, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
- Организация и методы эмпирического исследования риска созависимости
- Изучение психологических характеристик созависимых специалистов, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
Введение к работе
Актуальность исследования. Происходящая в нашей стране радикальная трансформация экономической и общественной жизни привела к актуализации проблемы жизнеустройства и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Статистика свидетельствует, что за последние десять лет, по числу детей-сирот, приходящихся на каждые 10 тысяч детского населения, Россия вышла на первое место в мире. Почти 50% детского населения страны (около 18 млн.) находится в зоне социального риска. В России на начало 2006 года насчитывалось 1 млн. беспризорных, 800 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Проблемами помощи и поддержки детей, воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей занимались многие исследователи (B.C. Мухина, 1989; И.В. Дубровина, 1990; A.M. Прихожан, 1990; Н.Н. Толстых, 1990; Л.М. Шипицина, 1997, 2000, 2003; А.Г. Рузская, 1990; Р.В. Тонкова-Ямпольская, 1995; Э.Л. Фрухт, 1995; Н.М. Платонова, 2003; Е.Ю. Кузнецова, 2002; М.И. Лисина, 1982; М.К Бардышевская, 1995; В.И. Брутман, 1998; А.А. Северный, 2001). При этом в поле внимания исследователей находились в основном дети-сироты, а проблемы специалистов работающих с таким контингентом и специфика их работы изучались недостаточно. Этот факт можно считать противоречием, сложившимся в данной области исследований.
В последние годы разрабатываются новые подходы к работе детских домов и школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые связаны с изменением системы их жизнедеятельности. Но, несмотря на внедрение новых форм деятельности, участились случаи жестокого обращения с детьми, превышения должностных полномочий воспитателями подобных учреждений. Таким образом, обозначилось еще одно противоречие между сложившейся системой воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и условиями функционирования в профессии
специалистов, работающих с данной категорией детей. Внешним показателем их проблемности выступает чрезмерно высокая текучесть кадров в этих учреждениях, конфликтные отношения между специалистами, неудовлетворенность своей работой. Процесс взаимодействия между детьми-сиротами и специалистами, работающими с ними часто малоэффективен и многие специалисты, работая непрофессионально, разрушают или себя или окружающих.
Многие психологические проблемы специалистов, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, объясняли профессиональной деформацией, в частности, феноменом эмоционального выгорания (А.Г. Петрынин, И. Г. Абрамова, А.П. Алыгин, В.П. Буянов и др.). Но эмоциональное выгорание является далеко не единственной деформацией таких специалистов. Мы считаем, что одной из причин обозначенных выше проблем может быть созависимость, которая является личностной деформацией, развивающейся у специалистов длительное время работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.
По нашему мнению, в данный момент существует необходимость в разработке мер по снижению риска формирования и развития созависимости среди специалистов, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Для этого необходимо глубокое изучение проблемы созависимого поведения, так как, несмотря на высокую социальную, научную, а главное практическую значимость проблемы созависимости, до сих пор отсутствуют попытки теоретического обобщения результатов эмпирических исследований, что не позволяет создать целостную картину формирования и развития созависимости.
Цель исследования: выявить предпосылки риска созависимости у специалистов, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.
Предмет исследования: риск созависимости как вероятность искажения личностных черт и поведения индивида в результате центрированности на
проблемах и переживаниях другого субъекта, при игнорировании собственных потребностей, возникающая под влиянием особенностей индивидуального жизненного пути и профессиональной деятельности.
Объект исследования: специалисты, работающие с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.
В исследовании выдвинуты следующие гипотезы:
1. У специалистов, длительное время работающих с детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, существует риск
созависимости, связанный с искажением личностных черт и поведения.
2. Риск созависимости обусловлен комплексом социальных и
психологических факторов, проявляющимся в процессе профессиональной
деятельности.
Задачи исследования:
Провести анализ психологической, педагогической, социологической, медицинской литературы по проблеме созависимости и исследовать сущность понятия «созависимость».
Разработать психодиагностический комплекс для изучения риска созависимости.
Определить особенности проявлений созависимости у специалистов, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.
Выявить психологические особенности созависимых специалистов, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.
Выделить факторы риска появления созависимости в процессе профессиональной деятельности.
Методологическую основу диссертационного исследования составили принцип системного подхода к анализу психических явлений (К. А. Абульханова-Славская, Б. Г. Ананьев, А. Г. Асмолов, С. К. Бондырева, Л.А. Головей, Е.П. Ильин, Б.Ф. Ломов, В.Л. Марищук, Л.А. Регуш).
В качестве частной методологии выступили положения о закономерностях и особенностях профессионального становления личности, деформациях личности в профессиональной деятельности (И.А. Баева, С. П. Безносов, А. А. Бодалев, Р. М. Грановская, Э. Ф. Зеер, Е. А. Климов, А.Г. Маклаков, Л. М. Митина, Е. Ю. Пряжникова, Н. С. Пряжников, К. Роджерс, Л. Б. Шнейдер
и др.).
Методы исследования. Для реализации поставленных задач использовались следующие методы: опросник созависимости Б. Робинсона, разработанные автором методика экспертных оценок и объективное выборочное включенное наблюдение, методика многофакторного исследования личности Р. Кеттелла, методика «Индекс жизненного стиля» Плутчика-Келлермана-Конте, методика «Мотивы выбора деятельности преподавателя» Е.П. Ильина, методика «Диагностика структуры мотивов трудовой деятельности» Т.Л. Бадоева, интервью с использованием методики «Линия жизни», опросник отношений.
Научная новизна исследования
Впервые специалисты учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей рассматриваются как группа риска возникновения созависимости.
Получена дополнительная информация о риске формирования и развития созависимости у специалистов помогающих профессий.
Описаны типичные проявления созависимости и факторы, приводящие к ней.
Установлены социальные и психологические факторы риска созависимости у специалистов, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.
Теоретическая значимость 1. Обобщены теоретические подходы к пониманию созависимости у специалистов, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.
Раскрыта совокупность социальных и психологических факторов риска, детерминирующих появление созависимости у специалистов, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.
Выявлены особенности созависимости у данной группы специалистов, по сравнению с другим вариантом помогающей профессии - учителями специальных (коррекционных) школ.
Практическая значимость исследования. Материалы исследования могут послужить основанием для разработки спецкурса повышения квалификации специалистов, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. В ходе исследования создано две авторские методики для изучения созависимости (метод экспертных оценок и специально организованное наблюдение). Кроме того, материалы исследования могут использоваться при создании реабилитационных программ для специалистов, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Выводы, полученные по результатам исследования, могут быть использованы в практике консультирования по проблеме созависимости специалистов помогающих специальностей.
Положения, выносимые на защиту:
Риск созависимости у специалистов, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей выше, чем у представителей других помогающих профессий (например, педагогов специальных (коррекционных) школ).
У специалистов, подверженных созависимости имеется определенный набор психологических особенностей, свидетельствующих о созависимости: низкая самооценка; наличие таких психологических защит, как проекция, рационализация, реактивное образование и отрицание; компульсивный контроль, накопление негативных чувств; социозависимость; нарушение взаимоотношений с окружающими.
Существуют социальные факторы риска созависимости: тип родительского
воспитания, психотравмирующий опыт, интенсивность взаимодействия с
объектом созависимости. 4. Основным типом созависимости у специалистов работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, является
«комплекс нарциссизма».
Достоверность и обоснованность полученных в ходе исследования результатов обеспечивается применением методов, соответствующих цели и задачам исследования, содержательным анализом данных, полученных с помощью диагностических процедур, репрезентативностью экспериментальной выборки, количественной обработкой данных методами математической статистики.
Апробация результатов. Материалы исследования представлены докладами на: международной межвузовской конференции студентов, аспирантов, молодых специалистов «Психология XXI века» (Санкт-Петербург, 2006); всероссийской научно-практической конференции «Образование и семья: проблемы индивидуализации» (Санкт-Петербург, 2006); международном семинаре «Терапия насилия и детских травм» (Москва, 2007); международной научно-практической конференции «Потребности ребенка. В центре внимания работа с сотрудниками детских учреждений» (Великий Новгород, 2007); в рамках «Дней науки» НовГУ (Великий Новгород, 2006,2007). Материалы и результаты исследования ежегодно представлялись на заседаниях кафедры психологии психолого-педагогического факультета Новгородского Государственного университета имени Ярослава Мудрого (2005-2008). По теме диссертации опубликовано 9 статей.
Структура и объем диссертации отвечает логике раскрытия заявленной темы и соответствует поставленным целям и задачам. Диссертация состоит из введения, трех глав, 10 параграфов, заключения, библиографического списка и приложений. Библиография включает 168 наименований, из них 37 - на иностранном языке. Общий объем диссертации составляет 150 страниц. Текст иллюстрирован таблицами, рисунками, графиками.
Разработка проблемы риска «профессиональных» и «личностных» деформаций в психолого-педагогической литературе
Проблема зависимости и созависимости в последнее время привлекает внимание многих исследователей (R. Subby, J.Friel, P. Smoli, E. Larsen, W. Mendsenhall, M.Beattie, B. Weinhold, E. Young, В.Д. Москаленко, K.C. Лисецкий, СВ. Березин, Т. Горюнова, В.И. Литвиненко, Ц.П. Короленко, О. Шорохова, Е.В. Емельянова и др.). При этом понятие зависимости на данном этапе изучено достаточно глубоко и всесторонне, но имеющаяся информация по проблеме созависимости, противоречива и недостаточна.
Термин «созависимость» появился в конце 1970-х годов. Роберт Сабби и Джон Фрил [R. Subby, J. Friel] в одной из глав книги «Созависимость, неотложная проблема», писали: «...первоначально это использовалось для описания лица или лиц, чьи жизни были нарушены в результате того, что они были вовлечены во взаимоотношения с кем-то, кто был химически зависимым. Созависимый супруг или созависимая супруга, либо сын или дочь, либо любящий кого-то, кто является химически зависимым, рассматривался как человек, у которого развивались нездоровые способы преодоления жизненных трудностей как реакция на злоупотребление алкоголем или другими химическими веществами другим лицом» [159, 31].
Само слово «созависимость» состоит из двух частей: зависимость - потеря свободы, рабство; со- означает «совместный». Профессионалы давно замечали, что с людьми, находящимися в тесных отношениях с химически зависимыми пациентами, происходит нечто особенное. По данному вопросу были проведены исследования. Результаты их показали, что «...у многих, не злоупотребляющих химическими веществами людей, но близких к алкоголику, развиваются физические, психические, эмоциональные и духовные состояния, напоминающие таковые при алкоголизме. Появились термины для описания этих феноменов: ко - алкоголик, неалкоголик, пара -алкоголик» [65, 3].
В ходе исследований, дефиниция созависимости расширилась. До сих пор не существует единого определения созависимости. Существующие на сегодняшний день подходы к пониманию созависимости и ее дефиниции носят либо описательный, либо констатирующий характер. На данный момент существует около двух десятков определений этого термина. В каждом из них автор делает определенный акцент, таким образом, на наш взгляд, сложилось 3 блока дефиниций созависимости.
Первый блок составляют определения, в которых созависимость рассматривается как особенность или- нарушение поведения. Приведем варианты таких определений.
Американский исследователь Смоли [Smoli, 1988] пишет: «Созависимость — это паттерн усвоенных форм поведения, чувств и верований, делающих жизнь болезненной. Это зависимость от людей и явлений внешнего мира, сопровождающаяся невниманием к себе до такой степени, что мало остается возможностей для самоидентификации» [59, 37]. Э. Ларсен [Е. Larsen], в свою очередь, считает, что созависимость это «выученный набор поведенческих форм или дефектов характера самопораженческого свойства, который приводит к снижению способности инициировать и участвовать в близких отношениях» [12, 46]. Ф. Минирт и П. Майер [F.Minirt, P. Meier] определяют созависимость как «зависимость от людей определенного типа поведения» [54,10]. В. Менденгол [W. Mendsenhall, 1989] определяет созависимость как «вызванную стрессом концентрацию мысли на чьей-либо жизни, что приводит к нарушению адаптации» [59,38].
Таким образом, в представленных определениях авторы рассматривают созависимость как определенный тип поведения, сформировавшийся у индивида и нарушающий его отношения с окружающими людьми. При рассмотрении проблемы в контексте представленных определений, созависимость неизбежно приводит человека к нарушению адаптации, так как значительно сужает его поведенческие паттерны.
Во втором блоке определений авторы рассматривают созависимость в рамках общепсихологического подхода, как определенное психическое состояние.
По определению Чермак [Chermak] «созависимость - это нарушение личности, основанное на необходимости контроля ситуации во избежание неблагоприятных последствий; невнимании к своим собственным нуждам; нарушении границ в области интимных и духовных взаимоотношений; слиянии всех интересов с дисфункциональным лицом» [59, 38]. Шэрон Вегшейдер Круз [S.V.Cruise, 1989] предлагает следующее определение: «созависимость - это специфическое состояние, которое характеризуется сильной поглощенностью и озабоченностью, а также крайней зависимостью (эмоциональной, социальной, а иногда и физической) от человека или предмета. В конечном счете, такая зависимость от другого человека становится патологическим состоянием, влияющим на созависимого во всех других взаимоотношениях» [59, 37]. Роберт Сабби [R.Subby, 1986] в своей книге дал следующее определение: созависимость - это «эмоциональное, психологическое и поведенческое состояние, возникающее в результате того, что человек длительное время подвергался воздействию угнетающих правил - правил, которые препятствовали открытому проявлению чувств, а так же открытому обсуждению личностных и межличностных проблем» [12, 45].
По нашему мнению, определения второго блока подчеркивают психологическую составляющую созависимости, рассматривая ее с точки зрения наличия у созависимого определенных личностных особенностей и специфических эмоциональных состояний. Исходя из этих определений, можно составить обобщенный психологический портрет созависимого и выделить причины, приводящие к формированию определенных личностных характеристик.
Специфика профессиональной деятельности специалистов, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
В процессе профессиональной деятельности значимость и иерархическая структура личностных качеств специалиста меняются, и этот процесс зависит от многих факторов (направленность деятельности, пол, возраст, стаж работы, специализация, сложившиеся отношения с коллегами и пр.) [95].
По мнению К.А. Абульхановой-Славской, в основе профессиональной деформации лежат две причины: деформации деятельности и деформация самой личности. В первом случае происходит отчуждение деятельности от личности до такой степени, что разрушается ее целостность. Имея собственные цели, человек, пытаясь соответствовать предъявляемым ему социумом совершенно чуждым требованиям и целям, не имеет никакого желания их достичь. Он лишен возможности предвидеть результат деятельности, и не имеет доступа к контролю за его достижением. Так разрушается естественная структура деятельности, затем потребность в ее осуществлении, затем и сама активность. Во втором случае деформируется сама личность, ее высшие потребности теряют ценностный смысл, перестают удовлетворяться, требуют извращенной компенсации. Для самого человека происходит обесценивание результатов его труда, усилий, способностей и опыта. Исчезает потребность совершенствовать свою деятельность и мастерство [1].
В исследованиях Е.И. Рогова, выделено четыре уровня деформации личности в процессе деятельности. 1. Общепрофессиональные деформации, характеризующие сходные изменения личности у всех лиц, занимающихся данной, в нашем случае, педагогической деятельностью. 2. Типологические деформации вызваны слиянием личностных особенностей с соответствующими структурами функционального строения деятельности в целостные поведенческие комплексы. 3. Специфические деформации обусловлены спецификой выбранного направления профессиональной деятельности. 4. Индивидуальные деформации специалиста определяются изменениями, которые происходят со структурами личности и внешне не связаны с процессом профессиональной деятельности. Подобный феномен может быть объяснен тем, что личностное развитие осуществляется не только под влиянием профессиональных действий, но и под влиянием его личностной направленности [95].
На самом деле, в реальности трудно определить, что меняется раньше: личность или ее деятельность. Когда речь идет о профессионалах с большим стажем, то, скорее, надо говорить «... о неразрывном единстве и взаимовлиянии их компонентов» [95, 266]. А.Н. Леонтьев, в своих исследованиях утверждает, что «... особенности личности, взятые сами по себе, в абстракции от системы деятельности, вообще ничего не говорят. Нельзя забывать, что выбор профессии изначально связан с определенными задатками и способностями человека, со сложившимися установками. Когда у людей определенной профессии заметны какие-то общие черты характера, их особенности могут быть вызваны не только влиянием профессиональной деятельности, которое в данном случае является вторичным, но и тем, что в большинстве случаев ее выбирают люди, исходно обладающие определенными личностными особенностями» [95, 210-211].
Рассмотрев понятие «профессиональная деформация», мы считаем, что необходимо определить место созависимости в структуре понятий, связанных с профессиональным развитием личности. Прежде всего, требуется отдифференцирование созависимости от термина «профессиональная деформация».
По-нашему мнению, созависимость является личностной деформацией. Под личностными деформациями мы понимаем существенное отклонение от оптимального развития личности проявляющееся в развитии качеств, затрудняющих и снижающих адаптацию человека в социуме. В личностной деформации искажаются не отдельные психические свойства и процессы, а личностные качества. Личностный риск как источник развития личности возникает, если окружающая действительность оказывается в резонансе с личными устремлениями. Риск личностных деформаций возникает всегда, когда нарушается режим оптимального регулирования процессов онтогенетического развития.
Итак, мы рассматриваем созависимость как личностную деформацию, так как имеется ряд важных моментов, отличающих ее от профессиональной деформации: 1) формирование профессиональной деформации происходит под влиянием длительного выполнения профессиональной деятельности, формирование созависимости начинается гораздо раньше — в родительской семье, а проявления и ее более интенсивное развитие могут быть, как связаны с определенной профессиональной деятельностью, так, и не связаны с ней; профессиональная деформация, по-нашему мнению, должна проявляться на более поздних этапах профессиональной карьеры, в то время как проявления созависимости могут возникнуть и в начале профессионального пути как результат заострения уже имеющихся деформированных черт личности в результате несоответствия между требованиями профессии и притязаниями личности; 2) для созависимых профессиональная среда является лишь катализатором уже имеющихся особенностей патогенетического развития личности. Если они по каким-то причинам не смогут работать, то они найдут объект приложения своих сил и забот вне профессиональной деятельности; 3) созависимость может проявляться как в профессиональной деятельности, так и во взаимоотношениях с родственниками, особом типе реагирования на происходящие события, формировании особого мировоззрения; для профессиональной деформации профессиональная деятельность является первичной, изначально деформации проявляются именно в ней; 4) последствия профессиональной деформации выражаются в постепенном формировании формального, сугубо функционального отношения к людям, а при" созависимости, напротив, имеется сильная эмоциональная включенность в профессиональную деятельность, личностное переживание проблем окружающих, интенсивность которых с течением времени не уменьшается; 5) если специалист, подверженный профессиональной деформации является низкоэффективным в своей профессиональной деятельности; то созависимый, напротив, для окружающих представляется очень деятельным, результативным работником; 6) работа и взаимодействие с субъектами своей профессиональной деятельности являются для созависимого компенсацией, отвлечением от собственных неразрешенных проблем, хотя на самом деле, профессиональная деятельность является для него саморазрушением; 7) негативное влияние, которое оказывает созависимость на деятельность и самочувствие людей, проявляется и в других, непрофессиональных сферах жизни.
В дальнейшем изложении результатов нашего исследования мы выдвинем дополнительные аргументы в пользу того, что созависимость имеет ряд особенностей, которые позволяют рассматривать ее шире, нежели только профессиональную деформацию.
В результате проведенного анализа мы предлагаем следующее определение риска созависимости: риск созависимости это вероятность искажения личностных черт и поведения индивида в результате центрированности на проблемах и переживаниях другого субъекта, при игнорировании собственных потребностей, возникающая под влиянием особенностей индивидуального жизненного пути и профессиональной деятельности.
Организация и методы эмпирического исследования риска созависимости
Цель: построение модели индивидуально-психологических свойств личности, для прогнозирования ее реального поведения. Тест Р. Кеттелла является одним из наиболее распространенных анкетных методов оценки индивидуально-психологических особенностей личности как за рубежом, так и у нас в стране. В настоящем исследовании мы использовали форму С, точнее ее адаптированный вариант. Адаптация этой формы проводилась с 1972 года в исследовательской группе Э.С. Чугуновой на кафедре социальной психологии ЛГУ, под руководством И.М. Палея сотрудниками А.Н. Капустиной, Л.В. Мургулец и Н.Г. Чумаковой. Преимущество этой формы заключается в том, что она включает в себя дополнительный фактор MD, который дает информацию о самооценке личности, необходимой нам для изучения созависимости.
Цель: Методика позволяет диагностировать всю систему защит, выявить ведущие, основные механизмы.
В основе опросника «Индекс жизненного стиля» Плутчика-Келлермана-Конте лежит подход к классификации психологических защит, основанный на представлении о связях конкретных эмоций и специфических эго-защитных механизмов [34].
В концепции рассматриваются восемь основных эмоций, присущих всем людям, как консервативных способов поведения в конкретных, постоянно повторяющихся ситуациях и соответствующих им восемь вариантов психологических защит [34]. Авторы опросника дают следующее описание основных типов защиты: - отрицание - подразумевает инфантильную подмену принятия окружающими вниманием с их стороны, любые негативные аспекты этого внимания блокируются на стадии восприятия; - вытеснение - неприятные эмоции блокируются посредством забывания реального стимула и всех объектов и обстоятельств, связанных с ним; - регрессия - возвращение в стрессовой ситуации к более незрелым паттернам поведения и удовлетворения; - компенсация - попытка исправления или замены объекта, вызывающего чувство неполноценности, нехватки, утраты (реальной или-мнимой); - проекция - приписывание окружающим различных негативных качеств как рациональная основа для их неприятия и самопринятия на этом фоне; - замещение - снятие напряжения путем переноса агрессии с более сильного или значимого субъекта (являющегося источником гнева) на более слабый объект или на самого себя; рационализация - предполагает произвольную схематизацию и истолкование событий для развития чувства субъективного контроля над ситуацией; - реактивное образование - выработка и подчеркивание социально одобряемого поведения, основанного на «высших социальных ценностях».
Цель: качественный анализ педагога мотивационной структуры своей деятельности, для выявления наиболее значимых причин выбора профессии.
По степени значимости каждого мотива, обозначенной в баллах, делается вывод о том, насколько выражено у педагога педагогическое призвание и насколько у него выражены сопутствующие и второстепенные интересы. деятельности» Т.Л. Бадоева. Цель: изучение удовлетворенности трудом. Методика включает в себя 13 факторов, влияющих на удовлетворенность трудом. Опрашиваемые оценивают свое отношение к ним по семибалльной шкале. Показателем общей удовлетворенности является сумма набранных баллов.
Цель: изучение системы отношений испытуемого, определения типа отношений с близкими людьми. С помощью методики выявляется уровень эмоционально-положительного отношения и уровень поиска психологической близости. Цель: изучение индивидуального жизненного опыта; социального опыта испытуемых. Основными задачами проведения данной методики являлись следующие: определение относительной, величины и интенсивности событий прошлого; изучение индивидуальной жизненной ситуации испытуемых.
За основу была взята методика «Линия жизни», предложенная В.В.Нурковой. Суть ее заключается в следующем: испытуемому предлагается на бланке изобразить «линию своей жизни», отмечая на ней события собственной жизни, оценивая их относительно «линии жизни» как положительные (располагаются вверху бланка) и как отрицательные (располагаются внизу бланка). Автором была произведена модификация методики (определение круга обсуждаемых вопросов, составление списка тем для обсуждения).
Эта методика проводилась на 3 этапе исследования, только после того, как был установлен контакт с испытуемой, когда она становилась более открытой, углублялась в исследуемую тему и была готова к дальнейшей совместной работе.
В ходе проведения методики женщины вспоминали самые яркие моменты жизни, касающиеся их взаимоотношений с родными, близкими, события личной жизни, профессиональной карьеры. Воспроизводимые ими факты являлись основой для построения диалога, выявления причин, событий, влияющих на выбор специальности и места работы в каждой конкретной ситуации.
Для большей формализации и четкости полученных данных с помощью методики «Линия жизни» в ходе исследования испытуемым предлагался следующий список тем для обсуждения: - особенности взаимоотношений в родительской семье; самые яркие воспоминания детства; ранние воспоминания о психотравмирующем опыте; - значимые события, определившие дальнейшую жизнь; - наличие /отсутствие опыта семейной жизни; - смысл и мотивы выбора профессиональной деятельности, связанной с воспитанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - отношение к воспитанникам и ученикам, как к объектам своей профессиональной деятельности. Ход исследования:
На первом этапе проводилась подготовка к экспериментальному исследованию. Были проведены концептуальный анализ психологической и педагогической литературы по проблеме исследования, частотный анализ существующих классификаций черт созависимости и дальнейшая их научная интерпретация. Была определена выборка исследования. Подобраны методики исследования. Разработаны две авторские методики для изучения созависимости.
Изучение психологических характеристик созависимых специалистов, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
По существу, определение смысла и мотивов выбора профессиональной деятельности, связанной с воспитанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предполагает поиск ответов на ряд вопросов (эти вопросы задавались испытуемому в ходе выполнения методики «Линия жизни»): - чем эта деятельность является для специалиста: судьбой, источником средств существования, способом самореализации и т.п.; - какие факты, значимые события биографии определили профессиональной деятельности именно это место в жизненном пространстве специалиста; - какие аспекты профессиональной деятельности специалист, работающий с детьми-сиротами, выделяет в качестве наиболее значимых для себя и, соответственно, определяющих его поведение; - какими способами и средствами такой специалист проявляет собственные ценности для их согласования с иными участниками педагогического процесса, для их отражения в других субъектах [93].
В результате, испытуемые разделились на две группы - часть испытуемых (к ним относилось большинство испытуемых экспериментальной группы) воспринимали профессию как судьбу. Такой вариант проявлялся в следующих высказываниях: «Моя профессия - это моя судьба», «Жизнь и работа для меня неотделимы друг от друга», «Я всю себя отдаю работе», «Я не могу жить без моей работы» и т.п. Мы считаем, что такая сверхзначимость профессиональной деятельности может быть вызвана различными жизненными событиями и психологическими особенностями испытуемых, например, недостаток позитивных привязанностей в детстве, перенесенные психологические травмы, низкая самооценка, низкая ценность и значимость собственной личности, сублимация, как один из видов психологической защиты, высокий уровень неудовлетворенности жизнью и т.д. Это гипертрофирование смысла профессиональной деятельности, часто происходит в ситуациях, когда профессия дает хотя бы некоторое ощущение стабильности в нестабильной в целом ситуации (например, нерешенные личностные или семейные проблемы). Придание профессиональной деятельности сверхзначимости, возведение ее в ранг ценности играет роль защиты, но, вместе с тем существует опасность редукции смысла и ценности собственной жизни до рамок своей профессиональной деятельности.
Другим вариантом соотношения личной и профессиональной жизни является их параллельное, изолированное друг от друга существование, когда смысл профессиональный не вписывается в ткань личного жизненного смысла или теряет свое ценностно-профессиональное содержание. В таком варианте деятельность, оставаясь по форме профессиональной, по существу перерождается в акты выживания или решения каких-то иных проблем. Это, в свою очередь, приводит к искажению, а в предельном случае - утрате смысла профессиональной деятельности. Такой вариант мотивации наблюдался в контрольной группе испытуемых. Оптимальным соотношением жизненного и профессионального смыслов является вариант, когда смысл профессиональной деятельности выстраивается в соответствии с основным жизненным смыслом, обретенным личностью, однако не сливается с ним. Это позволяет человеку полноценно реализовываться как в профессии, так и за ее пределами. Такое соотношение снижает, минимизирует вероятность возникновения личностных и профессиональных деформаций [93].
В качестве подтверждения представленного анализа полученных результатов методики «Линия жизни», в Приложении 2 приведены примеры жизненных историй испытуемых.
Таким образом, используя данные, полученные в ходе проведенного исследования, мы можем определить факторы риска формирования и развития созависимости. К ним относятся: неполная семья, наличие у одного из родителей химической зависимости, авторитарный стиль воспитания или гиперопека, частые конфликты в родительской семье, перенесенное в детстве насилие, интенсивность взаимодействия с детьми, как с объектом профессиональной деятельности. Кроме того, мы можем выделить дополнительные факторы риска по развитию созависимости, исходя из анализа рассказов испытуемых о своей жизни, в ходе проведения методики «Линия жизни». Например, опыт перенесенной психотравмы - в детстве, в юности, в семейной жизни. Созависимое поведение в такой ситуации является реакцией и компенсацией перенесенного психотравмирующего события. Многие женщины переживали чувство одиночества, невостребованности, недостаток уважения и отсутствие ощущения собственной значимости, что также является фактором риска развития созависимости. Часто у испытуемых не складывалась личная жизнь, возникали проблемы во взаимоотношениях с собственными детьми.
Для снижения риска развития созависимости в деятельности специалистов, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей необходимо создание комплекса профилактических мер. Существует 3 возможных направления деятельности по минимизации риска развития созависимости: 1) отбор специалистов, диагностика при приеме на работу; 2) создание реабилитационных программ; 3) осуществление психолого-педагогического сопровождения специалистов. Первое направление не очень эффективно, так как популярность данной профессии не высока, специалистов в учреждениях для детей-сирот не хватает, вследствие чего нет возможности отбирать персонал. Чаще всего берут практически всех, кто приходит трудоустраиваться. Участие специалистов в реабилитационных программах - это уже работа с последствиями, что всегда сложнее, нежели предупреждение проблем. Мы считаем, наиболее эффективным и реалистичным создание системы поддержки и сопровождения специалиста на различных этапах профессиональной деятельности. В Приложении 3 предлагаются рекомендации по созданию такой системы.