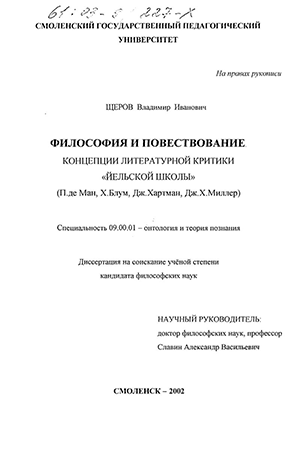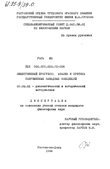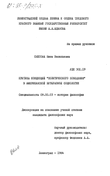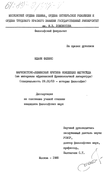Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. Фигуральный аспект повествования {П.де МАН).
1.1. Современные проблемы философско-литературной критики США... 15
1.2. П.де Ман - критик эстетической идеологии 26
1.3. П. де Мано повествовании Ф.Ницше 33
1.4. Бытие слова и мира в работах П.де Мана и М.Хайдеггера 40
1.5. Критика П. де Маном иЖ.Деррида «метафоры Руссо» 47
ГЛАВА II. Психоаналитический аспект повествования (Х.Блум).
2.1. Онтологическая логика текста 57
2.2. Истоки интертекстуальности X.Блуш 66
2.3. Карта «ложного прочтения» 81
2.4. Структурный и психологический анализ текста 98
ГЛАВА III Экзистенциальный аспект повествования (Дж.Хартман и Дж Х Миллер).
3.1. Существование и означение 119
3.2. Дж.Хартман об экзистенциальном аспекте повествования 130
3.3. Дж.Х.Миллер об экзистенциальном аспекте повествования 148
Заключение 164
Список литературы
- П. де Мано повествовании Ф.Ницше
- Бытие слова и мира в работах П.де Мана и М.Хайдеггера
- Истоки интертекстуальности X.Блуш
- Дж.Хартман об экзистенциальном аспекте повествования
П. де Мано повествовании Ф.Ницше
Тема соотнесения философии и повествования, исследуемая критиками «Йельской школы», не была новой в истории американской литературы. Уже в работах её первых классиков романтизма Эмерсона и Торо граница, отделяющая философа от писателя, была крайне неопределённой, что способствовало перенесению большинства философских вопросов познания мира и человека в эстетическую область языка. В такой ситуации философ оказывался в положении критика по отношению к писателю, а писатель мог заявить о своих правах критика в отношении философа. Значимость критической мысли в междисциплинарных вопросах языкового теоретизирования и выражения для культуры США становилась универсальной. Однако осознание и обоснование этого факта свершилось лишь в XX веке с появлением семиотических исследований теоретиков прагматизма, феноменологии и структурализма.
История американской критической мысли как таковой во многом явилась повторением сложных перепитий борьбы за раздел языковых сфер компетенции между литературой и философией. В начале XX века положение критики как литературной теории было неустойчивым на фоне мирового признания мастеров реалистического повествования Т.Драйзера, С.Фитцджеральда, У.Фолкнера и др. Находясь во власти реализма, критика периодически испытывала влияния общественной пропаганды этических ценностей, религизного символизма с наставительными проповедями неорелигизных мотивов (К.Льюис "Американский Адам", Л.Маркс "Машина в аду") или историцизма с устоявшейся верой в реальность и восприятием событийного повествования в качестве исторического документа. Концентрация критиков на литературном произведении как специфическом социальном или историческом феномене приводила к их субъективной разобщённости и случайности эстетических оценок, лишённых единого философского обоснования.
На этом раннем этапе становления американского литературоведения не без влияния феноменологии критик Дж.Спингерн первый формулирует принципы создания единого метаязыка уже «новой критики» в русле интенционализма, согласно которому замысел произведения предопределяется формой его творческой выразительности и активностью авторской позиции. В своём манифесте «новой критики» 1910 года этот литературный теоретик исходил из того, что смысл повествования полностью коррелируется с направленностью авторского сознания на предмет описания1. Другой американский исследователь риторики К.Берк в книге "Grammar of Motives" (1945) придаёт значениям риторического тропа метонимии статус смежных феноменов авторского восприятия, над которыми читатель производит своеобразную «редукцию» по выявлению смысла описываемого события. В риторическом тропе - синекдохе К.Берку видится миниатюрное повторение механизма репрезентации, когда текст либо восполняет, либо упрощает объект представления .
Ближе к середине века вспыхнувший в США интерес к вопросам языка в рамках логического позитивизма, аналитической философии и зарождающегося структурализма возобновил дискуссии о теоретических предпочтениях «новой критики» в построении научного дискурса академического критицизма. После разоблачающих интенционалистов публикаций профессора Йельского университета У.К.Уимсотта "The Intentional Fallacy" (1946), "Affective Fallacy" (1949) и работ известных последователей «новой критики» Уоррена, Блэкмара, Тэйта господствующее место в американском литературоведении было занято формализмом. Для этого поколения «новых критиков» неоспоримым являлось то, что наше знание о мире обусловлено языком, обеспечивающим его репрезентацию. Сущность языка для американских формалистов исчерпывалась системой лингвистического кода, организующего хаос чувственного опыта и случайного подражания. С середины 40-х годов появляется огромное количество исследований романтической и пост-романтической поэзии, где отстаивается автономность поэтической формы по отношению к автору и референту (для романтизма им была,
В этой новой «креативной» теории повествования автор выставляется посредником в актуализации метафизической идеи письма, недоступной «ереси толкования». Позиция читателя, не принимающего эти обезличивающие правила «закрытого чтения», делается второстепенной. Задачей критика становится поиск отвлечённых моделей некого оригинального текста. В отыскании абсолютной формы его больше заботит сам акг творения и его письменное выражение, чем соссюровская антиномия речи и языка, фонологического и лексического плана артикуляции. У.Уимсотт в книге "The Verbal Icon" (1942) рассматривает фиксированные модели повествования наравне с идеалом или субстанцией. В другой книге "Anatomy of Criticism" (1957) канадского исследователя Н. Фрая похожим образом используется архитипическая трактовка риторических фигур при доказательстве несопоставимости повествовательной и реальной событийности, авторского творения (creation) и критического повторения (recreation). По мнению Н.Фрая, поэтическое повествование не может хранить единство смысловой формы и реального содержания и совершенно не применимо для выражения какой-либо практической «цели» или достижения конкретного результата. В работе "Frighten Simmetry", освещающей творчество У. Блейка, Н.Фрай на примере "Пророческих книг" поэта демонстрирует как мистический символизм может одолеть различие небесного и земного, мысли и действия, священного и мирского, божественного и демонического, Рая и Ада, не прибегая к библейским ожиданиям мирского чуда и свершаясь как событие чистой формы воображения.
В процессе теоретизирования относительно трансцендентального означаемого языка американские формалисты часто ссылаются на философию романтического идеализма, особенно в вопросе уподобления текста с завершенной семантической и грамматическои структурой «органическому телу». К этому идеалистическому воззрению на строение текста примешивается ещё его эстетическое восприятие, т.е. в интерпретации художественного произведения для этих критиков важным оказывается не его коммуникативное воздействие на читателя, а то, как оно написано. Эти металингвистические суждения формалистов вскоре были оспорены новой теорией «деконструкции».
В противоположность формалисту к середине 70-х годов в Америке появляется иной тип критика - «деконструктора», который при встрече с застывшей формой произведения всегда недоволен тем, что событие творения уже свершилось без его участия. Такой читатель заново повторяет («деконструирует») условия его свершения в новом интертексте с целью разыскания утраченной или не обретённой ещё формы наличного текста. Эта концепция возникла в среде американских литературных критиков Йельского университета, объединившихся в 1979 году под общим именем «Йельской школы». Почему это университетское новообразование стало «школой» философско-литературной критики США? Можно сделать два предположения: во-первых, потому что сюда, в Нью Хэвен, из университета в Балтиморе, который посещали Р.Барт, Ж.Деррида, Ж.Лакан и другие французские философы1, переместились все известные американские последователи структурализма; во-вторых, если с 40-х годах кафедры Йельского университета использовались «новыми критиками» для пропаганды модного тогда формализма, то теперь они стали местом рождения «американской деконструкции» - новой стратегии чтения и структурной философии текста, опровергающей догматику формализма.
Бытие слова и мира в работах П.де Мана и М.Хайдеггера
Продолжая тему текстуальной несовместимости с идеальной формой в произведениях Ж.-Ж. Руссо, П. де Ман пишет об игровом характере риторической децентрации текста, встроенной в немиметическую традицию слепой романтической интенциональности:
"Суждение описывается как деконструкция ощущения, и эта модель разделяет мир на бинарную систему оппозиций, организованную осью внутри/вовне и затем приступающую ю обмену свойств между областями, лежащими по обе стороны от этой оси, на основании аналогий ийозвожных тождеств 2.
Читательские взгляды Деррида и де Мана сходятся в том, что «век Руссо», заявляющий о происхождении языка, впервые соприкасается и с проблематичностью выявления его генетической модели из-за смещения перцепта и концепта, удаляющего письменное означающее от возможного трансцендентального означаемого. Деконструктивныи анализ строится на игре этих взаимных несоответствий. Но если отличительная черта критического разбора Ж.Деррида состоит в подчёркивании искусственности и естественности вербального выражения на графическом или фоническом уровне, то особенность деконструктивнои стратегии де Мана состоит в распутывании сугубо текстуальных противоречий между грамматическими и фигуральными структурами, между тематическим развитием авторского повествования и расстраивающим любые тождества критическим дискурсом. Де Ман как критик, обитающий в тексте Руссо, не единожды указывал Деррида, что метафизическая эпоха XVIII века с культом разума и природы не могла всерьёз ставить вопросов о первичности или восполняющей функции письма и поэтому делала его вспомогательным или нeзнaчитeльным1. Обозрение де Маном работ Руссо воздаёт должное авторской любознательности и проницательности в соизмерении природы и человека, но не более того. Тематическая направленность его эгоцентрических (и поэтому метафизических) произведений убеждает в том, что Руссо психологичен б автобиографиях, дискурсивен в политических трактатах и сентиментален в вопросах любви и сострадания. Работе деконструкции в пределах текстуальной структуры «внутри/вовне» здесь предоставляется повествовательное поле нарушенных оппозиций ощущения и языка, природы и воображения человека, естественной свободы и насилия культуры и т.д.
Два взаимосвязанных трактата Ж.-Ж. Руссо "Опыт о происхождении языков, а так же о мелодии и музыкальном подражании" и "Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми" по времени написания отделяются несколькими годами и не заключают в себе тематических разногласий. Так как тема второго трактата восстанавливает историческую последовательность отделения человека от природы посредством языка, свободы и воображения, де Ман относит первый к его развёрнутому примечанию. Это не противоречит их содержанию, отличающемуся типичным для литературы эпохи Просвещения пафосом. Тематическим ядром, составляющим «метафизику» повествования, можно назвать утверждение Руссо о том, что в эпоху начала мира Природа заботливо окружала человека жизненным довольствием, создавая и удовлетворяя все его желания и потребности. Природное первоначало должно было обеспечивать повествовательную симметрию как в рассуждениях о языке в первой части, так и в обосновании собственности и политических форм управления - во второй. Согласно повествованию Руссо, Природа - это непознаваемый онтологический центр, вокруг которого складывается культура человека, маргинальная по своей сути: "...по мере того, как мы углубляемся в изучение человека, мы., утрачиваем способность его познать . Бегущий от даров природы, метущийся человек наделён свободной волей выбирать, «совершенствоваться», воображать, а эта страсть к самоутверждению в принадлежащем лишь ему культурном времени и пространстве отдаляет от чувственного истока желаний, вытесняемому вовне его внутренней виртуальностью: "Чем больше размышляем мы ...тем более увеличивается в наших глазах дистанция между чистыми ощущениями и самыми несложными знаниями" . Занятие Природой внешнего положения по отношению к человеку сказывается и на изменениях в использовании языка. Если в естественном состоянии "... предмет получил сначала своё особое название, вне зависимости от родов и видов, которые эти первые учителя были не в состоянии различать и все индивидуумы представлялись их уму обособленными 2, то человек воображающий стремиться создать в речи общие понятия: "Нужно, следовательно, произносить предложения, нужно, следовательно, говорить, чтобы иметь общие понятия, ибо как только прекращается работа воображения, ум может продвигаться лишь с помощью речи" . Де Ман связывает этот конкретный и абстрактный стили мышления с назывательной и обобщающей функциями языка или с буквальным и фигуральным значением текста. Важность данного замечания заключается в отрыве культурного состояния в виде текста, лишённого референта действительности, от чувства природного бытия. В "Опыте о происхождении языков" содержится отрывок, ясно говорящий, что метафора со своим образным переносным значением может опережать предметное буквальное значение, как и текст может опережать и отсрочивать «наличие» природы:
"Дикарь при встрече с другими людьми сперва устрашился. Его испуганному воображению эти люди представляются более рослыми и могучими, чем он сам; он назовёт их гигантами. Из длительного опыта он узнает, что мнимые гиганты не превосходят его ни силой, ни ростом, и их телосложение уже не будет соответствовать той идее, которую он сначала связывал со словом гигант. Тогда он придумает другое название, общее и для него, и для этих существ, например, человек, а название гигант оставит для ложного образца, поразившего его воображение . Затем Руссо поспешно оговаривается, что этот «ложный образ», внушённый страхом, рассеивается ради имени собственного или прямого смысла, но де Ман не оставляет этот отрывок без собственного толкования, полагая, что эта первичная метафора исполняет не только концептуальную, но и деноминативную функцию, так как речь идёт о восприятии человеком человека, а не вещи.
Истоки интертекстуальности X.Блуш
Настороженность Х.Блума по отношению к бытию влияния одного поэта на другого вполне объяснима, так как оно вырывается из прошлого вместе с Ничто, смертью. Поэтическое Влияние целиком поглощает поэта, живущего в мире тропов, не оставляя ему времени для будущего творения и вынуждая возводить лишь тропы защиты от этого нахлынувшего извне прошлого: "Если смерть - это радикальное представление прежнего состояния, оно также представляет прежнее состояние значения, или чистую внешность, так сказать, повторение буквального, или буквальное еначение. Поэтому умерть ь -то оазновидность буквального значения или, с точки ирения поэзии, буквальное значение е это разновидность смерти. Защиты можно назвать тропами от смерти, практически в том же смысле, в кокотор мропы ыожно нозвать защитой от буквального значения, а это и есть антитетическая формула, которую юм искали"\ Иными словами, за каждым повтором последователем значения образов предшественника следует усматривать попытку защититься от их умервщляющей и закостеневшей буквальной формы и жизнеутвердиться в иной, но все-таки аллюзивной, фигуральной потусторонности и неявности. Именно в это заповедное пространство репрезентации поэтического вымысла всеми силами стремиться вмешаться Блум, чтобы, проследовав по его бугристой поверхности, в точности нанести на свою «карту ложного прочтения» ("Map of Misreading"). По ней поэт-эфеб проходит шесть видов защит, имеющих, во-первых, ревизионистское обоснование: Клинамен (поэтическое недонесение) - Тессера (дополнение и антитезис) - Кеносис (повторение и непоследовательность) - Даймонизация (Контр-Возвышенное) -Аскесис (самоочищение и солипсизм)- Апофрадес (возвращение мертвых), во-вторых, психологическое: формирование реакции - поворот против себя - отмена, изоляция, регрессия - вытеснение - сублимация - интроекция, проекция, в-третьих, риторическое: ирония - синекдоха - метонимия - гипербола, литота - метафора -металепсис, в-четвертых, образное: присутствие, отсутствие - часть вместо целого и целое вместо части - полнота и пустота - высокое и низкое - внутри и вовне -раннее и позднее. Переход от одной защиты к другой осуществляется по фазам лурианской диалектики: Цимцум (удаление Творца), Швират ха-келим (сокрушение сосудов), Тиккун (восстановление). Очевидно удобство опоры на подобную законосообразность, так как помимо непосредственных отношений позднего и раннего поэта триада ограничение-замещение-представление координирует еще в процессе повествования и технику последовательной смены психологических защит. Ступая на местность поэтического мироощущения позднейшего поэта, поэт-новичок принуждается к бесцеремонному и полному самоотречению и почитанию ушедшей традиции. Соответственно, его первой реакцией будет попытка спастись от этого натиска, заглушив голос Другого, собственной ироничной и неподвластной Музой. Блум называет этот первый выпад поэтического недонесения Клинаменом. Клинамен в поэме "De rerum natura" римского философа-атомиста Тита Лукреция Кара означает случайное отклонение атомов от их первоначальной траектории необходимости: ...Но чтоб ум не по внутренней только Необходимости все совершал и чтоб вынужден не был Только сносить и терпеть и пред ней побеждённый склоняться. Легкое служит к тому первичных начал отклоненье. И не в положенный срок и на месте дотоль неизвестном1\ Кроме легко уловимых мотивов эпикурейской философии обращает на себя внимание фрагмент рассуждений Тита Лукреция Кара о явлении, обусловленном материальными процессами. По мнению философа, отдельные атомы не обладают ощущениями и любыми феноменологическими свойствами до тех пор, пока не соединятся в новом материальном целом. Внешнее обращение Клинамена сопровождается рождением этого нового тела, отличного от первоначального и уже невозвратимого к нему. Это рассуждение не в пользу блумовской поэтической репрезентации учеником своего учителя. За именем «клинамен», по мнению литературоведа, стоит бесконечное поэтическое пространство, прежде всего англоязычной поэзии, зачинателем и духовным наставником которой был трагический романтик Мильтон. Ему также отводится место третьего великого последователя, следующего за первичным эпосом Гомера и вторичным эпосом Вергилия, Овидия, Данте. А вот пример демонического переиначивания Мильтоном своего ближайшего предшественника Спенсера, где слышится ирония и утверждается иная, отличная от пророчеств христианской ортодоксии, постановка «присутствия» и «отсутствия»: "Поэтому та добродетель, представляющая собой не что иное, как неопытность в постижении зла, и отвергающая порок, не ведая высот, которые он сулит тем, кто будет ему следовать, - это пустая, а не чистая добродетель, ее свидетельство - лишь фекалии; что и стало причиной того, почему наш мудрый и серьёзный поэт Спенсер, известный, думается мне, как учитель получше, чем Скотт или Аквинат, описывая истинную умеренность в лице Гийона, проводит его вместе с паломником через пещеру Маммона и приют земного благословения, которое он может увидеть и узнать и от которого воздерживается"\. В свою очередь, поэзия Мильтона подвергается искажающему прочтению со стороны Вордсворта ("Ода признаков"), Блейка ("Мильтон"), Кольриджа ("Определение вкуса"), Шелли ("Ода западному ветру"), Китса ("Ода Психее"). Затем следует череда более ранних поэтов-эфебов: Теннисона ("Улисс") - ревизиониста Китса, Браунинга ("Чайлд Роланд") -ревизиониста Шелли и др. Пророком новой эры чувственности в англоязычном романтизме Блум называет Р.У.Эмерсона, оказавшего влияние на Торо, Уитмена, Дикинсон, Стевенса, а через них - и на Элиота, Фроста, Крейна и др. Не забывает Блум упомянуть и о современных противниках своей ревизионистской теории, последователях ницшеанского обновляющего воображения, Эммонсе, Уоррене, Уильямсе, Паунде, Эшбери и др. От лица последних Эммонс посвятил Х.Блуму поэму "Сфера: форма движения", где слились воедино и оборонительная ирония над традицией и великолепие собственного превосходства, не терпящего посредников в представлении природы:
Дж.Хартман об экзистенциальном аспекте повествования
Оторванная от чувственной реальности сюрреалистическая пространственность повествования вовлекает воображаемого автора в бесконечное самоистолкование и удвоение образов бытия мира. По мысли Бланшо, в этом и состоит "притягательная яила аовествования, в кокотор только и есть истина - такая, что кажется, будто она говорит всегда о большем, ,чм то, что может быть сказано, и тем самым обрекает читателя, но прежде всего рассказчика, на пытку бесконечного комментария"2. Новым объектом критики становится молчаливый голос рассказчика, обращающегося к незримым объектам, и услышать который позволяет лишь текст, отрешённый от достоверности субъективной ограниченности автора. В повествовании как новом виде утверждения и сохранения философской истины о Ничто мира и сознания М.Бланшо выделяет три основные свойства его антропологической безличности: "Повествовательный голос несёт в себе безличность. Это выражается в следующем: 1) говорить безлично - это говорить на расстоянии, храня дистанцию, без посредников и без собеседников, испытывая на себе бесконечную отстранённость этой дистанции, её невзаимность, её кривизну и асимметрию; ибо самая большая дистанция, в которой господствует асимметрия и при этом ни одному из терминов не отдаётся предпочтение - как раз и есть безличная форма (безличную форму нельзя обезличить); 2) безличная речь не скрывает и не обнаруживает. Это не значит, что она не имеет смысла (притворяясь под видом бессмыслицы, что отрекается от смысла) - она наделена смыслом, но выраженным не в значении видимости-невидимости ... 3) свойство безличного - отменяет атрибутивную структуру языка, то есть то его явное или скрытое отношение к бытию, которое немедленно утверждается как только что-то становится сказанным"1. Отстранённость, незримость и невыразимость повествовательной экзистенции отменяют в языке былую дискурсивную коммуникацию, конституирующую Я автора или читателя. Завершающий штрих в этой творческой деградации авторской экспрессии наносит философия Ж.Деррида, ниспровергающая в своём критическом повторении метафизики любой изоморфизм в постулировании истины. Означение текста всегда деструктивно в утверждении/опровержении истины, а знак подвержен внеисторической игре гетерогенных и генетических структур. В бесконечном тексте философия с запоздалой имманентной экспликацией сущности оказывается «без философа», как и имперсональный вымысел повествования. На этом основании происходит также сближение трансцендентального понятия и описательной метафоры, которые интерпретируются новой стратегией деконструкции во всей их многозначности и парадоксальности.
Авторский голос, конституирующий феномен вещного мир, на письме создаёт иллюзию законченности произведения и соответствия его действительности. Свою карьеру критика Хартман связывает с этим развенчанием философского мифа о первичности мира и его восприятия, доказывая перформативный характер нашего существования, т.е. возникновения мира как осуществления истины текста. В акцентировании на этом аспекте текста Хартман очень близок постструктурализму Деррида, но методологической идее логоцентризма предпочитает пересказ основных экзистенциальных понятий в книгах А.Мальро, А.Камю и М.Бланшо. Литературовед ищет также особое экзистенциальное построение в поэзии Вордсворта, где отношение слова и мира исходит из перформативной созидательное текста. В качестве доказательства этой повествовательной перформативности Хартман предлагает обратиться к теории интертекстуальности, называемой Вордсвортом «контрактом между писателем и аудиенцией» , и поэтическому принципу "naturaliter negativa", оппонирующему в своём отрицании реальности природного объекта произведения пантеистическим установкам Спинозы и гётевскому гармоническому сосуществованию действительности и личной медитации. Следуя в поэтическом повествовании логике чувственного опыта и воображения, Вордсворт ещё в период романтизма предложил новую экзистенциальную альтернативу текста метафизике разумного предопределения формы и системы Просвещения.
Критика знаковой референции. Разрешение дилеммы объективного описания и интенциональной структуры восприятия становится для Хартмана необходимо при изучении творчества поэтов и философов романтической эпохи, в особенности, Вордсворта и Гегеля. Эпоха начала XIX века, наметившая альянс философии и искусства через сближение истории и свободы разума, постепенно привела к столкновению мировидений двух этих мыслителей. В книге "The Unremarkable Wordsworth" философскому спору Гегеля и Вордсворта Хартман посвящает целую главу "Hegel s elation" (Восторг Гегеля). При ближайшем рассмотрении предметом их разногласий служат оппозиции внутреннего/внешнего, субъективного/объективного, дискурса/реальности, представленные в двуликом означении метафоры. Хартман отмечает, что "Гегель глубоко восторгается властной силой метафоры негативного кеносиса"2. Речь идёт о «Кеносисе» христианского откровения, основанного на структуре тождества Бога-отца и Богочеловека, духа и мира. В "Философии религии" Гегель уточняет смысл кеносиса или «самоуничижения сына человеческого»: "...это действие Бога существенно совершающееся в человеке, не как нечто сверхчеловеческое, а как нечто принимающее образ внешнего откровения; существенно, что это божественное присутствие в сущности тождественно с человеческим" . В этой ключевой метафоре, соизмеряющей внутреннее и внешнее, прямой и переносный смысл, признаётся: "Христос называет себя Сыном Божьим и сыном человеческим; это следует принимать в прямом смысле слова"4. Как Дух существует с помощью своей мирской негации, становясь слепым без своего отражения в объективной реальности, так и Священное писание является нарративом с земным означаемым. Из этой самопознающей имитации Абсолютного духа и природы, бытия и истории Хартман заключает:
"Гегелевское самовосторгание Духом не может найти опору в себе без своего продолжения во внутренней негативности, опирающейся только на объект"1. Гегель задаёт метафоре абсолютные параметры, приравнивающей её к религиозному догмату или логическому понятию. С другой стороны, его современник Вордсворт выдвигает еретическое толкование не прямого, а переносного смысла метафоры, оставляющее его только в пространственно-временной последовательности повествования и уводящее свободное воображение от заданного реальностью означаемого. Гегель добивается утверждения в метафоре субъективности за счёт отрицания последней в объекте, и такой парадокс не уходит от внимания Вордсворта, заключающего метафору в автономный дискурс поэтического языка. Интерпретация метафоры Вордсвортом тоже противоречива из-за множественности означаемых, но в своем богатстве значений она не стремится к утверждению абсолютного субъекта или референта. Гегелевская диалектическая логика негативного существования, примеряющая противоположности (как показывает Вордсворт, это абсолютное примирение тоже противоречиво), сталкивается с иной логикой бытия интертекстуальности как игре внутренних и внешних означений текста. Онтология интертекстуальности парадоксальна, но это только внутренний парадокс удвоения центра или различения смысла повествования. При всех внутренних онтологических различиях в самоконституировании тексту не нужно обращаться к внешней реальности, уничтожающей его как это делает Гегель постулируя невесомое тождество Бытия через Небытие, субъекта через объект, Духа через мир. Гегелевская самотождественность бытия, всегда ускользающая вовне не выдерживает критики деконструктивных различий, заранее определивших своё место и не-место в тексте. В отличие от восторгающегося собственными контрадикциями Гегеля, Вордсворт со страхом смотрит на нерушимое тождество всё систематизирующего Разума. Его неуверенность в идентификации самосознания подтверждается избыточным воображением с символами «луны» или «клокочущей бездны» .