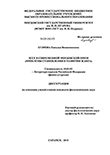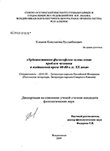Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА ПЕРВАЯ. Романтические традиции и их преломление в творчестве А. А.Бестужев А-Марлинского 17
1.1. Романтизм в русской литературе первой трети X1X в 17
1.2. Специфика выражения кавказской темы в произведениях А.А.Бестужева 25
ГЛАВА ВТОРАЯ. Формирование образных типов в повестях А.А.Бестужева «АММАЛАТ-БЕК» И «МУЛЛА-НУР» 31
2.1. Аммадат-Бек и А.А.Бестужев - примеры разрушительной и творческой страсти 31
2.2. Полковник Верховский и Искандер-бек — «разумный» и «чувственный» созидатели 47
2.3. Мулла-Hyp и генерал Ермолов - азиатская и европей ская легенды 62
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Публицистический и полемиче ский аспекты кавказской прозы А.А.Бестужева 77
3.1. Темы войны и мира. Герои и антигерои кавказских повестей 77
3.2. Роковая обусловленность личной судьбы от общественной в повести «Аммалат-Бек» 85
3.3. «Мулла-Hyp» - спор с псевдоэтнографическими сведениями о Кавказе 90
3.4. Антиутопия «Богучемоны» и проблема прогресса в творчестве А.А.Бестужева 108
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Субъективный и объективный миры в кавказских очерках А.А.Бестужева 114
ГЛАВА ПЯТАЯ. Заимствования и поэтические параллели 133
5.1. Два «пленника» в русской литературе первой трети XIX в. 133
5.2. А.А.Бестужев и последующая литература на кавказскую тему 143
Заключение 157
Библиография 168
- Специфика выражения кавказской темы в произведениях А.А.Бестужева
- Полковник Верховский и Искандер-бек — «разумный» и «чувственный» созидатели
- Роковая обусловленность личной судьбы от общественной в повести «Аммалат-Бек»
- Два «пленника» в русской литературе первой трети XIX в.
Введение к работе
Состояние временной «пограничности», сопровождающее человечество на грани двух тысячелетий, формирует объективную потребность переосмысления и переоценки наследия адекватно запросам эпохи. Век XX, уже ставший историей, приложил много усилий, чтобы восстановить справедливость по отношению к незаслуженно забытым именам. В русское словесное искусство, благодаря этому веянию, вернулись из литературной эмиграции имена и творения великих наших соотечественников. Однако еще не снято критическое вето с традиционного подхода к литературе XIX в., так называемой классической. Привычная иллюзия чрезмерной исследованности классического наследия, порожденная однолинейной критикой, лишает современность своего духовного лица, т.к. характер освоения классической литературы является основным показателем степени развития художественного мышления нации. В литературном потоке XIX в. сохранились имена, творчество которых продолжает оставаться в тени. Одним из утраченных для современного читателя ли-' тературных достояний является прозаическое наследие А.А. Бестужева-Марлинского - поэта, критика, писателя (в дальнейшем мы будем ссылаться на имя - Бестужев, а не на литературный псевдоним - Марлинский).
Актуальность темы исследования обусловлена целым рядом факторов, которые на сегодняшний день получили особую значимость в период исторического столкновения евразийских полюсов на российской арене. Среди них можно отметить наиболее остро стоящие: определение исторической миссии России на Кавказе; тема национальных культур как фундаментального ядра человеческой «многоликости»; роль и последствия историко-социальной нивелировки культурных зон и др. Эти проблемы требуют разрешения как в области историко-политической, так и в литературной. Ряд общечеловеческих, исторических, культурных, литературных вопросов поднимает кавказский раздел творчества Бестужева, но они, как и все разножанровое наследие поэта-декабриста, все еще не получили полного изучения. Признанный современниками едва ли не выше Пушкина, Бестужев в дальнейшем оказался на перифе- рий русской словесности. Интерес к нему возобновился лишь со второй половины ХІХв.
Но отечественное литературоведение демонстрировало двойственное отношение к этому поэту (исходя из определения «поэтической прозой» стиля Бестужева В.В.Виноградовым, мы будем ссылаться на автора «кавказских» повестей как на поэта). Часть исследователей, вслед за В.Г. Белинским, находила в нем лишь недостатки формы. Критик середины XIX в. А.В. Дружинин в статье «Критика гоголевского периода русской литературы и наше к ней отношение», отмечая тот беспощадный удар литературному дару Бестужева, нанесенный критическим приговором Белинского, писал: «До сих пор Марлин-ский еще нуждается в хладнокровной оценке, до сих пор ценители, истинно признающие в нем, при всех его недостатках, и дарование, и силу истинной поэзии, еще не могут решиться поднять свои голоса в защиту лучших вещей Марлинского. Так силен был удар, ему нанесенный, так полезны были последствия этого удара для дела упрощения русского повествующего сло-га!»/34,172/. Предупреждение Дружинина о последствиях критического «ав-торитетства» приобретает, таким образом, характер завещания. Однако уже в конце XIX в. литературный критик Н.Н. Страхов продолжает говорить об «искусственном и сделанном» кавказском герое «а Іа Марлинский»/81,31II. Наиболее убедительно логика времени реализма, сокрушающая идеалы прошлого, выразилась в словах А.И. Штукенберга, инженера и строителя, поэта и писателя, охарактеризовавшего в своих мемуарах второй половины XIX в. Бестужева как «натянутого фразера, которому я, впрочем, в юности так любил подражать»/! 6,362/. Наступающая новая литературная идеология подмяла романтику юных поэтов мощным наплывом зрелых, нетерпимо «прокрустовых» взглядов, выращенных в недрах критического реализма. Сокрушительный приговор Белинского на целый век отвратил отечественных исследователей от личности Бестужева, направив на поиск «простоты» в изобильной русской литературе все критические силы.
Но богатство и разнообразие литературного наследия не дает права забывать хоть одно значительное имя, ведь история литературы не заменяет одного явления другим. Забвение, как и привычный схематизм толкования, создает в литературном процессе «белые пятна»: стоит упустить звено бестужевского творчества, как станет проблематичным определение закономерностей развития талантов А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, Л.Н.Толстого; появится доля условности в изучении русского романтизма, прозаических жанров и языка прозы.
Специфичная тема и оригинальная форма творений навсегда оставшегося молодым поэта (Бестужев так и не переступил сорокалетний рубеж) не укладывались в рамки гипертрофированной критикой идеи простоты формы и содержания.
С другой стороны, интуитивный дар Бестужева легко заслонялся авторитетными профессионалами: Пушкиным, Гоголем, Белинским ... Родившись в 1797 г. и, следовательно, будучи лишь на два года старше Пушкина, Бестужев обречен был стать «кометой» в сравнении со светилом русского словесного искусства. О незавидной участи таланта обыкновенного в лучах имени гениального говорил сам Бестужев в очерке «Путь до города Кубы»: «Наступив на зенит, солнце льет на землю море невыносимого света, лишает земные предметы лучшего украшения - тени, уничтожает человека своею знойною, яркою славою»/4,193/.Но критика не имеет права на иллюстративный, поверхностный взгляд на предмет исследования. «Старое литературоведение, - отмечает Б.С.Мейлах, - подменяло представление о живом, разветвленном литературном процессе представлением об «элите», созвездии только небольшого круга избранных имен. Отсюда и традиционное построение историко-литературных работ как серии «медальонов» - характеристик писателей первой величины... И все же литература с ее национальным своеобразием, с широчайшим охватом всех явлений действительности - результат деятельности многих и многих пи-сателей»/64,20/. Разносторонний дар Бестужева - поэта, писателя, критика, этнографа, языковеда представляет исторический и литературный интерес , как обращение к истокам многих явлений российской словесности.
Проза Бестужева чаще, чем его критика и поэзия, привлекала внимание литературоведов. Но это внимание было, в основном, приковано к своеобра- зию бестужевского литературного стиля, к так называемому «марлинизму». Словесная избыточность, выспренность, эксцентричность поэтической манеры Бестужева не раз резко подчеркивались В.Г.Белинским. В «Литературных мечтаниях» критик-реалист определяет романтические повести Бестужева как содержащие «более фраз, чем мыслей, более риторических возгласов, чем выражений чувства»/8,69/.
На неестественность, пестроту и даже жеманность расточительной языковой манеры Бестужева указывал и А.С.Пушкин, хотя был неизменно сдержан в своих высказываниях о литературной деятельности ссыльного декабриста.
Отметив в «Литературных мечтаниях» «внешний» характер таланта Бестужева, Белинский, как и многие литературные критики-последователи, оказался, так сказать, в плену поэтической формы, которую сам декабрист вызывающе демонстрировал российской публике. В письме к братьям Николаю и Михаилу от 21 декабря 1833 г. он писал о своем стиле: «Что же касается до блесток, ими вышит мой ум; стряхнуть их - значило бы перестать носить свой костюм, быть собою... я не притворяюсь, не ищу острот - это живой я»/4,660/.Эта литературная особенность отмечалась многими современниками Бестужева. Так вспоминает о манере декабриста неизвестный мемуарист: « В литературных... своих произведениях он сыпал остротами и разливался веселостью; многие его повести исполнены не только блесток, но и истинного фейерверка остроумия. Иные называли это остроумие мишурным...»/36,94/. Чрезмерная декларативность собственного стиля письма, близкого к романтической поэме 20-х гг. (Н.А. Степанов), становится на долгие годы причиной неотмеченности содержания творчества Бестужева.
Однако «огненное наречие» поэта-декабриста, языковый иероглиф его «поэтической прозы» имеет, по нашему убеждению, объективные корни в настоящей литературной ситуации первой трети XIX в. В письме к К.Полевому от 21 февраля 1834 г. Бестужев жаловался: «Ладить с мадам цензурою не умею я ни на словах, ни на письме. Писав, однако ж, последнюю критику, я клал перед глазами ножницы как символ прокрустовой < SIC> постели... Не только за критику, да и за сказку страшно садиться - и положительно говорю вам, что это главная причина моего безмолвия. Не смея бросать в свою записную книжку мыслей своих, как решиться писать что-нибудь для публики. Малейшее слово мое перетолкуют - подольют своего яду в самое розовое масло, - и вот я вновь и вновь страдалец за звуки бесполезные»/4,661-662/. Цензурный надзор за вдвойне опасным для государя поэтом (декабристом, с одной стороны, и, безусловно, талантливым литератором - с другой) привел к формированию напыщенного маскирующего литературного стиля, характерного для Бестужева. Это отмечал и В.Базанов: «Но и пристрастие к метафоризации и искусственная декламационность не есть ли своеобразный декабристский прием, рассчитанный на затемнение (разбивка моя. - Л.Э.) подлинного смысла его повестей?»/10,522/.
Несмотря на «затемняющую» роль «марлинизма», его заслуги в развитии русского литературного языка были безусловно велики. «Быстрые» (определение Белинского) фразы Бестужева перешли в разговорную речь современников поэта, его стилистической манере подражали литературные последователи: В.Ф. Одоевский, Н.Ф. Павлов, А.Ф. Вельтман, И.И. Лажечников, ранний Гоголь. Как наиболее «неистовых» подражателей Бестужева Р.В. Иезуитова отмечает П.Коменского, И. Панаева, Е. Ган/38,169-200/. Стоящий у истоков русской романтической повести, поэт-декабрист Бестужев своими исканиями, открытиями и даже заблуждениями указал дорогу в литературу многим талантам, наметил жанр повести как предшественника популярнейшей литературной формы XIX в. - романа.
Кавказский цикл творчества Бестужева получил самые противоречивые отзывы. Первый и авторитетнейший судья и обвинитель - В.Г. Белинский - не сумел уловить в нем самого важного: оригинального инонационального тона. С реалистической позиции критик обличает литературные темы поэта-декабриста, на которые, как с иронией он говорит, «только разве в каком-нибудь Дагестане можно еще с важностью рассуждать ... ведь Дагестан в Азии!..»/8,53/.
Белинский, однако, верно уловил влияние азиатского духа на самого Бестужева, его евразийский космополитизм. В литературной форме эта черта сложилась в, так называемый, прием орнаментального этнографизма как результат сближения двух литератур и двух «способов воззрения» : европейского и азиатского.
Современная Бестужеву историография в лице Е.И. Козубского, автора «Библиографии Дагестанской области», охарактеризовала этнографические сведения, содержащиеся в повестях декабриста, как «ложные» и «воображаемые» автором. Объективная сущность бестужевского «способа воззрения» была определена в XX в. Крупнейшие исследователи Бестужева-кавказоведа первой половины XX в. М.П. Алексеев, В. Васильев, А.В. Попов отмечали этнографическую осведомленность Бестужева и высоко оценивали с этой точки зрения кавказский цикл, содержащий важные сведения о быте, нравах и культуре кавказских (большей частью дагестанских) народов. Критика середины XX в., в том числе В. Базанов/10/, обращалась к этому «грузу» уже с точки зрения декабристских истоков бестужевского этнографизма.
Столь же полемично отношение отечественной критики к психологически мотивировочной базе характеров прозы Бестужева 30-х гг. (в основном, кавказской). В частности, В.Ю. Троицкий утверждает о заданности личностного портрета автором: «Автор сам дает первую и последнюю оценку героя до его поступка»/84,115/. Однако поэт-декабрист большое внимание уделял изображению внутреннего мира героя, его «диалектике страстей», «байронической рефлексии», по определению В.И.Кулешова. Этот исследовательский пробел, заложенный еще критическими отзывами В.Г. Белинского, отмечал и P.M. Мустафин: «...Психологизм как художественный принцип во многом обязан своим становлением в русской прозе Бестужеву и, в частности, его циклу кавказских произведений»./67,19/.
Таким образом, несмотря на несомненный талант, в чем Бестужеву не отказывал даже Белинский («Он (Бестужев. - Л.Э.) одарен остроумием неподдельным, владеет способностью рассказа, нередко живого и увлекательного, умеет иногда снимать с природы картинки - загляденье»/8,697), талант писате- ля, поэта, публициста, критика - его творчество не получило однозначной оценки. Неровность и специфичность бестужевского дара беспокоили и раздражали современников и потомков, заставляя создавать гипотезы и разрушать их, цепко держа в напряженном словесном лабиринте уже почти два века российского читателя. Мы в своей работе обратились к кавказскому наследию Бестужева как к последней вспышке декабристского романтизма, сфокусировавшей политико-литературные взгляды декабриста и поэта, этнографа и философа, способного, по словам современника, «сильно увлекать массу публи-ки»/36,95/.
Научная новизна данной работы заключается в самом подходе к творчеству Бестужева как к результату национально-культурного синтеза двух цивилизаций: Европы и Азии. На этой почве происходит сближение литератур русской и национальной, дагестанской, образуя своеобразный бестужевский синкретизм. Русская черта - способность к «переимчивости» (Карамзин) - у Бестужева превращается в счастливый дар. Поэт легко входит в инокультур-ную среду, принимая свойственные только ей образные, идейно-нравственные и стилевые особенности. Таким образом, мы можем говорить не просто о русской литературе на кавказскую тему, а о литературе русско-кавказской, о культурной полифонии, где сложности каждой литературы, сохраняясь, слагаются в грандиозную перспективу национального сотрудничества. Наша работа суть первая попытка проследить кавказское наследие Бестужева в двух ракурсах: европейском (идеи романтизма, декабризма, прогресса...) и азиатском (этнографизм, сложности национальной психологии, восточная поэтика...). Исходя из этого на материале двух кавказских повестей «Аммалат-Бек» и «Мулла-Hyp» мы вывели теорию трех образных типов: образы страстные, образы созидательные, образы легендарные. Каждый тип получает два выражения - европейское и азиатское, - что формирует специфику героического характера и особенности сюжетного хода.
Декабристское мировоззрение и недюжий журналистский дар позволили Бестужеву поднять в кавказских произведениях ряд общественно-политических вопросов, которые у него публицистически заострены. Это про- блемы прогресса и инокультурной экспансии, взаимоотношений поэта и «толпы», войны и мира. В истории первой трети XIX в. большое место отведено Кавказской войне. Знаток и участник ее - А.А.Бестужев - на протяжении всего своего творчества обращался к этой теме, отмечая закономерный характер продвижения России на Кавказ, на неприемлемость с позиций гуманизма и даже военной тактики его средств. В этой связи, мы впервые попытались проследить развитие тем войны и мира в творчестве Бестужева. Данная проблема намечает два аспекта рассмотрения: героический (сторонники мирного евразийского сосуществования) и антигероический (вдохновители и поборники вражды), что представляется новым в исследовании кавказского цикла декабриста.
Одновременно поэт ведет борьбу с псевдоэтнографическими знаниями, пытаясь посредством занимательного повествования представить России реальное лицо реального Кавказа.
Эту же цель поэт преследует в кавказских очерках, которые в критике чаще получали оценку под определенным идейным углом зрения, что, несомненно, разрушало их идейно-тематическую множественность. В данной работе впервые сделана попытка осветить очерковое кавказское наследие Бестужева, не вводя его в ограничительные рамки заранее намеченных схем, лишь условно подразделив по тематическим группам: пространственно-временной, этнографической, философской...
Цель и задачи исследования. Само обращение к личности А.А.Бестужева, к его творчеству предполагает множество вопросов, касающихся основ романтизма, литературы декабризма, развития прозаических жанров, русского литературного языка, кавказской тематики в русской литературе, сравнительного анализа кавказского наследия различных авторов, изучения творчества последователей и продолжателей Бестужева и т.д. Цели настоящего исследования обуславливают концентрацию в основном на проблемах художественного строения кавказского раздела поэта. Разработка темы предполагает решение ряда задач: раскрыть теоретические аспекты романтизма как литературного направления и выявить специфику его проявления в творчестве Бестужева; обосновать закономерность обращения Бестужева к кавказской теме; определить место Бестужева в разработке кавказской тематики; установить типическое и индивидуальное в образах кавказских повестей Бестужева; проследить развитие авторского стиля «марлинизма» на инонациональном материале; отметить влияние «кавказской» прозы Бестужева на творчество последующих поэтов и писателей, обращавшихся к теме Кавказа.
Основная задача данной работы - преодолеть схематизм и идеологизи-рованность во взгляде на творчество Бестужева. Автор обратился к кавказскому циклу поэта-декабриста с точки зрения современности XXI в., с одной стороны, и литературных традиций начала XIX в. - с другой. Кроме того, в работе сделана попытка проследить связь произведений Бестужева с восточно-коранической поэтикой и тюркской лексикой (повесть «Мулла-Hyp»), хотя это не было нашей основной задачей.
Таким образом, цель исследования - выявить художественную, идейно-тематическую специфику оригинального, евразийского «способа воззрения» поэта и декабриста на сопредельную с Россией историко-этнографическую общность, углубиться в литературную мастерскую автора для дешифровки поэтического кода Бестужева - «марлинизма»; проследить процесс обогащения русской литературы новой тематикой и художественными средствами в результате общения России с Кавказом, географически, исторически связанным с Востоком; показать, как поэт решал проблему взаимосвязей восточной и западной культур.
Методы исследования: аналитический, историко-литературный, культурно-исторический. Данная методика предполагает обращение не только к теоретическим вопросам кавказского творчества Бестужева, но и позволяет проследить литературные традиции и новаторства, связана с выявлением спе- цифики художественного произведения в диалектическом единстве содержания и формы.
Теоретическую и методологическую основу исследования составляют работы как русских, так и дагестанских специалистов по творчеству Бестужева. Тема исследования предполагает обращение к теории романтизма, к явлению декабризма. В этой связи были использованы работы: Е.А.Маймин -«О русском романтизме» (1975); В.И.Сахаров - «Страницы русского романтизма» (1988); Ю.В.Манн - «Поэтика русского романтизма» (1976); В.В.Ванслов - «Эстетика романтизма» (1966); А.М.Гуревич - «Романтизм в русской литературе» (1980); Б.С.Мейлах - «Декабристы в борьбе за передовую русскую литературу» (1950); Н.В.Нечкина - «Декабристы» (1940), «Литературное наследие декабристов» (1975), «Декабристы и их время» (1951), «Декабристы в воспоминаниях современников» (1988).
При изучении историко-литературного процесса первой половины XIX в. автором использованы труды Н.Я.Берковского/12/, А.В.Дружинина/34/, Р.В.Иезуитовой/37;38/, Ф.З.Кануновой/42;43/, А.И.Кузьмина/50/,
Ю.М.Лотмана/60/, Б.М.Эйхенбаума/95/ и др.
Автор опирался также на труды северокавказских исследователей про блемы кавказской темы в русской литературе XIX в. Работы М.А.Садыкова/77/, Э.А.Чамоковой/88;89/, Р.В.Юсуфова/90;91;92;93/,
Г.Г.Ханмурзаева/86;87/, М.Гусейнова/29/, В.Шадури/76/, В.Вацуро/15/ отмечают особый интерес русских поэтов и прозаиков начала XIX в. к специфике национальной жизни, культуры, истории. Этнографическая значимость этой литературы (в частности, бестужевской) уже отмечена в работах В.Г.Базанова - «Очерки декабристской литературы»(1953), М.А.Васильева - «Декабрист А.А.Бестужев как писатель-этнограф»(1926), чьи источниковедческие разыскания доказали тот факт, что вовсе не стилизаторское вдохновение, а прекрасная осведомленность поэта в культуре и образе жизни дагестанских народов лежат в основе его кавказского цикла. Евразийский аспект в мировой литературе освещается в исследованиях Н.И.Конрада - «Запад и Восток»(1972),
З.Г.Казбековой - «Дагестан в европейской литературе»(1994). Вопросы стиля Бестужева затрагивают труды В.В.Виноградова, Э.А.Чамоковой.
Методологической посылкой при разработке темы диссертации явились научное мировоззрение В.И.Кулешова/51/, Н.Н.Маслина/3/,
В.Г.Базанова/10;11/, Я.Л.Левкович/54;55;56/, Ю.В.Манна/63/ и их критический подход к проблеме кавказской прозы Бестужева.
Обращаясь к кавказскому наследию поэта-декабриста, мы попытались рассмотреть большинство тем в контексте Кавказской войны, и в этой связи был привлечен ряд работ исторического и историко-литературного характера, в том числе Ф.З. Феодаевой - «Русско-дагестанские отношения во II пол. XVIII-начале XIX в.» (1972), Я.Гордина - «Кавказ: земля и кровь (Россия в Кавказской войне)» (2000), Н.Я. Эйдельмана - «Быть может за хребтом Кавказа» (1990) и др.
На основании положений трудов данных исследователей мы попытались обосновать закономерность и историческую необходимость обращения к национальной тематике русской литературы, которая обретает особую значимость в период русско-кавказских конфронтации. Вместе с тем автор сделал попытку определить роль нового направления - романтизма - в усилении этого внимания к чужому азиатскому «там» (т.е. стоящему за гранью обыденного, неудовлетворительного европейского «здесь») как пример фундаментального романтического противопоставления и сопротивления. В этой связи формировалась традиция самого этого обращения (романтически-идеализирующая), что категорически отвергал поэт-декабрист Бестужев, стараясь показать Кавказ «без розовой воды», но сохраняя национальный колорит, свойственный романтическому «там».
Теоретическая значимость. Наша работа - первая попытка развернутого анализа малоизученной темы, что позволяет обратиться ко многим неотмеченным ранее аспектам творчества Бестужева, проливающим свет на некоторые спорные вопросы о литературном процессе первой трети XIX в. Ценность данной работы заключена в направленности ее на выявление культурно-исторических сближений и отталкиваний России и Кавказа в процессе поли- тических, экономических, общественных взаимоотношений (пример романтических полярий Европы и Азии), на установление чуткости русской литературы к национальной теме и других вопросов, исходя из материала кавказского цикла Бестужева. Выводы и заключения также подчеркивают значимость национальной темы для поэта-декабриста как в плане историческом (Россия -«двуличный Янус»/5,451/, одновременно глядящий на Европу и Азию), так и литературном, как воплощение в словесном искусстве характерных духовных исканий Бестужева, направленных на взаимосближение и взаимопроникновение культур.
Фактический материал и практические рекомендации, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы при изучении жизни и творчества А.А.Бестужева и вопросов ориентальной литературы первой половины XIX в.
Практическое значение работы заключается в том, что на основе исследования возможна разработка факультативных и специальных курсов по изучению кавказской темы в русской литературе (А.А.Бестужев-Марлинский) на филологических факультетах Даггосуниверситета, Даггоспедуниверситета и педколледжей республики.
Апробация работы. Основные положения диссертации нашли отражение в публикациях:
Тема «Кавказского пленника» в творчестве А.С.Пушкина и А.А.Бестужева-Марлинского // Наука и образование: актуальные проблемы (Сборник научных трудов. Гуманитарные науки) - Махачкала: «Юпитер», 1999.-С.107-118.
К проблеме художественно-эстетической функции ориентализмов в «кавказской» прозе А.А.Бестужева-Марлинского.// Образование и наука - основы социально-экономического и духовного развития России. (Гуманитарные науки) Тезисы докладов научной сессии преподавателей и сотрудников Даггоспедуниверситета.- Махачкала: ДГПУ,2000.-С.151-154.
Концепция роковой роли страстей в повести А.А.Бестужева-Марлинского «Аммалат-Бек».//Актуальные проблемы языка и лите- ратуры. (Сборник статей преподавателей и сотрудников).- Выпуск VI.- Махачкала: ДГПУ, 2000.- С.99-103. Структура и объем работы представляют собой следствие специфики темы, которая предполагает обращение к материалу литературоведческому, историографическому, этнографическому, биографическому, непосредственно связанному с объектом исследования. Работа состоит из введения, пяти глав, заключения и библиографии. Общий объем данной диссертации составляет 175 страниц.
Специфика выражения кавказской темы в произведениях А.А.Бестужева
Жизнь поэта, прозаика, публициста, критика А.А.Бестужева оборвалась на самой вершине его творчества, к которой он проделал длительный путь. Пылкому и интуитивному таланту Бестужева был близок романтический Кавказ с его первозданной прелестью природы и необузданной воинственностью его народов. «...Вся история Дагестана суть неизбывный романтизм ... с его идеологией борьбы, геройства, с его императивными нравственными канонами, наконец, с его обреченным экзотическим раритетом...»/40,71/, - отмечает З.Г.Казбекова.
К Кавказу обращали взор многие поэты и писатели. Но творчество Бестужева опиралось на реальное знание, личное знакомство с этим краем. Прекрасная осведомленность Бестужева в этнографии Кавказа подчеркивалась В.Шадури: «Изучая местную жизнь, Бестужев-Марлинский стал одним из крупных знатоков Кавказа. В его многочисленных произведениях чувствуется хорошее знании жизни и быта народов Кавказа, их языка, народного творчества, этнографии, истории...»/76,21/, У.В.Далгат: «Писатель (Бестужев.-Л.Э.) прекрасно знал дагестанское народное творчество»/32,154/. Благодаря этому Бестужеву удалось показать с убедительностью жизненную силу и активность, вольнолюбие и героизм горцев, красоту и недоступность, притягательность и очистительную силу гор.
К этому времени, после «Кавказского пленника», кавказская тема приобрела значение литературной традиции. Бестужева не удовлетворяли труды о Кавказе иностранных ученых - ориенталистов, ничего не говоривших о его жителях: «Слова нет, чрезвычайно любопытно читать о новооткрытой на Кавказе божьей коровке, о невиданном досель репейнике..., но для человека самое нужное, самая поучительная статья есть человек, и нам бы хотелось лучше знать настоящие нравы, обычаи, привычки горцев.. .»/76,144/.
Великий предшественник Бестужева на этом поприще А.С.Пушкин считал, что поэма «Кавказский пленник» была «обязана своим успехом верному, хотя слегка означенному, изображению Кавказа и горских нравов»/74,469/.
Отмечая крайнюю бедность порядочных сведений о Кавказе, об его народах, Бестужев связывает с этим наметившиеся трудности в культурных взаимоотношениях между Россией и Кавказом. И повинны в этом русские офицеры, не желающие участвовать в изучении Кавказа.
«Мы жалуемся, - пишет Бестужев в «Рассказе офицера, бывшего в плену у горцев», - что нет у нас порядочных сведений о народах Кавказа .... да кто же в том виноват, если не мы сами? Тридцать лет владеем всеми выходами из ущелий; тридцать лет опоясываем угория стальной цепью штыков, и до сих пор офицеры наши, вместо полезных или, по крайней мере, занимательных известий, вывозили с Кавказа одни шашки, ноговицы, да пояски под чернью. Самые испытательные выучивались плясать лезгинку; но далее этого - ни зерна. В России я встретился с одним заслуженным штаб-офицером, который на все мои расспросы о Грузии, в которой терся он лет двенадцать, умел только отвечать, что там очень дешевы фазаны.
- Признаться, за такими познаниями не стоило ездить далеко»/76,142/.
Легкомысленное отношение к Кавказу, равнодушие к истории и быту народа, к земле, которой «тридцать лет владеем», - вот причины отсутствия «порядочных сведений» о Кавказе. Как и все передовые люди, Бестужев в связях России и Кавказа видел пользу, ибо «познание Кавказа тесно связано с выгодами нашего отечества»/76,143/.
Прекрасно осведомленный в исторической и этнографической литературе о кавказских народах, Бестужев не находит ни одной статьи, ни одного описания, в которых можно было бы почерпнуть объективные данные и обнаружить знание дела. О Кавказе писали по преимуществу иностранные путешественники, побывавшие кое-где «пролетом»: «Краснея, должны мы сознаться, - пишет Бестужев, - сведения о России текут к нам сквозь иностранное решето. Кавказ имел ту же участь»/76,143/. Крайняя бессодержательность имеющихся трудов, к тому же написанных иностранцами, не могла дать объективной картины реального Кавказа. «Вообще Кавказ, - писал родным Бестужев, - вовсе неизвестен: его запачкали чернилами, выкрасили, как будку, но попыток узнать его не было до сих пор»/51,68/.
Вклад Бестужева в дело этнографического изучения Кавказа, в частности Дагестана, неоценим. В течение семи лет кавказской ссылки поэт-декабрист прекрасно ознакомился с культурой, бытом, историей края, изучил местный язык, местный фольклор.
Свои знания и представления о Кавказе, о его народах, об обычаях и традициях, о быте и истории, свои впечатления он изложил в произведениях «Аммалат-Бек», «Мулла-Hyp», «Рассказ офицера, бывшего в плену у горцев», в письмах и дневниках, в очерках. Бестужев описывает то, что реально видел и реально с ним было, но поскольку это реальное совершенно фантастично (такова уж его судьба), то и выходит - романтизм... Он, как и следует романтику, глубоко ценил народное, национальное и, со свойственной истинно русскому человеку способностью «применяться к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить» (Лермонтов), быстро умел схватить изнутри дух национальности и ее легенд. И все это облекается в форму «поэтической прозы» (определение В.В.Виноградова/19,184/), охарактеризованную С.П.Шевыревым как «...междоумок между стихами и прозою»/19,372/. Самым ярким представителем этого жанра в России Шевырев назвал Бестужева.
Полковник Верховский и Искандер-бек — «разумный» и «чувственный» созидатели
Образ просветителя и философа Верховского в рамках повести подчинен двум основным задачам: во-первых, показать Кавказ глазами русского человека; во-вторых, выявить причины несостоятельности гуманистической теории европеизации горцев. Авторская задумка была направлена на создание типа образованного военного, так не схожего с грубыми и глупыми «солдафонами» в погонах, с которыми приходилось служить самому Бестужеву, о чем он с возмущением пишет Н.А.Полевому: «... Что здесь за коменданты, что здесь за полковники. Так руки опускаются!.. Кроме взяток, ничего не знают и не хо-тят»/5,499/. Верховский не похож на них и, скорее, приближается к образу великого и «идеального» военачальника Ермолова.
Автор не дает нам в повести собственного «портрета-характеристики» полковника, и судить о нем мы можем по четырем его письмам и со слов других героев.
Первое упоминание о Верховском делается автором уже в начале повести. Имя его поднимается вместе с именем Султан-Ахмет-хана (судья-преступник). Автор намечает будущее противостояние двух командующих, русского и горского, которое, в итоге, приведет к гибели обоих.
В образе Верховского декабрист и тоже бывший офицер Бестужев попытался выразить лучшие черты европейца, христианина и воина, но поэт не скрывает односторонность и несовершенство теории разумного героя, направленной на привнесение чуждого, европейского без разработок и анализа естественного для Азии. Философия Верховского, сливающая пространственную бесконечность с временной далью, способствует созданию единого универсального контекста всемирной жизни с общей схемой развития духа. Но уже попытка реализовать свои просветительские идеи, опираясь на эту философию, терпит крах: «Об Азию расшиблись все попытки улучшения и образования; она решительно принадлежит не времени, а месту», - приходит к выводу Верховский. Данная выдержка представляет интерес, как разработка позиции «любимого начальника» - Ермолова, заметившего в одном из писем: «Образование народов принадлежит векам, не жизни человека»/26,116/. Как отмечала Р.Ф. Иезуитова: «Романтики испытывали значительное влияние идеалистической немецкой философии (Шеллинга, а в 30-е годы - и Гегеля), заимствовав из нее идею непрерывности исторического процесса, идею исторической эволюции. Пытаясь понять внутренние закономерности, управляющие этим процессом, они стремились к созданию целостной картины истории человечества, в которой нашли бы свое место и объяснение и целые цивилизации, и народы, и отдельные личности»/37,82/. Пространство, формирующее культуру и быт этноса, традиции и саму психологию народа, заслуживает «любознательного» взгляда. Но дальше выводов полковник не идет, сознаваясь в бессилии «перестраивать старое».
Однако патриоту Верховскому близка мечта о славном грядущем России и Кавказа. Эти раздумья питают памятник былого могущества - дербентская стена - и образ Петра I. История - смена на мировой арене ряда самопознающих наций - сохранила дербентскую стену как знак «величия древних», оставивших свой след в бесконечности. Но география повинна в том, что «индийский брамин, китайский мандарин, персидский бек, горский уздень неизменны, те же, что были за две тысячи лет»/5,107/. Здесь совпадают взгляды автора и героя (вспомним вторую «кавказскую» повесть «Рассказ офицера...», где Бестужев помещает подобие антиутопии - рассказ о богучемонах, не знающих буржуазных отношений, с одной стороны, но примитивных, затерявшихся где-то на уровне патриархального строя - с другой). По определению Верховского, Азия - это безвременье в изначальном, буквальном смысле слова, резко противостоящее Европе, носительнице «духа века» - результата периодически сменяющихся национальных культур. Европа отстаивала свое право лидера на авансцене истории, выступала за необходимость познания «духа века». Её представитель - Верховский - явился выразителем именно европейского начала и рассматривает историю Европы и Азии в едином универсальном контексте всемирно - исторической жизни.
Роковая обусловленность личной судьбы от общественной в повести «Аммалат-Бек»
Тема судьбы находит выражение в повести «Аммалат-Бек» в системе предсказаний, в ряде сюжетных повторов. Это еще раз подчеркивает неукос-нимость ее законов, равно распространяющихся на цивилизованную европейскую среду и на «дикую» азиатскую. Полковник Верховский, Аммалат-Бек, Султан-Ахмет-хан - все они в той или иной форме стремятся властвовать над судьбой, управлять ею. Однако гибель их принимает степени единой роковой обусловленности, включаясь как составные элементы в общенациональную трагедию.
Романтик Бестужев большое значение придавал предсказаниям и предчувствиям. В «Письмах из Дагестана» он конкретно высказывал свое отношение к этому «суеверию»: «Скажите, какая нить связывает два мира, две судьбы, две жизни? Скажите, отчего, готовясь расторгнуться, она почти всегда дает ощутить себя, то грустью предчувствия, то зловещими снами? «Какой предрассудок!» - скажете вы, засмеетесь или, что еще хуже, улыбнетесь с сожалением. Пусть так. Я сам очень хорошо умею толковать о вздорности этого и между тем не могу дать себе отчета, отчего и когда делаю исключения, - и не раз близость беды, как близость грозы, томила меня тоскою задолго прежде. Не говорю уже о многих умнейших людях, покорных предчувствию, - я знал людей, не имевших веры, кроме этого суеверия, и это суеверие редко их обма-нывало»/4,50/. Будучи последовательным в своих взглядах, Бестужев щедро наделяет своих героев элементами подсознательного мышления. Примечательно, что подобное же отношение к судьбе мы находим у Лермонтова в «Герое нашего времени». В главе «Фаталист» герой замечает, «что часто на лице человека, который должен умереть через несколько часов, есть какой-то странный отпечаток неизбежной судьбы...». Это высказывание не только идейным содержанием, но и формой схоже с бестужевским: «Судьба уже отмечала лица жертв железным перстом своим»/там же/. Вопрос о судьбе, предсказании, входивший в круг философских проблем, становится продолжением романтической традиции.
История страсти Аммалата во многом схожа с любовью Верховского. Оба безраздельно (каждый по-своему) любят, теряют и обретают надежду на любовь, оба могут быть счастливы. Но лишь могут быть. Оба погибают, не достигнув мечты и счастья. И причина трагедии их одна - война, не приемлющая прекрасных чувств, противостояние, взрывающее хрупкий и неосязаемый мир сталью и свинцом, превращая все в кровавое месиво взаимной ненависти. Но рассказ Аммалата о любви полковника сразу разрушает иллюзию сходства: «Что же бы ты думал, что бы я сделал в таком случае? Вонзил кинжал в грудь похитителя сокровища...увез бы ее на край света, чтоб хоть час, хоть миг по-владеть ею... или хоть в мести насладиться за отнятое счастье!»/5,73/. Это рассуждение приобретает особое значение, предвещая трагический финал, и становится самопредсказанием героя. Теряя надежду на любовь, Аммалат предлагает Селтанете бежать: «Если ты любишь меня, бежим отсюда!..» /5,89/. Но не достигнувшему счастья герою остается лишь: «Месть, месть!.. Неумолимая месть, и горе лицемерам!» /5,100/. Таким образом, высказывание юноши символично и вносит смутное предчувствие новой складывающейся ситуации, несхожей с любовной драмой терпеливого и «хладнокровного» полковника. Другое самопредсказание героя дается уже в VIII главе, когда в обстановке накалившихся страстей неумолимо приближается развязка: «Ты не знаешь, до какой степени может увлечь обманутая страсть... Селтанета! спаси меня от чужих проклятий, от своего презрения, спаси меня от самого се-бя!»/5,90/. Если первое предчувствие направлено на исход любовной трагедии, то второе - на последствия «безумного» поступка героя, и история подтверждает предчувствие Аммалата: «..До сих пор имя его никем не произносится без укора» /5,123/.
Но в «Аммалат-Беке» даны и другие символические авторские намеки на драму. Султан-Ахмет-хан, назначая встречу Аммалату, передает пароль: «Орел любит горы», - хотя встреча происходит глубоко в пещере, «вровень с водой». Автор отмечает, что «ночь была темна, огни погасли», и кругом слышался только вой «волков и чакалов». Также в ночь «святотатства» Аммалата в могиле Верховского округу оглашал только «вой чакалов», не было «в небе ни звездочки».
Подобное же предупреждение дается автором уже перед самой развязкой. Опять повторяется образ низвергающих гор: преступление герой совершил, «спускаясь с крутизны». Другой символ приближающейся драмы - туман, закрывающий землю и небо. Автор настораживает, отмечая, что «строй точно будто тонул в дымной реке, подобно войску фараона» /5,114/. Туман как символ близкой трагической развязки используется автором на протяжении всей повести: во время пленения Аммалата горы стояли, «нахмуренные туманами», больная Селтанета - «будто во мраке и тумане», умирающий Аммалат «несколько раз потряс головою, будто желая отряхнуть с ресниц туман...»
Два «пленника» в русской литературе первой трети XIX в.
Основная роль в привнесении в русскую литературу специфической темы и образа «кавказского пленника», безусловно, принадлежит А.С. Пушкину. Романтический колорит поэмы и красочность кавказских картин вызвали восторженные отзывы современников. Читателей увлекала суровая экзотика «чуждого» края, описанию которого первоначально автор хотел посвятить всю поэму, назвав ее «Кавказ».В одном из вариантов пушкинского «Путешествия в Арзрум» содержались слова, относящиеся к «Кавказскому пленнику»: «Сам не понимаю, каким образом мог я так верно, хотя и слабо изобразить нравы и природу, виденные мною издали»/66,163/. Однако портрет российской современности в произведении превысил портрет инобытия. Кавказ из романтического героя превращается в романтический фон для героя.
Но идею воссоздания быта и нравов горцев, кавказской природы подхватывает Бестужев. В программной статье «Взгляд на старую и новую словесность в России» декабрист и поэт, высоко оценивая пушкинский «способ воззрения» на мир горцев, их природу, обычаи, отмечал, что эта поэма, «писанная в виду седовласого Кавказа и на могиле Овидиевой, блистает роскошью воображения и всею жизнию местных красот природы»/5,385/. В «Рассказе офицера...» Бестужев разрабатывает тему, намеченную Пушкиным, на материале собственных наблюдений и подчиняя собственным просветительским задачам. Поэтому мы не можем согласиться с позицией В.Виноградова, утверждающего: «Его (бестужевский. - Л.Э.) рассказ - это этнографически препарированные, расцвеченные бытовыми подробностями, психологическими переживаниями и каламбурами героя, переведенные с языка поэмы на язык романтического очерка вариация на тему пушкинского «Кавказского пленника»/! 9,221/. Литературовед, отмечая почти компилятивный характер бестужевской повести, тем самым лишает её идейной новизны, а также особенностей в разработке темы, хотя и отдает должное оригинальности «способа воззрения». «Кавказский пленник» Пушкина и «Рассказ офицера...» Бестужева представляют взгляд на жизнь горских народов, описание разных сторон их быта. Несмотря на то, что «Кавказский пленник» выдержан в духе раннего романтизма, а «Рассказ офицера...» тяготеет более к этнографическому описанию, характерному позднему романтизму, два произведения объединяет просветительский взгляд художников, их чуткость в восприятии чужой культуры с позиции гуманизма. Но если пленник Пушкина - пример современного разочарованного героя, то Искандер-бек Бестужева - это представитель новой евразийской формации, обладающий великим даром «переимчивости», сумевший преодолеть национальное отчуждение, «европоцентризм».
В образе пушкинского пленника прослеживаются многие черты, которые выявляются, в дальнейшем, в целой галерее так называемых «лишних людей», начало которой и положил образ пленника. Он одинок, романтически противопоставлен среде, характер его часто противоречив, но основная черта, роднящая героя с более поздними «лишними людьми», - это разочарованность. Разочарованность, равнодушие, хандра да, наконец, новомодный английский сплин толкали героев на безрассудства и поступки, еще более отдаляющие их от среды.
В прошлое пленника Пушкин не углубляется, т.к. поэту важно не оно, а то, какого человека сформировало прошлое. И приходит к выводу, что породило оно «невольника чести беспощадной». Честь толкает его на Кавказ за свободой. Так будь свободным, судьба посылает любовь черкешенки - будь свободен в чувствах. Но пленник не рожден для истинной свободы, он видит лишь внешнюю свободу и несвободу (воля - плен), а внутренний ее план, далекий от его «идола» и «призрака», для него невозможен. Он погиб, когда помыслил о ней. Трагично, что с его духовной гибелью, погибает по-настоящему свободное существо, истинное чувство которого не знает границ.
Но свобода черкешенки не пересекает, не тяготеет над видимой вольностью пленника. Она оставляет выбор - она отпускает его. Эта ее личная свобода, не ограничивающая свободу другого, заставляет поколебаться принцип, ставший в «Цыганах» основным: там, где начинается свобода одного человека, кончается свобода другого. Черкешенка дает герою волю фактическую. В сущности, это все, что он способен понять, более высокий, духовный уровень ему не знаком. Но стоило ли бежать за тысячи верст, чтобы увести с собой то, от чего бежал.
Финальная встреча черкешенки и пленника - это последняя проверка героев на «свободность». «Ты волен», - говорит черкешенка, т.е. волен в выборе: остаться с нею или бежать обратно в «неволю» городов. Она еще надеется на честный выбор. Но пленник, кроме всего, слаб и неуверен. Поздние проблески благодарности он готов выдать за проснувшееся чувство: «Я твой навек, я твой до гроба...». Предлагая оставить ужасный край, где он мог бы стать из «невольника» вольным, пленник окончательно рвет со своей мечтой, зовет черкешенку в ту же неволю, сломившую его. Но черкешенка свободна до последней минуты, а смерть её - это финальный честный выбор.
В последний раз герой оглядывается на аул: места, где он мог освободиться, где дух свободы, где «песня свободы». Но ничего уже его не трогает, как не тронула смерть девушки. И шел «освобожденный пленник»: «освобожденный» кем-то, ценой чьих-то усилий, утрат, но «пленник», т.е. свободным он так и не стал, на волю выходит все тот же «невольник чести беспощадной».
Характер пленника противоречив. В нем видно стремление к прекрасному, высокому, умение видеть красоту и - разочарованность. Благородство сочетается с откровенным эгоизмом. Страсть сосуществует с бесстрастностью.
В сущности, характер пленника, его чувства, «движения сердца» его остаются загадкой и для Пушкина. Поэт дает лишь внешнее проявление, т.е. поведение, речь героя, а право вывода остается за нами. Б.С.Мейлах отмечал эту противоречивость авторского замысла: «В образе ...Пленника разочарованность и равнодушие сочетались со скрытым «мятежным жаром» и чертами героиз-ма»/66,120/ ,что было поэтической неудачей, т.к. Пушкин хотел изобразить лишь «равнодушие».
Пленник интересуется и нравом чуждого народа, но дальше поверхностного любопытства взгляд его не идет. Примечательно, что первоначально «любопытство» было основным и единственным движением его души: «вперял он любопытный взор», «... любопытный, созерцал суровой простоты забавы». Этот новый мир начинает интересовать пленника, он наблюдает их веру, нравы, воспитанье», его привлекает простота их жизни, непохожесть на мир, покинутый им. Но любопытство его «равнодушно», оно никак не отражается на лице, и остаются загадкой его истинные чувства. А остались ли они, истинные чувства, ведь, кроме жажды «свободы вотще», его душа ничего не ищет уже. Тот «призрак» свободы, который погнал его на Кавказ, принял всего лишь очертание «свободы вотще», другой свободы, понятной хотя бы черкешенке, ему никогда не постичь, как не понять старости молодость, дряхлости силу, бездеятельности деятельность.
Пленнику не удалось почувствовать ту разность, которая есть между его миром и миром «вольности». Миром, не приемлющим сомнений и апатии. Миром, где ценятся лишь смелость и искренность. Но пленник слишком углублен в себя, и его эгоизм проявляется не только по отношению к черкешенке, но и ко всему Кавказу.