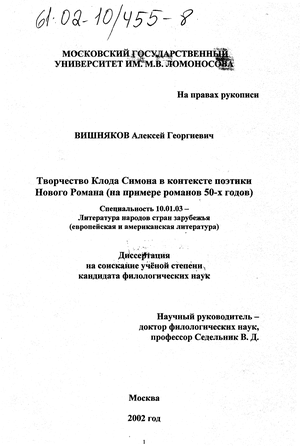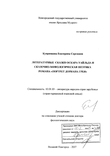Содержание к диссертации
Введение
Глава первая. Новый Роман в 50-е годы: сенакль Степных Волков. 12
2.1. «Поэтика Нового Романа»: а был ли мальчик? 12
2.2. Новый Роман или «новый роман»? Уяснение терминологии. 15
2.3. Практика книг и(ли) теория поэтики? 19
2.4. Сотворение читателя. 22
2.5. «Школа взгляда». 26
2.6. Отражения, вариации, повторы. 28
2.7. Распад и воссоздание человека. 32
2.8. Мир/Миф/Мистерия Нового Романа. 35
2.9. Полёт над хронотопом Нового Романа. 38
2.10. Ревность в лабиринте знаков и структур. «Ревность» (1957), «В лабиринте» (1959) А.Роб-Грийе. 41
2.11. Экскурсия в психоаналитический планетарий. «Планетарий» (1959) Н.Саррот. 47
2.12. Вивисекция изменения. «Изменение» (1957) М.Бютора. 50
2.13. Умеренно напевная сонатина об убийстве и ожидании страсти. «Модерато кантабиле» (1958) М.Дюрас. 55
Глава вторая. Бурление и пороги текста. 59
3.1. Напряжение плаценты. «Натянутый канат» (1947). 59
3.2. Рамочные структуры как проблема теории и истории литературы. 67
3.3. Переступая порог книги. О названиях романов Симона. 70
3.4. Увеличительное стекло эпиграфа и периода. 78
Глава третья. 50-е годы: прорастание и разрастание письма. 82
4.1. Immobile a grands pas. «Гулливер» (1952). 82
4.1.1. Гулливер на глиняных ногах? 82
4.1.2. Влияния и бриколаж. «Гулливер» в разрезе. 84
4.1.3. В зеркале «Гулливера». 89
4.1.4. Исступлённое оцепенение страдания. 96
4.1.5. Женщины «Гулливера» и не только. 99
4.1.6. Поединок диалога и тщета речи. 105
4.1.7. Дождь, размывающий мир. На машине сквозь мрак и день. 109
4.1.8. Хронофобия. 113
4.1.9. Под сенью Фолкнера в цвету. 119
4.2. Искус нормы. «Весна священная» (1954). 123
4.2.1. Весна в декабре. Общая характеристика. 123
4.2.2. Система персонажей. 126
4.2.3. Два подростка. Страх женщины. 128
4.2.4. Хронофобия. 130
4.2.5. Пролегомены к этике. 136
4.2.6. Лиро-философские отступления «Весны» и «Ветра». 141
4.2.7. Портрет художника в юности. Преемство и пустота. 151
4.2.8. Путешествие на край сказа. Селин и Симон. 155
4.3. Стихия и первоэлементы: книга как п(р)орыв. «Ветер. 160
Попытка воссоздания барочного ретабло» (1957).
4.3.1. Деяния Монтеса Блаженного. 160
4.3.2. Минус-приём как основа книги. 166
4.3.3. Тематический и нарративный субстраты поэтики Симона: мыслесказ и а-пунктуационное письмо. 169
4.3.4. Портрет в раме. Образ и орнамент. 177
4.3.5. Имена как письмена и семена. 183
4.3.6. Мелос и драма «Ветра». Симон. Музыка. Театр. 187
4.3.7. Движения и состояния. 196
4.3.8. Время-солнце-ветер. Символизм первоэлементов. 203
4.3.9. Бальзак, Толстой, Достоевский, далее - без остановок. Влияние в метафору. 210
5 Заключение. 220
6 Библиография. 223
7 Приложения. 228
7.1 Приложение 1: Начала и концы. 228
7.2 Приложение 2: Три инципита. 237
7.3 Приложение 3: Лейтмотивы поэтики Клода Симона. 241
- «Поэтика Нового Романа»: а был ли мальчик?
- Напряжение плаценты. «Натянутый канат» (1947).
- Влияния и бриколаж. «Гулливер» в разрезе.
Введение к работе
Парадокс - едва ли не ключевое слово к судьбе и творчеству Клода Симона (родился в 1913 году). Один из старейших из ныне живущих писателей Франции, Нобелевский лауреат - единственный для французов за последние 30 с лишним лет - не пользуется особой любовью соотечественников. Почти единодушной реакцией на его Нобелевскую премию во Франции было недоумение. Сам писатель не был этим удивлён. Он всегда держался на особицу. Экстаз слияния, единения ему чужд, он всегда от всего дистанцируется - от родных, приятелей детства, юношеских политических симпатий, анархистов в Испании, от «товарищей по оружию» во время войны, - как рядовых, так и офицеров-аристократов, от подпольщиков-сопротивленцев, от собратьев-новороманистов и т.д.; он - всему причастен, но ничему не свой. Пожалуй, его воинское звание - brigadier (и не офицер, и не солдат) -сопровождает Симона не только на дорогах Фландрии.
Тем не менее, был в его жизни период, когда он на какое-то время вошёл в группу анархистов-разрушителей от литературы, школу Нового Романа. Взрыв и его эхо были сильно разведены во времени; к тому времени, когда новые романы пробились к публике (первая половина 60-х гг.), сами новороманисты были уже сложившимися авторами, некоторые из которых (Дюрас, Бютор) бурно отрицали свою принадлежность к Новому Роману. Это выглядит как ещё один, и далеко не последний, парадокс, но к началу 60-х гг., времени первых настоящих успехов, и без того достаточно виртуальная группа фактически развалилась. Инкубационный период, скрытый от не слишком любопытных современников мизерными тиражами и продажами первых книг, прошёл в интенсивной взаимной учёбе, в поиске каждым писателем своей манеры и своего материала. Возможно, именно это объясняет спокойную, некрикливую уверенность новороманистов в своей правоте, так раздражавшую оппонентов во время битвы за Новый Роман в первой половине 60-х гг. 50-е гг. привлекают наше внимание как время поисков и первых - таких важных! - удач, взаимной учёбы и общей борьбы за место под солнцем - своё, неповторимое для каждого из них. Одной из основных наших задач станет попытка показать, что как и для других новороманистов эти годы были для Симона временем прорастания - медленного, но неумолимого - и разрастания -бурного и неостановимого - его оригинального письма, с той разницей, что Роб-Грийе, Саррот, Дюрас или Беккет (в то время - бесспорный новороманист) прошли свой просколиум раньше. В то время получила известность фотография, запечатлевшая новороманистов у стен их цитадели - издательства «Минюи»: стоящие у стены люди, решительно глядящие в объектив. Менее известен неканонический, но очень характерный снимок, сделанный тогда же: та же мизансцена, но все они умудряются смотреть в совершенно противоположные стороны. Сбоку, особняком, стоит невысокий мужчина. Это -Клод Симон.
Именно такое место и занимал он в этой антишколе антиромана1. Роб-Грийе привёл его в «Минюи» и напечатал там симоновский роман «Ветер» (1957), из которого по его совету автор выбросил чужеродные включения, объясняющие то, что позже стало письмом Симона. Сам Симон, чрезвычайно скупой на положительные оценки и признания о влияниях, всегда восторженно отзывался о «Ревности» Роб-Грийе. Именно в «школе Минюи», в которую он вошёл, пройдя сквозь одинаково чуждые ему модели Сартра, Арагона, Мальро и других живых классиков, как в катализаторе началось бурное прорастание его собственного письма, уже не нёсшего на себе печать влияния любимых им писателей (Достоевского, Фолкнера, Селина и др.).
В центре нашего исследования - три романа Симона: «Гулливер»(1952), «Весна священная» (1954), «Ветер. Попытка воссоздания алтаря в стиле барокко»(1957). Парадокс в отношении критики к этим .произведениям заключается в том, что если кто и интересовался ими, так это были традиционалистские критики. Любопытно, что даже постоянно возрастающий интерес к творчеству Симона, особенно после присуждения ему в 1985 Нобелевской премии за его творчество в целом, не изменили радикально положения. Возможно, это объяснимо поразительным богатством творчества Симона (18 романов за 50 с лишним лет работы), его разнообразием, в котором не тесно структуралистам, традиционалистам и психоаналитикам.
Нет ни одной монографии о «Гулливере», «Весне священной» и «Ветре». Даже о «Траве» (1958) - великолепном, абсолютно зрелом романе есть только одна работа - книга Ж.Рубишу - образец виртуозного и добросовестного анализа, но формализм в духе Жана Рикарду делает её достаточно тенденциозной (так, например, «Трава» сравнивается с «Ветром» лишь постольку, поскольку это отвечает установке автора на интерпретацию «Травы» как самопорождающего текста, а о более ранних романах не говорится вовсе, так как «ретроспективный взгляд на эти произведения неизбежно оказывается
Ниже мы вернёмся для более подробного анализа к этим понятиям. чуждым всему тому, что составляет оригинальность мира К.Симона». Подобное отношение к ранним романам Симона сохраняется, хотя Рикарду и его последователи давно утратили монополию на анализ творчества Симона.2
Романы Симона 50-х, периода до «Травы», никогда не были объектом пристального внимания критики. Если автобиографическое эссе «Натянутый канат»(1947) изучается хотя бы как набросок к «Дорогам Фландрии»(1960) -самому известному роману Симона, то «Гулливер» - единственное раннее произведение Симона, никогда не переиздававшееся после первой публикации. Все исследователи сходятся в том, что т.н. центральный период его творчества начинается с 1958 года, с «Травы», но и о ней чаще всего говорят лишь как о трамплине к «Дорогам Фландрии». А ведь по собственному признанию автора, «Дороги Фландрии» родились как отросток «Травы», которому не нашлось места в этом романе!
Сам Симон, неохотно рассуждающий о своём творчестве вообще, говорит о своей постепенной эволюции, в ходе которой он учился на собственных ошибках, извлекая максимальную пользу из своих первых, «вполне традиционных» романов. Выражая своё несогласие с мнением о резком переломе, произошедшем в его письме в конце 50-х годов, Симон уверен в целостности всего написанного им и в необходимости для него этапа освоения повествовательных приёмов традиционного романа.
Эволюцию поэтики и письма Симона обычно представляют следующим образом: в 50-е годы - традиционный романист, выспренно и вымученно рассуждающий об истории, смерти, времени, последователь Фолкнера и Достоевского, пытающийся растить их семена на французской послевоенной почве, в 60-е - новатор, ищущий правды памяти и восприятий, в 70-е -решительный противник «реализма», автор самопорождающих(ся) текстов -любимого объекта исследований рикардистов. В 80-е и 90-е годы, вместе с постепенным - после экспериментов 70-х годов - возвратом к манере центрального периода, началась переоценка ранних романов Симона - хотя опять же, главным образом лишь «Травы» - и интерпретация их как богатого резервуара психологических, этических, стилистических, философских тем и лейтмотивов, не раз использованных впоследствии писателем. Даже такой, достаточно однобокий, подход, распространённый и на романы до «Травы», открывает простор для продуктивного анализа ранних произведений Симона. Нашей же целью будет попытаться показать, что мир романов Симона не приемлет никакого, даже самого доброжелательного, членения и дробления на периоды и манеры, и изучение его ранних книг может быть не менее, а иногда и более продуктивным, чем разбор его широкоизвестных произведений 60-х - 90-X годов.
Итак, 50-е годы были для Симона порой ученичества, накопления материала, наработки приёмов, как он сам говорит, используя близкую ему область конного спорта: «Прежде, чем взять барьер, мне надо было научиться сидеть на лошади». Одну из важнейших задач, стоявших перед ним в то время, некий критик остроумно назвал «художественным экзорсизмом». Симону предстояло преодолеть влияние Достоевского, Фолкнера, Сартра и, как ни странно, Бальзака. Когда началась битва за Новый Роман, в которой участвовали последующие произведения Симона, критика набросилась на его романы, перечитав ради этого и ранние: «Основная цель К.Симона состоит в уничтожении реально прожитого времени и в замене его каким-то другим. Он достигает этого различными средствами/.../. Но в связи с романами К.Симона неизбежно возникает вопрос, о котором невозможно не сказать: все приёмы, которые он употребляет, найдены им у Фолкнера, а точнее - в романах эпохи «Авессалома...»./.../Читая его романы, всегда испытываешь ощущение дурной пародии.».
Потребность соотнести его письмо с чем-то понятным и известным постепенно теряла актуальность для критики, для самого же Симона это произошло гораздо раньше, и это ещё одна важная причина, по которой «Гулливер» заслуживает изучения, как последняя, в целом неудачная, попытка написать полифонический роман в духе Бальзака и Достоевского с учётом опыта модного тогда американского «чёрного» и достижений сартровского романа. «Весну священную» можно интерпретировать как вполне получившийся молодёжный покетбук. «Ветер» станет вариацией фолкнеровского романа, с героем Достоевского в центре, удивительно гармоничным сочетанием традиции и поиска собственных форм письма.2
Время заимствований, подражания, влияний заканчивалось. От «Травы» -самого оригинального произведения 50-х годов, в котором мощно и буйно разрастается то, что в предыдущих романах лишь прорастало — начинается новая эпоха, в которой немалую роль сыграет то, что будет позже названо интертекстуальностью, и здесь мы опять встретимся со многими, претерпевшими значительные метаморфозы, но всё же узнаваемыми особенностями письма раннего Симона, через всё творчество которого проходит страсть ко всевозможным коллажам, тому, что он сам называет бриколаж.
Невозможно отрицать явные и многочисленные заимствования в ранних романах Симона, но разве не могло бы быть плодотворным их изучение именно в силу этой эксплицитности и откровенности, редких для такого скрытного писателя, как Симон, не любящего допускать посторонних в свою мастерскую? Тем более, что эти влияния не исчезли бесследно, продолжая оказывать продуктивное воздействие и на последующие его книги. Большинство лейтмотивов Симона в том или ином состоянии присутствует в этих книгах: трагизм времени, описания с отклонениями от нормативного, синтаксис, фотография как одномоментный срез жизни, пристальный интерес к истории, живописи, смерти, постоянное расширение, «растягивание» возможностей языка и осознание их ограниченности, напряжённый эротизм, внимание к этическим проблемам, воинственное безбожие, превращение фразы в энергетический центр всего письма, прорастание и разрастание как важнейшие фазы становления симоновского текста, завороженность идеей неподвижного, дискретного, циклического движения и многие другие.
Одной из наших задач является попытка показать, что эти романы интересно не только изучать, но и просто прочесть, что их эпигонский, незрелый характер - во многом миф. Так, «Гулливер» - реалистический роман с экспозицией, портретными, речевыми и психологическими характеристиками персонажей, добросовестная попытка создания полифонического романа с проработанной интригой и целостной философией. Но вместе с тем, при ближайшем рассмотрении становится ясно, что это - реалистический роман вывернутый наизнанку, своего рода огромный интертекст бальзаковско-сартрианского типа.
В частности, первая из тринадцати глав, несмотря на вызывающую нечто вроде оторопи монументальную традиционность, по своим задачам и месту в композиции всего романа, явно не соответствует целям экспозиции. Как бы воспринимался «Отец Горио», если бы госпожа Воке, по-хозяйски расположившаяся в экспозиции, не только бесследно исчезла бы в дальнейшем, но даже не упоминалась бы? Но именно это происходит у Симона, когда неспешно и размашисто описываемый герой (с рассказом о предыдущей жизни, мыслями, чувствами, поступками), уже воспринимающийся как главный, вдруг покидает страницы книги, унося с собой свою тайну и трагедию. И таких моментов в этой «эпигонской», по мнению критики, книге много.
Бросая ретроспективный взгляд на эти неровно написанные книги, начинаешь понимать, что Симон не следует за традицией, как слепец за поводырём, а скорее боксирует с ней, как начинающий, но хладнокровный боец, пытающийся бороться с опытным соперником на его территории и проводить удары при каждой его оплошности. Конечно, большей частью эти, нередко достаточно неуклюжие, попытки наполнить старую форму новым содержанием, терпят поражение, но возможно именно явная очевидность провала стала той силой, которая неуклонно толкала Симона вперёд в его работе, о которой он сам любит говорить как о поисках на ощупь.
Тайна этих романов Симона, их притягательность, даже с учётом определённой доли вторичности, кроется, возможно, в их патетической искренности, в том, что, будучи фактически первыми пробами пера, они, тем не менее, не были написаны юношей. Симон в 50-е годы - сорокалетний мужчина, испытавший горечь раннего сиротства, многое попробовавший, получивший приличное образование, многим увлекавшийся, особенно живописью, прошедший через искус социализма (был в СССР в самый разгар процесса над
Тухачевским), анархизма (принял участие в анархистском мятеже в республиканской Барселоне в 1936 году), кавалерист, по эскадрону которого в мае 1940 года прокатились танковые дивизии Роммеля, внимательный свидетель Сопротивления, хотя и здесь стоявший особняком, вечный нонконформист, отвергающий и капитализм, и социализм, эстет и исследователь реальной жизни «простых людей», не терпящий глубокомысленных многоглаголаний, хотя и злоупотребляющий ими подчас сам, особенно в «Гулливере».
В биографии и характере Симона, чертами которых он щедро наделяет героев этих романов, таится, возможно, и ключ к пониманию первостепенной особенности его мировоззрения и письма, в которых постоянно борются два начала: неослабевающий порыв к воле в нашем русском понимании слова и усмиряющая его воля автора - созидающая, структурирующая, терпеливая, требовательная. В романах до «Травы» борьба этих двух воль ещё не нашла гармоничных форм - порядок в хаосе1 - поражающих читателя зрелого Симона, но именно динамику этих поисков и было крайне интересно исследовать!
Нервный и энергетический центр симоновского текста, его основа и главная несущая структура - это фраза. Фраза-текст, фраза-вселенная, бесконечно длящаяся, пульсирующая, завораживающая. Её анализ даст ключ к пониманию его поэтики и письма. Ещё древними риториками было замечено капитальное значение «фраз-порогов», начинающих и завершающих текст. Именно поэтому анализ «увертюр» и «финалов», открывающих и завершающих текст фрагментов может быть не только весьма зрелищным, но и чрезвычайно полезным. Сами писатели всегда понимали огромное значение начала произведения, чего не скажешь о литературоведах. Даже термин, которым мы оперируем, не переведён, насколько нам известно, на русский язык и считается «термином палеографии», хотя он активно используется французскими литературоведами.
Вот ЧТО пишет об ЭТОМ Р.Жан: «Нет ничего более важного в романе, чем первая фраза: именно она приводит в движение книгу, «направляет» её, иногда даже резюмирует или даже заранее «воспроизводит» её всю. Фраза-порог - это, к тому же переход от молчания к слову, от того, что «до» к тому, что «после», от отсутствия к произведению, от небытию к бытию. /.../ Первая фраза повествования - это всегда вход в некое новое лингвистическое
3 пространство, в романное поле, всплытие на поверхность повествовательного слова».
Добавим, что для Нового Романа вообще и для Симона в частности инципит имеет не только не меньшее значение, чем для традиционного романа (вспомним хотя бы бальзаковские или толстовские начала), но, возможно, и большее - в силу своей «инаковости», непохожести на то, к чему читатель привык, и следовательно, он по необходимости несёт в себе, наряду с самим текстом, некие правила о том, как этот текст следует читать. Таким образом, читатель, хочет он того или нет, должен, хотя бы на первых страницах книги, стать литературоведом (заветная мысль Барта и прочих телькелистов рикардистов о стирании граней в триаде писатель-критик-читатель), чтобы уяснить, что и как хочет сказать ему текст.
Приступая к данной работе, мы наложили на условия её выполнения ряд ограничений. Во-первых, говоря о поэтике Симона в целом, мы пытаемся исследовать её на примере только трёх романов, исходя из их очевидной «недоисследованности» симонистикой и богатых возможностей такого анализа, что вовсе не исключает пристального внимания к другим его произведениям и вписывается в нашу концепцию присутствия - хотя бы в эмбриональной форме - всех важнейших составляющих поэтики и письма Симона в его ранних романах и позволяет исследовать - и синхронически, и диахронически - его творчество как динамичный, эволюционирующий, открытый процесс.
Во-вторых, по мере втягивания в материал, мы были вынуждены отказаться от попытки интерпретации творчества Симона как неотъемлемой части поэтики Нового Романа, о чём пойдёт речь в первой главе. В-третьих, нам показалось важным и интересным опробовать тот инструментарий, который оказался в наших руках при изучении творчества Симона и теории литературы вообще, что мы и сделали через текстуальный анализ-прочтение (как это называет Ц.Тодоров) рамочных структур практически всех романов Симона, попытавшись увидеть в них, как в капле, воды всю мощь и очарование его поэтики, богатство и парадоксальное разнообразие приёмов его письма.
В-четвёртых, разрастание нашего исследования стало причиной отказа от подробного анализа «Травы» как этапной, пороговой книги,1 вершины и квинтэссенции поисков Симона в 50-е годы. Тем не менее, сквозь всю нашу работу проходит эта идея, подтверждение и разработка которой потребуют от нас, как мы поняли, вплотную подойдя к этому, объёма, сопоставимого со всем уже написанным. С другой стороны, невозможность развёрнутого рассмотрения романов 50-х годов как некоего подножия «Травы» пошла, думается, на пользу их анализу как самодостаточных произведений. Всё это и определило общую структуру нашей работы.
В первой главе делается попытка очертить контуры поэтики Нового Романа на основе произведений 50-х гг. Натали Саррот («Планетарий», 1959), Алена Роб-Грийе («Ревность» 1957, «В лабиринте», 1959), Мишеля Бютора («Изменение», 1957), Маргерит Дюрас («Модерато кантабиле», 1958), в её связи с основными, ключевыми понятиями поэтики К.Симона, которые затем будут подробно проанализированы. Мы выдвигаем предположение о 50-х годах как чрезвычайно интересном для любых компаративистских и синтезирующих исследований Нового Романа периоде, когда новороманисты оказывали наибольшее влияние друг на друга, давая тем самым единственный и никогда более не повторившийся повод говорить о них как о школе.
Вторая глава призвана решить несколько несходных задач, общая цель которых - подготовка к подробному и всестороннему анализу трёх романов 50-х годов. Довольно быстро поняв, что анализ романов 50-х годов не может быть основательным без изучения «Натянутого каната» (1947), мы решили начать нашу работу со знакомства с этой своеобразной и практически не изученной книгой.
Не менее необходимой для целостного, синтезирующего, диахронического взгляда на поэтику Симона в 50-е годы нам кажется попытка выявить некие лейтмотивы симоновской поэтики вообще, предпринятая нами в Приложении 3. Этим мы хотели направить вектор нашей работы от простой интерпретации текста в сторону более широких теоретических обобщений. Практической проверкой общих выводов станет анализ рамочных структур почти всех романов Симона, представленных в Приложении 1. Во второй главе преобладают диахронические тенденции и делается попытка показа поэтики Симона в её динамической эволюции. Здесь ставится проблема влияний, творчество Симона сопоставляется с предшественниками, современниками и антагонистами, показывается социокультурный контекст творчества Симона в 50-е гг., без представления о котором вряд ли возможно адекватное понимание его поэтики. Важно и то, что наша работа - фактически первое исследование творчества Симона на русском языке, и потому значение этой главы и Приложений как опыта панорамного обзора всего Текста Симона понятно и, надеемся, оправдано.
В третьей главе, посвященной прорастанию и разрастанию письма Симона в трёх романах 50-х гг., разбираются основные источники и потоки его поэтики не только в этот период, а вообще, в их динамике и эволюции (что делается на основе выводов и результатов, полученных в первой и второй главах), но через синхронический срез 50-х гг. Общетеоретические положения, заявленные в предыдущих главах, подробно анализируются здесь через их проявление в конкретных текстах. Если в предыдущей главе делается попытка очертить общие контуры поэтики Симона как процесса, то в этой главе мы изучаем то, как этот процесс проявился в конкретных романах 50-х годов.
Заключение подводит некоторые итоги всей нашей работы, расставляя акценты на самых важных её результатах. Приложение 1 позволит нам окинуть одним взглядом представленные в хронологической последовательности плоды полувековой работы Симона в литературе и сосредоточиться на основных проблемах хотя и сложного, противоречивого, многогранного, но единого симоновского Текста. Необходимость именно такого - синтезирующего -подхода к своему творчеству неоднократно подчёркивал сам Симон в ответ на попытки вычленить и противопоставить некие периоды или манеры в его методе. В ходе этой работы, опираясь на Приложение 3, мы продолжили анализ ключевых понятий и лейтмотивов поэтики и письма Симона.
Таким образом, мы пытаемся взглянуть на нашу проблему с точки зрения как диахронии, так и синхронии, чтобы увидеть не только масштабы и темп непрерывных трансформаций, но и их конкретные условия и последствия. Думается, что продуктивность подобного синтезирующего подхода перевешивает его неизбежные недостатки: определённую громоздкость, пестроту, ветвящуюся, многовекторную направленность мысли и текста.
«Поэтика Нового Романа»: а был ли мальчик?
Можно ли утверждать, что 50-е годы были золотой порой французского Нового Романа? Ведь общепризнан тот факт, что успех пришёл к новороманистам в 60-е годы, а теоретическое осмысление их творчества (если не считать книг Саррот и Роб-Грийе, более близких жанру эссе) связано с деятельностью Рикарду и его последователей во второй половине 60-х - первой половине 70-х годов. В фундаментальной «Истории французской литературы. 1945-1990»2, Новый Роман включён в раздел о литературе 60-х годов. Тем не менее, именно первая волна новых романов, поднявшая бурю негодования и уничтожающей критики со всех сторон, вошла в историю литературы не как факт литературной хроники, а как весьма незаурядные произведения, едва ли не самые удачные выражения письма своих авторов. Романы Алена Роб-Грийе «Ревность»(1957) и «В лабиринте» (1959), Натали Саррот «Планетарий» (1959), Мишеля Бютора «Изменение» (1957), Маргерит Дюрас «Модерато кантабиле»(1957) хотя бы по названиям известны всем, кто интересуется современной французской литературой. Они продолжают оставаться в поле зрения критики, появляются всё новые их анализы и интерпретации. Кроме того, именно этот период, когда новороманисты в борьбе за место под солнцем были вынуждены сплотиться и оказывали бесспорное влияние друг на друга в ходе выработки каждым из них своей собственной поэтики, является по-видимому наиболее подходящим для попыток выделения и изучения некой общей «поэтики Нового Романа».
Вспомнив фото, где все новороманисты глядят в разные стороны (точнее -каждый в свою), легко догадаться, что сами они довольно прохладно относились к разговорам о некой объединяющей их (принуждающей к объединению - в их понимании) поэтике, причём для того, чтобы понять это, не надо было ждать 30 лет romanesques Роб-Грийе, где он рассказал, как они с Н.Саррот задумали «преступный синдикат» писателей-отщепенцев, в котором разность и разнонаправленность поисков его участников должны были стать залогом общего успеха в начинавшейся бескомпромиссной борьбе1. Тогда же об этом не раз писали Симон, Бютор, да и сам Роб-Грийе. Но подобная многовекторность была в диковинку. Критики (и сочувствующие2, и недоброжелатели3) приложили много усилий, пытаясь (для вящей иллюстративности или дидактичности) представить Новый Роман как нечто целостное4 (богатое своими разнонаправленными возможностями или саморазрушительное в конвульсиях непримиримых взаимных противоречий), но к середине 60-х гг. стала ясна бесперспективность этих попыток.
Во второй половине 60-х гг. взошла звезда рикардизма. Жан Рикарду предложил новый, не традиционный инструментарий для анализа Нового Романа. Отношения новороманистов и рикардистов - плодотворные для обеих сторон, необходимые в обстановке обструкции, непонимания или, что раздражало сильнее всего, искажённого понимания - разительно напоминают симбиоз наших футуристов и Серапионов с ОПОЯЗом, когда писатели опираются на идеи теоретиков, которые, в свою очередь, черпают в их произведениях материал для исследований.5 Организованные Рикарду в Серизи коллоквиумы, посвященные проблемам Нового Романа и его отдельным представителям, стали вехой и до сих пор не оскудевшим источником плодотворных идей для изучения Нового Романа как единого целого. Но этот союз во второй половине 70-х гг. распался не только по причине авторитарных поползновений Рикарду, но и из-за самих новороманистов, у которых любые центростремительные тенденции всегда порождали идиосинкразию. Последняя масштабная попытка синтезировать достижения и проблемы Нового Романа отошла в прошлое.
Показательно мнение Ж.-К.Варея, разделяемое и многими, пытавшимися в последние годы делать некие обобщения на тему Нового Романа: «Эта этикетка -«Новый Роман» - выглядит теперь странно. Она ещё имела какой-то смысл в 1970-1975 гг., во времена знаменитых коллоквиумов в Серизи; но теперь, 15 лет спустя, она его практически утеряла. Такое впечатление, что/.../после избавления от псевдо-истин с их авторитарным запалом и распада группы, писатели, оставшиеся верными издательству «Минюи» - Симон, Роб-Грийе, Пенже - следовали с лёгкой душой своим собственным путём, не будучи отныне
принуждены сводить его к общей прямой дороге, своего рода наименьшему, поневоле редукционистскому, общему знаменателю».
Означает ли это, что «поэтика Нового Романа» - миф, схема, которая при малейшей попытке наполнения конкретным содержанием, разваливается под тяжестью имманентных противоречий? Не хотелось бы давать однозначный ответ на этот вопрос. Лучше, памятуя о том дружном неприятии, которое любое категоричное утверждение встречало у новороманистов, будем исходить из того, в чём они сами всегда были согласны друг с другом: их объединила невозможность для них традиционного письма и попытки противопоставить ему что-то иное. Пожалуй, лишь это можно постулировать, не рискуя впасть в догматичный схематизм традиционалистов или умозрительный геометризм в духе Рикарду. Остаётся посочувствовать учёному, который поставит перед собой задачу добросовестно исследовать «поэтику Нового Романа» в силу её чрезвычайной динамичности, протеевской изменчивости3, противоречивости, царящего в ней духа дополнительности, когда ни одно утверждение не перечёркивает и не отменяет другое, противоречащее ему, но дополняет его.
Следует принять во внимание и другую важнейшую особенность «поэтики Нового Романа», роднящую её, на наш взгляд, с романтизмом: её открытость всему новому, необычному. Отсутствие предписывающего эстетического кодекса имело следствием вторжение на любые, бывшие до того табуированными, смежные или удалённые территории (кино, живопись, мемуары, эссе, драма, музыка), в том числе во владения заклятого антагониста -«реалистического искусства», спокойное использование в своих целях, причём вовсе не обязательно пародийных, его эстетики и инструментария, предвосхитившее во многом постмодернизм, который, как известно, по определению не сводим к какой-то однозначной монолитной поэтике. В этой связи попытки составления неких обобщающих таблиц, «иерархических структур» наподобие той, что представлена А.Ф.Строевым4 в уже упоминавшейся монографии о послевоенной французской литературе, не представляются удачными.
Напряжение плаценты. «Натянутый канат» (1947).
«Морис Мерло-Понти защищал «Натянутый канат», говоря, что в нём уже есть всё то, что проявится впоследствии». В рикардистском приношении Симону - материалах коллоквиума в Серизи -«Натянутому канату» уделено меньше четырёх страниц из четырёхсот. Вывод А.Дункан в отношении ранних романов категоричен: «Романы до «Ветра» качественно слабее последующих». И как бы оправдывая свою безапелляционность, она добавляет: «Начиная с «Ветра» работа Симона достигает такого уровня сложности, при котором любое суждение должно оставаться предварительным и неокончательным». Логика Дункан ясна: любители постулировать могут чувствовать себя спокойно лишь на просторе условно-ресишстских произведений до «Ветра», выпадающих из сферы интересов формального анализа в духе Рикарду. Согласившись со второй половиной высказывания Дункан, можно, думается, сказать, что пришло время дифференцированного и нюансированного подхода и к ранним симоновским романам.
В этой же статье Дункан делает следующее замечание: «Симон стал тем, кто он есть в результате последовательных, но наползавших друг на друга этапов: традиционный писатель, одержимый темой истории, писатель в духе Фолкнера, настойчиво ищущий недостижимого реализма памяти и восприятий и, наконец, автор решительно антиреалистских текстов, погрузившийся в исследование возможностей языка. Обстоятельный разбор этой эволюции ещё предстоит сделать». Мы уже замечали, что рикардизм трактовал творческий путь Симона как неуклонное и необратимое продвижение к высотам формализма, и сама Дункан предпочитает вместо эволюции говорить о прогрессирующем развитии. Забавный факт: рикардистская оценка эволюции Симона абсолютно совпадает со взглядом на эту принципиальную - одну из важнейших! - проблему их антагонистов - традиционалистов.
Если говорить серьёзно, то в заметке Дункан - одной из тех исследователей 70-х годов, которая наряду с Дэлленбаком, благополучно пережила детскую болезнь рикардизма - есть бесспорное замечание о наползании последовательных этапов эволюции письма Симона, которое нам хотелось бы развить. Для себя мы назвали это текстуальным осмосом, который проявляется не только на уровне письма, но и на более общем уровне взаимоотношений Текста и Биографии писателя. Для его характеристики мы используем ещё одно условное понятие: автобиографизация письма. Прорастание этого феномена началось с самых первых книг, и самое яркое его проявление у раннего Симона - это, конечно, «Натянутый канат», книга открыто автобиографичная, полемичная, идейно и идеологически перегруженная. «Натянутый канат» вполне мог бы подойти под разряд книг-эссе, если бы не одно обстоятельство.
Мы сознательно не начали с разбора художественных достоинств этой книги, в отношении которых в симонистике бытует устоявшийся скептицизм. Процитируем опять Дункан: «/.../ этой своей стороной - вымученной выспренностью -«Натянутый канат» напоминает первые романы Симона, вспомним хотя бы тирады отчима в «Весне священной»/.../». Подобное отношение было тем более распространённым, что поощрялось самим Симоном, у которого идея серьёзного анализа его ранних книг всегда встречала более или менее явное неприятие. Но одновременно он не переставал утверждать, что в его развитии как писателя не было никаких рывков, переломов, и он не отказывается ни от.одной своей книги.1 Думается, что причиной такого парадоксального отношения к своим ранним книгам (нежелание говорить о них, и в то же время отказ признать их художественно несостоятельными) мог бы быть их откровенно автобиографический характер.
«Натянутый канат» построен в сказовой форме очень откровенного, исповедального разговора повествователя2 с читателем, от которого настороженный и запальчивый автор постоянно ожидает каких-то подвохов, возражений. Возможно, именно эта юношеская, нередко чрезмерная и неуместная, откровенность и стала истинной причиной замалчивания «Каната». Известно, что раздражённый человек способен высказать самые неожиданные-в том числе и для него самого - вещи. А повествователь «Каната» пребывает в постоянном, напряжённом раздражении. На это можно бы возразить, что Симону вообще присуща большая, чем многим писателям, откровенность. Но это иная, нежели в «Канате», откровенность. Искренность «Каната» - такая человеческая, уязвимая - оборотная сторона скрытности Симона. Именно это, а не вполне очевидные художественные несовершенства, лежит, на наш взгляд, в основе симоновского непоощрения интереса к его ранним романам. В определённом смысле, pendant ом «Натянутому канату», как нам кажется, могли бы быть «История» (первое, после «Каната» демонстративно автобиографическое произведение Симона) и «Акация» с её явным и осознанным психоаналитическим субстратом погружения в себя, вместе с которыми она образует некий триптих, объединённый темами автобиографии, творчества, напряжённых этических и исторических размышлений и конечно же - образом акации в ночи.
Внутреннему тематическому и проблемному напряжению соответствует крайнее (даже, возможно, чрезмерное - как и многое другое в этой книге) напряжение, натяжение самой формы, с трудом удерживающей в себе всё то бурление приёмов и средств воплощения в письмо, которое автор с какой-то горячечной поспешностью стремиться вместить в эту скромных размеров книжку. По своей постоянно готовой прорваться напряжённости «Канат» сопоставим лишь с самым амбициозным проектом раннего Симона «Гулливером». Но «Гулливер» в два с лишним раза толще, и это напряжение натяжения1 в нём слабее, чем в «Канате», в котором поэтика и письмо Симона предстают в виде прорастающего семени, зародьппа: непропорционального, \ иногда до уродливости растения, без цветов, плодов и коры.
Влияния и бриколаж. «Гулливер» в разрезе
Первое, что бросается в глаза - мрачная и угрюмо-однообразная тональность книги. Даже на безрадостном фоне мира романов нашего автора, в котором нет места любой весёлости, «Гулливер» зияет зловещей чёрной дырой. Вот какую характеристику даёт «Гулливеру» Д.Флетчер, уделивший в своей монографии Симону 13 страниц, в т.ч. - 3 страницы - разбираемому нами роману: «Гулливер» - /.../это длинный, мрачный и несколько усложнённый роман, действие которого происходит в оккупированной Франции {не совсем так: основное действие происходит (и это один из тех парадоксов, к которым всегда был склонен Симон) в неопределённой, мутной атмосфере после освобождения Франции (осенью — зимой 1944 года), но до полного краха Германии - АВ) и описывающий терроризм {вот уж чего нет так нет, если только не считать таковым партизанские действия — АВ), гомосексуализм {эта тема называется, но почти не показывается - АВ), предательство других и самого себя; всё это свободно монтируется вокруг обречённой любви Макса и Элианы в мрачной зимней атмосфере. Фабула и тон странно напоминают довоенные французские фильмы вроде «Набережной туманов» и «День начинается»: мы находим тот же показ люмпенских классов, старомодную одежду и автомобили {несмотря на весь реализм, Симон здесь, как нам кажется, ни разу не описывает одежды героев, а главная машина книги (чуть ли не персонаж:) — массивный «Мерседес» Макса, главного героя - АВ), ночь и туман, рассказ о безнадёжной любви и перестрелки».
Флетчер пишет, что, несмотря на первое использование Симоном флоберовского приёма с participe present, стиль книги «основывается на модели американских романов, использованной многими французскими писателями в начале 50-х годов: унылое однообразие, отстранённый показ жестокостей с сильным налётом сленга». Далее Флетчер говорит о попадающихся замечательных фрагментах дотошных описаний, в которых «визуальные, звуковые и обонятельные ощущения скомпонованы так, чтобы создать изображение ирреальное и одновременно гиперреалистическое; многие уникальные особенности «Дорог Фландрии» берут, очевидно, начало здесь».
Мы столь подробно процитировали едва ли не единственного критика, нашедшего в «Гулливере» хоть какой-то материал для анализа только для того, чтобы стал понятен уровень отношения к этому роману. В раз и навсегда определённой иерархии симоновской романистики «Гулливеру» не отведена даже та не очень привлекательная, но достойная уважения (и интереса!) роль гумуса, которой удостоился «Канат». «Гулливер», с этой точки зрения, - это тупиковый аппендикс, из которого был лишь один путь - назад, что Симон и сделал в «Весне». Подобную интерпретацию своих мучительных исканий первых двух третей 50-х годов не раз поддерживал и сам Симон.2
Вот как он припечатывает «Гулливера» в интервью 1977 года: «Кроме «Гулливера», который был очень слабой книжкой (я был молод и под впечатлением критики, которая единодушно, за исключением М.Надо, изрубила в капусту «Шулера», решил доказать, что и я могу написать традиционный роман... Ну и что, я и получил доказательство, и это стало очень полезным уроком для меня: стало ясно, что я этого не могу!/.. ./Итак, кроме «Гулливера» никогда не было никаких разрывов, но была прогрессирующая эволюция. /.. ./мало-помалу, пытаясь не повторить в книжке, которую пишешь, ошибок, допущенных в предыдущей...». Здесь можно возразить: хорошо, можно быть несогласным с отрицательной оценкой и рикардистов, и традиционалистов - из-за тенденциозности, но как быть с приговором самого автора? Думается, что иногда не только можно, но и должно не соглашаться с автором в оценке его произведений (классический случай в нашей литературе - казус Гоголя или позднего Толстого). Кроме естественной для автора повышенной требовательности, из-за которой он не может воспринимать произведение как законченное и всегда видит в нём то, что не довыписалось, не довоплотилось (вспомним такие странные и закономерные в устах нашего автора-перфекциониста высказывания, что роман кончается единственно из-за усталости от него автора и ещё, что каждый (каждый!) роман оказывается в конечном итоге разочарованием), следует принимать во внимание, что писатель может иметь личные - психологические или творческие - причины, чтобы не поощрять интерес к той или иной своей книге, о чём мы уже говорили в связи с «Канатом». Не следует сбрасывать со счетов и крайний формализм Симона в 70-е годы, когда давалась эта оценка - формализм, парадоксально разрешившийся после шестилетнего молчания - одной из самых долгих пауз у зрелого Симона - «Георгиками», ставшими в определённом смысле сменой вех в поэтике нашего автора.
Нам бы не хотелось быть понятыми так, что все, включая автора, считают «Гулливера» плохим, а мы топаем ножкой и твердим обратное. В скромных художественных достоинствах книги может убедиться любой, кому хватит терпения прочесть её. Но поставив задачу подняться к истокам симоновской поэтики и понять её во всём парадоксальном, трудно охватываемом, взглядом, хаотическом бурлении, потаённых глубинах и звенящей, гулкой пустоте -невозможно, дойдя до обжитых (если не сказать - вытоптанных) - берегов «Дорог Фландрии» - не пойти дальше. Да, пейзаж меняется, река становится мельче и уже, вода мутнеет из-за посторонних влияний, на берегах растут непривычные растения и живут странные обитатели, но это та же самая река.
Опыт построения сюжета, наработанный здесь, без сомнения, послужил позже в «Весне» (где он был использован с максимальной отдачей и очень умело), в «Ветре» (хотя здесь уже начинался распад сюжета как несущей конструкции романа) и даже в «Траве», чья сюжетная когерентность (не очень ощутимая сама по себе), становится видна при сравнении, например, с «Историей» - уж точно книгой ни о чём. Симоновское сочетание событийного, нарративного и метафорического мудрования - в ещё не окончательных пропорциях, в эмбриональном виде, неуравновешенное, но уже наличное -началось здесь. Превращение фразы из шпалы под рельсами сюжета, по которым мчится поезд с персонажами, в то, что Рубишу назвал evocation - тоже берёт своё начало всё-таки здесь (в «Канате», как мы уже видели, - это было фрагментарно, на правах лирической прозы, вполне обычной в жанре эссе). Ещё одна яркая черта зрелого Симона проистекает отсюда - неповторимое и на первый взгляд невозможное сочетание дробного, фрагментарного и эпического, хаоса, арифметики и мощного созидающего порыва. Ну и разумеется, целый ряд симоновских проблем весьма интересно преломляется в традиционных романных рамках, хотя «Гулливер» и не является совершенно традиционным романом, как мы увидим чуть ниже.