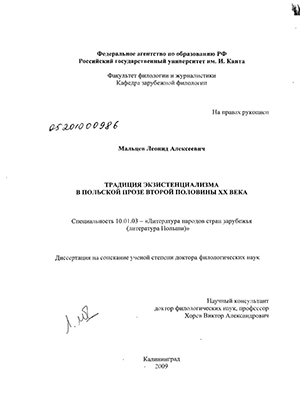Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Проблематика польского экзистенциализма 40
1.1. Экзистенциальная проблематика и польская романтическая традиция 40
1.2. Мир межчеловеческих отношений и восприятие инфернального мира в творчестве В. Гомбровича 53
1.3. Категории «трагической» и утопической надежды в творчестве Е. Анджеевского 101
1.4. Дуализм «светской» и «духовной» веры в концепции Г. Херлинга-Грудзиньского 146
Глава 2. Дневник как форма экзистенциального самовыражения (В. Гомбрович, Е. Анджеевский, Г. Херлинг-Грудзиньский) 188
2.1. Дневниковая проза и экзистенциализм: жанровые модификации дневника 188
2.2. «Дневник» В. Гомбровича: образ «я» и реформа жанра 195
2.3. «День за днем» и «Игра с тенью» Е. Анджеевского: концепция «литературного дневника» 229
2.4. «Дневник, писавшийся ночью» Г. Херлинга-Грудзиньского: рефлексия над жанровой традицией 257
Заключение 287
Список использованной литературы
- Мир межчеловеческих отношений и восприятие инфернального мира в творчестве В. Гомбровича
- Категории «трагической» и утопической надежды в творчестве Е. Анджеевского
- «Дневник» В. Гомбровича: образ «я» и реформа жанра
- «Дневник, писавшийся ночью» Г. Херлинга-Грудзиньского: рефлексия над жанровой традицией
Введение к работе
Актуальность и научная новизна работы. В центре нашего внимания находится проблема границ и специфики польского экзистенциализма, вопрос о том, какие аспекты этого направления литературы и философии близки польским писателям и, следовательно, какая национальная модель экзистенциализма как литературного направления представляется возможной. Актуальность работы обусловлена тем, что польские литературоведы (А. Сандауэр , С. Моравский , В. Шидловская , М. Янушкевич ) ставят вопрос о существовании «польской формулы экзистенциализма», но не предлагают исчерпывающего решения этой проблемы. В российской полонистике вопрос о месте экзистенциализма в польской культуре не ставился: отсутствуют специальные работы на эту тему. Учитывая значительное место экзистенциализма в европейской культуре, определение польского отношения к этому литературно-философскому явлению представляется существенным для дополнительной характеристики литературного процесса ПНР и польской эмиграции второй половины XX века. Научная новизна работы заключается в том, что она является первым в России опытом исследования творчества польских писателей в их диалоге с западноевропейским и русским экзистенциализмом.
Предмет и объект исследования. Обращение польской культуры к традициям экзистенциализма предполагается рас-смотреть на примере творчества ведущих мастеров национальной прозы: Витольда Гомбровича (1904–1969), Ежи Анджеевского (1909–1983) и Густава Херлинга-Грудзиньского (1919–2000). Предметом является традиция экзистенциализма, объектом – польская проза второй половины XX века, творческое наследие трех упомянутых писателей.
Содержание терминов. Традиция рассматривается нами как фактор преемственности и единства литературного развития, взаимосвязанный с индивидуальным творческим опытом писателя. Традиция экзистенциализма сложилась в результате возникновения этого литературно-философского направления в XIX веке (Кьеркегор, Достоевский, Ницше) и его расцвета в 1930–1950-е гг. (Бердяев, Шестов, Хайдеггер, Ясперс, Сартр, Камю), когда экзистенциализм осуществил своего рода мировоззренческую революцию. В польской культуре экзистенциалистская рефлексия связана большей частью с 1950–1960-м годами, т. е. со временем, когда экзистенциализм стал осознаваться как уже сформировавшаяся традиция европейской культуры.
На первый взгляд, экзистенциализм ориентируется на субъективный опыт и ставит традицию под сомнение, провозглашая «переоценку ценностей» и даже попытку начать с нуля. На эстетическом уровне это выразилось в авангардной поэтике литературного экзистенциализма. Но, по сути, экзистенциализм восходит к традициям философской мысли прошедших столетий, например, к философии Августина, Паскаля, опирается на традиции литературы XIX века, в том числе русской (Достоевский, Чехов, Толстой). Экзистенциалисты обращаются к традиционному опыту мировой культуры: к античному мифу (интерпретация мифа о Сизифе в творчестве Камю), к «библейскому тексту» (интерпретация Книги Бытия и Книги Иова у Кьеркегора).
В философских и литературоведческих работах имеет место сосуществование и даже взаимозамена терминов «экзистенциальный» и «экзистенциалистский». «Экзистенциальное» (производная от «экзистенции») в нашем понимании означает все связанное с духовным опытом человека, с трудноразрешимыми вопросами его жизни, экзистенциалистский (производная от «экзистенциализма») – то, что имеет отношение к литературно-философской интерпретации экзистенциальной проблематики.
Выбор в качестве объекта исследования творчества Гомбровича, Анджеевского и Херлинга-Грудзиньского определяется тем, что в польской прозе второй половины XX века эти три писателя сыграли своеобразную, исключительную и принципиально отличную друг от друга роль. Полярными явлениями в польской литературе являются Анджеевский и Гомбрович. Если Анджеевский до войны стал ведущим представителем «неокатолической» прозы, то Гомбрович, напротив, демонстрировал несостоятельность любых догматов, был мастером «срывания масок». В то время, когда Анджеевский стал ведущим представителем литературы социалистической Польши, полузабытый Гомбрович жил в далекой Аргентине; сейчас, наоборот, Гомбрович становится одним из «властителей дум», Анджеевский занимает менее заметное место: незамеченный 100-летний юбилей писателя в 2009 году свидетельствует о том, что творчеству Анджеевского уделяется недостаточно внимания в современной Польше.
Различие философско-эстетических принципов творчества Гомбровича и Херлинга-Грудзиньского обусловлено модернистским бунтом Гомбровича, с одной стороны, и традиционалистской эстетикой Херлинга, с другой, однако общим моментом является то, что в творческой судьбе обоих писателей важную роль сыграл факт эмигрантского обособления.
Различие творчества Анджеевского и Херлинга-Грудзинь-ского определяется, с одной стороны, эволюционной гибкостью Анджеевского, его идейно-политическими метаморфозами и художественной эволюцией, а с другой, постоянством идеологических и эстетических взглядов Херлинга-Грудзиньского. Однако это различие не определяет диаметральную противоположность позиций двух писателей. На миросозерцание Анджеевского 1930-х гг. оказала влияние доктрина католического персонализма Жака Маритена . В 1930-е гг. Херлинг-Грудзиньский был близок той же традиции, о чем обоснованно пишет Г. Борковская .
Среди трех рассматриваемых писателей с наибольшим правом писателем-философом можно назвать Гомбровича. Интерес Гомбровича к философии выражен в «генеалогическом древе» философов, нарисованном в 1954–1955 году. «Ствол» философического древа на этом рисунке обозначен именем Кьеркегора – центральной фигуры экзистенциализма. Незадолго до смерти в 1969 году Гомбрович продиктовал Рите Гомбрович и Доминику де Ру незавершенный «Курс философии за шесть с половиной часов», в котором значительная часть лекций была посвящена экзистенциализму. По проблеме связей Гомбровича с экзистенциализмом, например, о параллелях с Сартром, Камю, Бубером писали А. Сандауэр, Р. Баррили, Е. Франчак .
Анджеевский и Херлинг обнаруживают, несомненно, меньшую, чем Гомбрович, философскую эрудицию. Анджеевский признается: «Сознание мое сконструировано так, что оно всегда плохо усваивает философию в точном смысле слова. […]. Я умею мыслить только образами» . Автор «Врат рая» высказывается категорически против приписывания ему каких-либо «философских интенций» . Однако литературоведы часто говорят о философичности творчества Анджеевского, возможно, не до конца осознаваемой автором. Христианскую «родословную» экзистенциализма по Анджеевскому предполагает В. Мачонг: «Механизм пребывания в «пронизывающем одиночестве» вечного беспокойства от неисполненного долга связывает Анджеевского с христианским экзистенциализмом…» . Противоположную точку зрения высказывает Я. Блоньский, говоря о переходе писателя от христианско-догматической картины мира к «романтическому манихеизму» .
Как и Анджеевский, Херлинг-Грудзиньский далек от чисто философской проблематики, что не препятствует категоричности его суждений о философах: «Нет у меня солидного философского образования (я вообще не люблю философов)» . Однако Херлинг как писатель интересовался биографиями философов, он создавал «портреты философов» как оригинальную жанровую разновидность рассказа-эссе . Пока что в Польше нет работ на тему «Херлинг-Грудзиньский и философия», в частности об экзистенциалистских контекстах творчества писателя. О мировоззренческом родстве Херлинга с экзистенциализмом Камю справедливо пишет М. Янион: «Понимание трагического состояния человеческой природы приближает Херлинга-Грудзиньского к экзистенциалистскому героизму Камю, но вместе с тем не лишает его приобретенной с личным опытом оригинальности как в польской, так и в европейской литературе» .
В отечественной полонистике Гомбровичу и Анджеевскому уделено больше внимания, чем Херлингу-Грудзиньскому. В 2006 году вышел сборник «Витольд Гомбрович в европейской культуре» под редакцией В.А. Хорева и М.В. Лескинен, в который вошли работы шестнадцати авторов. О различных аспектах творчества Гомбровича пишут А.Б. Базилевский, С.В. Клементьев, Н.В. Злыднева, О.Р. Медведева. Творчеству Анджеевского посвящены работы Е.З. Цыбенко, В.А. Хорева, С.Ф. Мусиенко, В.В. Британишского, С.В. Клементьева, А.М. Байздренко. В кандидатской диссертации А.А. Савельевой «Эволюция прозы Е. Анджеевского после 1956 года. Особенности жанра и стиля» (2007) осуществлен подход к творчеству Анджеевского с точки зрения его художественной эволюции. О польской «лагерной прозе», в том числе о Херлинге-Грудзиньском, пишет В.Я. Тихо-мирова. Авторами отдельных статей об этом писателе являются И.Е. Адельгейм и О.В. Цыбенко. Автору настоящего исследования принадлежит кандидатская диссертация «Жанровая система творчества Г. Херлинга-Грудзиньского: эпические жанры и дневник-хроника» (2001), в которой проведен системно-структурный анализ творчества писателя вне экзистенциалистских контекстов.
Цель работы – постижение традиции экзистенциализма в польской литературной проекции. Задачи исследования: 1) сравнительно-сопоставительное изучение экзистенциальной проблематики творчества В. Гомбровича, Е. Анджеевского и Г. Херлинга-Грудзиньского; 2) сопоставление творчества изучаемых прозаиков с наследием писателей и философов, составляющих традицию экзистенциализма в Западной Европе и России; 3) определение экзистенциалистских контекстов польской литературы «человеческого документа», выявление особой значимости жанра дневника для становления традиции экзистенциализма в польской литературе.
Методологическая, теоретико-литературная и историко-литературная основа исследования. Осуществлен междисциплинарный подход к решению проблемы, опирающийся на принцип комплексного исследования и включающий литературоведческий, культурологический и философско-эстетический аспекты научного анализа. Автор опирается на классические труды по сравнительному литературоведению (В.М. Жирмунский, М.П. Алексеев, Н.И. Конрад) и по теории интертекста (М.М. Бахтин, Ю. Кристева, Р. Барт, Ж. Женетт, И.П. Ильин). Уделяется особое внимание проблеме традиции в литературе и культуре (исследования С.С. Аверинцева, Д.С. Лихачева, Ю.М. Лотмана, Ю.Н. Тынянова), взаимодействию литературы и философии, проблеме «литература и экзистенциализм» (работы С.И. Великовского, Л.Г. Андреева, С. Моравского). Методологическое значение для нашей работы как компаративистского исследования имеют труды отечественных полонистов по проблемам русско-польских взаимодействий и взаимоотражений в литературе и культуре (Е.З. Цыбенко, В.А. Хо-рев). Для исследования специфики «человеческого документа» привлекаются значимые исследования русских и польских литературоведов: Л.Я. Гинзбург, М. Черминьской, М. Гловиньского. В видении литературы ПНР и литературы польской эмиграции как единого организма автор ориентируется на историко-литератур-ную концепцию Т. Древновско-го, утверждающую интегральное восприятие литературного процесса ПНР и эмиграции.
Наш методологический угол зрения на предмет исследования заключается в выявлении идейно-образной константы прозы Гомбровича, Анджеевского и Херлинга, постижение их умозрения в образах, позволяющего взглянуть на индивидуальное творчество как органическую часть общеевропейского культурного процесса.
Структура работы. Работа состоит из введения, заключения, библиографии и двух глав, каждая из которых включает по четыре параграфа. Первая глава представляет анализ экзистенциалистской проблематики польской прозы изучаемого периода, вторая – исследование польской дневниковой прозы, ее поэтики и проблематики, в контексте идей экзистенциализма.
Мир межчеловеческих отношений и восприятие инфернального мира в творчестве В. Гомбровича
. Но если Кламанс принадлежит классу интеллигенции, то герой Ивашкевича Ромек - простой человек. Герой-рассказчик повести «Взлет» читал «Падение»: «Как, бишь, она называется, книжка эта, где девица с моста прыгнула? А малый тот даже и не спасал ее. А как он мог спасти? [...]. Никто не мог спасти. Никто никого еще не спас. Даже себя самого» . Скептицизм вызван контрастом причины к следствия: ничтожный, по сравнению с криминальной биографией Ромека, инцидент спровоцировал «бурю в стакане» - идеи мести миру и власти над человечеством, характерные для «подпольного» сознания Кламанса.
Форма исповеди в «Падении» Камю и «Взлете» Ивашкевича не только сосредотачивает внимание на проблемах частного бытия, но и показывает, что они являются «гордиевым узлом» общечеловеческой трагедии: «Чудно как-то в наше время, чтобы жить и человека не убить...»44 (Ромек) - «Каждый человек свидетельствует о преступлении всех других...»45 (Кламанс). Однако Ромек убежден в ничтожности жизни своей, как и любого другого человека («для мира моя персона ничего не значит»4 ), тогда как нравственной болезнью героя «Падения» является, наоборот, эгоцентризм («Я», «я», «я»! -вот лейтмотив моей жизни, он слышался во всем, что я говорил»47).
Полемическая установка повести «Взлет» свидетельствует о попытке Ивашкевича «преодолеть» экзистенциализм в художественно-образном соревновании. Однако писатель сознает, что существует не «экзистенциализм», а «экзистенциализмы». Ивашкевич пишет о «северной индивидуальное ги», «скандинавской природе», о герметичности и «апофатичности» философии Кьеркегора. По его мнению, Кьеркегор крайне труден как для французского48, так и для польского читателя: «...труднее всего вчувствоваться в религиозное состояние семьи Кьеркегора, прежде всего, нам, воспитанным в среде поверхностно и чисто внешне католической. Страшное, ветхозаветное понимание греха нам полностью чуждо... В протестантской среде... понятие греха достигает пугающих размеров, грех становится «болезнью к смерти» - или путем к вечному осуждению»49. По Ивашкевичу, Кьеркегор был тайной, прелсде всего, для себя, и эта общечеловеческая тайна «частной» философии далеко выходит за пределы Дании как «провинции» Европы. «Волнующе и поучительно то, - пишеї Ивашкевич, - как этот великий мыслитель, на самом деле, величайший философ, снаряжает все свое понимание диалектики, приводит в движение все пружины своего ума, чтобы объяснить самому себе вопросы... которые глубже всего, что Кьеркегор мог бы подумать на тему абсурдной истории Авраама; более того, глубже того, что он думает о себе»50. Обращение Ивашкевича к экзистенциализму в его глубинной ипостаси, естественно, было понято немногими, так как для массового читателя более важной представлялась актуальность экзистенциализма. О перспективе польской политизации экзистенциализма, как, в принципе, и любого другого направления, писал Гомбрович: «Если там (в Польше - Л.М.) прорастет зерно экзистенциализма, то во имя протеста... как самооборона личности, все больше осознающей свое искажение»51. Общественному сознанию ПНР периода «оттепели» были свойственны поиски третьего пути между ортодоксальным марксизмом и ортодоксальным клерикализмом: одним из возможных путей раскрепощения личности представлялся экзистенциализм. Для польского читателя его репрезентативными фигурами были Сартр и Камю, традиционно тяготеющие к левому политическому флангу. Этим объясняется большая степень приятия экзистенциализма литературно-философской критикой ПНР, чем интеллектуальной элитой эмиграции. Однако, некоторые авторы, в Польше и за рубежом, сосредотачивают внимание на «правом» фланге, на теистическом, христианском ответвлении экзистенциализма. О его христианском генезисе писал Ю. Тишнер: «...Этика экзистенциальной философии выдает от начала и до конца некое глубинное родство с ценностями, которые принесло, открыло, а чаще всего впервые и провозгласило христианство» . Созвучны этому суждению слова философа и критика эмиграции Т. Терлецкого: «С исторической точки зрения. экзистенциализм имеет христианскую родословную, можно даже сказать: это одна из наиболее типичных позиций для христианского чувствования и со понимания жизни»" . В отличие от большинства соотечественников, для которых экзистенциализм ассоциируется с философией Сартра, знаковым представителем экзистенциализма Т. Терлецкий считает Марселя, который не только есть «полнейшее воплощение христианской линии экзистенциализма»5 , но также «представляется экзистенциалистом в полнейшем воплощении» э.
В польской философско-литературной критике велась дискуссия о персонализме как альтернативе экзистенциализма: персонализм, считают его апологеты, исходит из экзистенциального принципа личностной свободы, но утверждает оптимистическую перспективу самореализации человека, не говоря о тупике его абсурдного противостояния с миром. Польский персонализм представлен неотомистско-феноменологической и социально-реформаторской школами
Категории «трагической» и утопической надежды в творчестве Е. Анджеевского
Другие формы межчеловеческих отношений представлены у Гомбровича в сферах морали и права. Закончив юридический факультет. Гомбрович гротескно заострил проблемы правосудия в рассказе «Преднамеренное убийство» («Zbrodnia z premedytacja ,1933), где суть расследуемого дела вытесняется юридической казуистикой. Моральные аспекты, в частности проблему совести, Гомбрович затрагивает парадоксальной интерпретацией «Преступления и наказания» Достоевского в «Дневнике» за 1960 год.
Гомбрович не только дает интерпретацию, но и осуществляет трансформацию отдельных мотивов «Преступления и наказания». Под пером Гомбровича многие идеи и персонажи Достоевского становятся неузнаваемыми. Возникает вопрос: что первично в осмыслении классического произведения - художественная трансформация или литературно-критическая интерпретация? Или Гомбрович неосознанно обращается к пародированию Достоевского, и потом только подводит теоретическую базу под «случайные» открытия, или уже в первом прочтении кристаллизируется философическая концепция Гомбровича?
В качестве текста-«посредника» мы возьмем дилогию Л.И. Шестова: «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше (философия и проповедь)» и «Философия трагедии (Достоевский и Ницше)» (обе работы изданы в 1911 году). Шестов выдвигает парадоксальную концепцию «формального» преступления в романе Достоевского. Согласно ней, жертвы «не играют никакой роли» в идейном содержании романа, Раскольников, по его же словам, убивает «принцип», а не старуху, он наказан за то, что переступил черту, которую никому не дано переступать, что нарушил абсолютную заповедь «не убий», и даже сами жертвы Алена Ивановна и сестра ее Лизавета являются лишь эпизодическими фигурами во внутренней трагедии преступника, а к концу романа совсем исчезают из поля зрения
Раскольникова . По Шестову, автор со свойственным ему «жестоким талантом» «душит» героя, прививает чувство вины и заставляет раскаяться. Сказывается резко отрицательное отношение Достоевского к теории Раскольникова. Противоположна авторской концепции мысль Шестова: «Раскольников не убийца: никакого преступления за ним не было»170, «Достоевский только для порядка взвалил на него обвинение в убийстве»17 1, Раскольников «оказался раздавленным неизвестно за что»175. В констатации неоправданной жестокости наказания и проявляется ницшеанский угол зрения Шестова: Раскольников задал вопрос о собственном статусе («тварь, ли я дрожащая или право имею...») - и вместо ответа получил наказание.
В уже упомянутом отрывке из «Дневника» (1960) Гомбрович дает крайне парадоксальную интерпретацию романа. Как и Шестов, польский автор исходит из положения, что сознанием преступности Раскольников изначально не обладал. Согласно Гомбровичу, по ходу действия романа-все более прорисовывается образ совести «межчеловеческой», или «зеркальной». Моральной «инстанцией» для человека является не он сам, как полагает друг и собеседник Гомбровича Гомес, а «другие»: «Раскольников не один, - пишет автор, - он находигся в определенной группе людей, Соня... следователь... сестра и мать... друг и другие... таков этот мирок. ... . Для себя самого он (Раскольников - Л.М.) туман, а туману все позволено. Но он знает, что другие видят его яснее, выразительнее, хоть и более поверхностно, и суд над ним уже был бы возможен. ... . С этого подозрения чувство вины начинает в нем кристаллизироваться, он уже видит себя немного глазами других как преступника - и этот свой образ в мыслях повторно передает другим - и оттуда возвращается ему еще более отчетливый облик убийцы и карающий суд». Итак: Раскольников «поддается искусственной, межчеловеческой, зеркальной совести, будто бы она была его настоящей совестью» (2, 199-200).
И Шестов, и Гомбрович воспринимают морально-этическую проблематику романа с релятивистских позиций. Если по Шестову Раскольникова «приговаривает» к нравственным мучениям автор, а «другие» играют служебную роль, то по Гомбровичу роли «палачей» отводятся именно «другим» (Соне, Порфирию, Лужину, Свидригайлову). Гомбрович намекает на «незрелость» героя, незнание, где хорошо, а где плохо («для себя самого он туман»). По Шестову, Раскольников руководствуется «особой» сверхчеловеческой совестью право имеющих - по Гомбровичу, изначально не имеет о ней представления, и только при вмешательстве «других» «устанавливает» себе совесть.
«Дневник» В. Гомбровича: образ «я» и реформа жанра
Творчество Анджеевского при крайней противоречивости взглядов, при ломке мировоззрения в годы оккупации, определяется экзистенциалистской по духу категорией «трагической надежды», сочетающей утверждение мирового разума и «порядка» человеческого бытия с констатацией «смерти Бога» и состоянием неизбежного «месива» истории. В дебютном сборнике рассказов «Неизбежные пути» («Drogi nieuniknione», 1935) Анджеевский сосредотачивается на психологических драмах индивидов, приходя к фаталистическо-пессимистическому выводу о капитуляции человека в борьбе с социальным злом. «Сверхличной» перспективой выхода из экзистенциального тупика становится богоискательство романа «Лад сердца», автора которого критики окрестили главой «католического» направления межвоенной Польши, «польским Бернаносом» . Последствия сентябрьской катастрофы разрушили хрупкую гармонию, опирающуюся на католическую догматику. Шок, вызванный историческими потрясениями и личными несчастьями (самоубийство друга в 1941 году, гибель гетто на глазах варшавян в 1943-м. смерть гениального поэта Кшиштофа Камиля Бачиньского, подавление восстания Армии Крайовой, разрушение Варшавы), привел к тому, что не осталось «камня на камне» от довоенной системы ценностей234. Надежда писателя сводится к попытке начать с чистого листа, вера в Бога сменяется верой в разум Истории, в коммунистическую утопию. Трансформацию мировоззрения Анджеевского подвергает критическому разбору А. Сандауэр, пишущий о традициях «школы недействительности», о производстве псевдоидеалов, псевдоценностей в польской культуре. Проницательным критиком этой школы был, по мнению А. Сандауэра. Гомбрович, создавший в романе «Фердидурке» механизм «срывания масок». Творчество Анджеевского, по А. Сандауэру, укладывается в диалектическую схему Гомбровича: Сифон с эмоциональным дидактизмом олицетворяет правый «католический» фланг, к которому тяготел Анджеевский в 1930-е г.г., Менту с с радикальным нигилизмом - левый коммунистическо-демократический фланг, с которым писатель сближается в 1940-е, саркастический скептицизм Ковальского-Фердидурке связан с отходом от политической ангажированности в 1954-55 г.г. В «предоттепельный» и «оттепельный» периоды, считает А. Сандауэр, намечается схождение Анджеевского с орбиты Гомбровича и начало самостоятельного пути, обозначенное повестью «Мрак покрывает землю»236. В интерпретационную триаду Сифон - Ментус - Фердидурке не укладываются, однако, межвоенный «докатолическии» и военный периоды творчества, представленные сборниками «Неизбежные пути» и «Ночь», которые предвосхитили проблематику творчества Анджеевского с 1956 года.
Текст Анджеевского «О надежде» («О nadziei»), по сути, программный экзистенциалистский документ, был написан в декабре 1943 года под первоначальным названием «Наследие надежды и величия». В 1940 г.г. текст был утрачен, в 1957 г. найден и опубликован в журнале «Пшегленд Культуральны», выполняя функцию комментария к повести «Мрак покрывает землю» (1955) и во многом предопределяя содержание повести «Врата рая» \ (1960). рукопись не просто выпадает из авторского поля зрения. Анджеевский конца 1940-х г.г., будто забывая о собственных предостережениях, пленяется всесильным и «единственно верным» марксистско-ленинским учением. Написание, утрата и повторное обретение рукописи являются звеньями циклической эволюции: автор ставит вопрос о будущем человечества, находит на него ответ в коммунистической идеологии, чтобы, наконец, поставить перед читателем тот же наболевший вопрос. Анджеевский выдвигает тезис о двух видах надежды: оптимистическо-утопической и трагической. В конце XVIII и на протяжении XIX века оптимистической историософской парадигмой надежды являлось учение о прогрессе, противопоставившее эсхатологическому представлению об окончательном пределе («finis perfectionis nostra») просвещенческую идею бесконечного совершенствования («perfectibilite indefinite»). Поскольку, с одной стороны, «миф первородного греха перестал быть препятствием в поисках утраченного рая»237, а с другой, человечество потеряло страх конца света, сознание Нового времени пришло к утверждению неограниченных возможностей творчества, таким образом, в XIX веке, по Анджеевскому, «у нас создается впечатление нового акта творения мира». Тоталитаризм XX века («в другой, правда, тональности») выразил «великую тоску преобразований». «Вот уже полтора столетия Европа живет будущим, ... живет надеждой», -резюмирует писатель. «Великой войной надежды» он называет Вторую мировую войну как разрушительное последствие утопических проектов.
«Дневник, писавшийся ночью» Г. Херлинга-Грудзиньского: рефлексия над жанровой традицией
Так и не написанный рассказ о «новом Иове», по сути, стал бы повторением рассказа «Башня». «Lebbroso»336, герои Ксавье де Местра и Херлинга-Грудзиньского, и есть «новый Иов». Внутреннее родство отличает изложенную дневниковую запись и рассказ «Башня»: в обоих текстах события вершатся на границе фактов и воображения, сна и яви.
Ключом к «Башне» является герой польской легенды Свентокшиский Пилигрим. «Родственник» Иова и Сизифа , «homo viator» , в духе философии Марселя, он, пожалуй, самый странный в этом экзистенциалистском «семействе». Этот образ является как бы скрещением региональных (свентокшиских) и общеевропейских традиций фольклора и литературно-философской мысли. «Я верю в существование мифошобилъных пегЬалсей», - утверждает писатель. Допуская иллюзорность воспоминаний, он все же «поклялся бы, чго в Польше таким мифически плодородным регионом являются Свентокшиские горы» . Миф «домашних гор» в сознании Херлинга материализовался в фигуре Пилигрима, что отражает дебют писателя в жанре репортажа. В 1935 году для молодежного журнала «Кузьня Млодых» он описал впечатления горной прогулки. В репортаже начинающего писателя легенда о Пилигриме изложена предельно кратко и обрывочно, в рассказе «Башня» сопровождена пояснениями и описаниями, но все равно пересказана не полностью. Скульптура Пилигрима стоит на краю деревни Нова Слупя у восточного входа в Свентокшиский национальный парк. Каменистая дорога (так называемая Королевская) ведет на вершину Свенты Кшиж, где стоит старейший монастырь Польши с его реликвией деревянными обломками креста Голгофы (согласно преданию). Основание монастыря связано с именем венгерского королевича Эммерама, и, по изначальной версии, Пилигрим - никто иной, как Эммерам. Также по преданию, Пилигримом мог оказаться литвин или татарин, укравший реликвию из монастыря. Как знак Божьего наказания у него отсохла рука. Тогда он вернулся с покаянием, возвратил святыню и, в благодарность за исцеление, воздвиг памятник. И по следующей версии Пилигрим - это кающийся грешник, некто Вацлав Язловецкий из Украины, убивший священнослужителя и собственную жену. Наконец, по самой известной версии. Пилигрим есть набожный человек без имени, аскет, который, став на колени, раня их придорожными камнями, медленно восходил к монастырю. Вдруг, в непривычное время дня, раздался звон колоколов. Путник решил, что это в его честь знак Божьей награды за подвиг - и, возгордившись, обратился в камень. Херлинг-Грудзиньский пересказывает лишь «актуальную» концовку легенды, подходящую к любой из четырех версий: Пилигрим продолжает идти вперед - всего на одно маковое зернышко-540 ежегодно и, дойдя до вершины горы, вернет себе прежний облик, но тотчас станет свидетелем конца света341. Нигде, ни в репортаже, ни в рассказе, Херлинг не обмолвился о грехе, а это знак редукции или даже «ревизии»342 народной легенды. Пилигрим лишен личной биографии, он есть знак человека вообще, благодаря чему становится в один ряд с символическими фигурами Иова и Сизифа. Незаслуженно страдает Иов («Если я невинен, то Он признает меня виновным» (Иов 9,20)), без вины виноваты Сизиф и Пилигрим, так как живут в мире, где «нет виновных, есть только несущие ответственность» . По автору рассказа «Башня», не трактовка легенды является экзистенциалистской, экзистенциальна сама легенда. В ее основе - христианские категории веры и надежды. Если о начале легенды писатель попросту умалчивает, то эсхатологическая концовка выделяется в повествовании: «Свентокшиский пилигрим дойдет когда-нибудь - и не дойдет никогда до цели своего странствия; если даже дойдет, в награду за свою выносливость получит только то, что одновременно со светом спасения увидит последний огонь, пожирающий вместе с ним всю землю» (2,23).
В отличие от превратившейся в соляной столб жены Лота, Пилигрим «смотрит» вперед, он весь в грядущем. Он застывший в камне «вопрос»: чего ожидать, на что надеяться? Страшный суд для него - меньшая угроза, чем «вечное одиночество». Знаменательно, однако, что Пилигрим «не спешит» на Святой Крест, поюму и назван в «Башне» «памятником безграничной терпеливости». «Это для меня как бы memento, - пишет спустя годы Грудзиньский о Пилигриме, - не заходи слишком далеко, подражай постепенному продвижению на зернышко мака». Т.е., в литературном измерении, - не ускоряй нарочито повествования3 4. В рассказе «Башня» этот девиз сказался в незавершенности рассказа о последних годах жизни Прокаженного из Аосты.