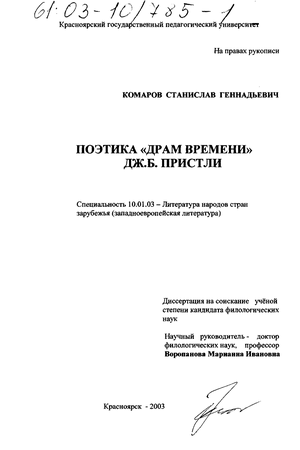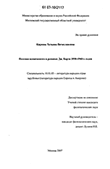Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ХРОНОТОП «ДРАМ ВРЕМЕНИ» 38
1.1 .Внешний хронотоп 38
1.1.1 . Структура реального хронотопа 38
1.1.2.Театр как условный хронотоп 59
1.2. Внутренний хронотоп 81
ГЛАВА ВТОРАЯ. КОНФЛИКТ И КОМПОЗИЦИЯ «ДРАМ ВРЕМЕНИ» 102
2.1. Внешний конфликт 102
2.2. Внутренний конфликт 146
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ТИПОЛОГИЯ ПЕРСОНАЖЕЙ ДЖ.Б. ПРИСТЛИ 162
3.1. Внешние и внутренние герои 162
3.2. Реальные и условные персонажи 181
3.3. Библейские архетипы 193
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 202
ПРИМЕЧАНИЯ 210
ЛИТЕРАТУРА 216
Введение к работе
В многоплановом творчестве Дж.Б. Пристли есть пьесы, которые в отечественном и зарубежном литературоведении принято называть «драмами временн»(«гіте plays»).Этот термин был введён в обиход самим автором и касался трёх пьес - «Опасный поворот» («Dangerous Corner») (1932), «Время и семья Конвей»(«Тіте and the Conways»)( 193 7) и «Я уже был здесь раньше»( I have been here before»)(1937). «... эти три драмы, - отмечал Пристли в пояснении к изданию указанных пьес в 1947 году, - объединяет общий интерес к проблеме Времени... Каждая драма имеет дело с категорией времени в необычном аспекте, но в каждом случае этот аспект разный. Каждое произведение отвергает традиционную концепцию времени, и каждое произведение предлагает собственное разрешение этой проблемы.»1
Далее автор указывает, что на драматургическое поле этих произведений оказали воздействие нетрадиционные концепции времени Д. Данна и П.Д. Успенского. Обращение к ним свидетельствует о глубоком интересе Пристли к философскому осмыслению проблемы времени. Это обстоятельство позволило автору объединить все три произведения в единый цикл и назвать его «драмы времени». Пояснения, которыми сопровождает автор публикацию трёх пьес, помогают понять смысл, который он вкладывает в термин «драмы времени». Однако комментарий Пристли ни в коей мере не сводит на нет то обстоятельство, что само понятие «драмы времени» оказалось - независимо от устремлений автора - двусмысленным, а то и многоплановым по своей сути. Действительно, если последовать логике самого писателя и сделать в термине логическое ударение на слове «time», то будет акцентирован объект изображения, то есть Время. Если же сместить акцент на слово «plays», тогда речь будет идти о жанровой специфике обозначенных пьес: драмы, которые характеризуют определённый период времени. Думается, что такая
неосознанная двусмысленность не должна оставаться без внимания, поскольку она может помочь более обстоятельно понять сущность конфликта рассматриваемых пьес.
Позднее исследователи творчества Дж.Б.Пристли отметили, что
эксперимент со временем повлиял не только на художественную ткань трёх
указанных писателем пьес, но и на структуру ряда других его драматических
произведений. Это обстоятельство позволило расширить цикл «драм времени»,
включив в него следующие произведения - «Райский уголок»(«Еаеп
End»)(1934), «Большое зеркало»(ТЬе Long Mirror»)(1935),
«Корнелиус»(«Согпе1іш»)(1935), «Музыка ночью»(«Мшіс at Night»)(1938), «Джонсон над HopflaHOM»(Johnson over Jordan») (1939).2
Иногда к «драмам времени» относят и некоторые другие пьесы - такие как «Инспектор пришёл»(«Ап Inspector Calls»)(1947), «Скандальное происшествие с мистером Кэттлом и миссис Мун»(«Мг Kettle and Mrs Мооп»)(1955), «Стеклянная клетка»(«ТЬе Glass Cage»)(1957)3. Поводом для этого также служит их пространственно-временная структура, которая является нетрадиционной по своей сути.
Такое расширение объекта исследования, именуемого «драмы времени», представляется нам целесообразным в силу следующего ряда обстоятельств: во-первых, интерес Пристли к проблеме времени сопровождает все этапы его жизненного и творческого пути; причастность автора к философским проблемам человеческого бытия не могла не сказаться на всём его творчестве в целом, а не только на отдельных произведениях, где этот интерес выражен наиболее отчётливо; во-вторых, пьесы, которые дополняют классические «драмы времени», характеризуются теми же принципами поэтики, сформировавшимися под воздействием христианского мировосприятия автора. Дело в том, что у пристлиевского термина «time plays» ещё и более глубинный, потаённый смысл. Слово «time» восходит к латинскому «tempus» (время), а «tempus» в свою очередь находится, по мысли исследователя мифологических основ культуры М. Элиаде, в этимологическом родстве со словом «templum»,
4 ключевое значение которого определяется как «храм», который ассоциируется с вечным, духовным, божественным.4 Следовательно, можно предположить, что «драмы времени» - это ещё и драмы о вечном или божественном, тем более, что само понятие «время» в подтекстном плане предполагает оппозицию вечности, поскольку временное логически противопоставляется вечному.
Проблема мировоззренческих основ творчества Пристли требует особого пояснения. В своих публицистических и литературоведческих работах автор обнаруживает видимую индифферентность к христианским идеям. На это обстоятельство обратил внимание К. Янг, констатирующий, что Пристли «не христианин, поэтому постоянное осознание тайны человеческого существования привело его к размышлениям Успенского, к изучению снов; а надежда на бессмертие приходит к нему в большей степени благодаря идеям Данна, нежели Новому Завету» .
Аналогичные мысли выражает и Ю.И. Кагарлицкий. «Пристли... -указывает он, - считает своей целью дать веру в конечное торжество справедливости. Однако он чурается религиозных теорий. Теологии он предпочитает откровенную сказку. Отсюда весьма заметный в творчестве Пристли сдвиг в сторону «магического». Под поверхностью многих его произведений чувствуется присутствие некоего волшебного мира, где человек усилием воли способен повернуть ход событий»6. Думается, что рациональное зерно в размышлениях К. Янга и Ю.И. Кагарлицкого есть: Пристли, действительно, «чурается религиозных теорий», но это не означает, что он абсолютно безрелигиозен или что он нерелигиозен практически; Пристли, действительно, «предпочитает откровенную сказку», но разве сама сказка не может быть теологически заряженной, христиански валентной, как, к примеру, сказки Г.Х. Андерсена?
Ещё более категоричным и в то же время, на наш взгляд, весьма спорным является высказывание В. Ворсобина, также касающееся мировоззренческих основ художника. «Пристли был человеком атеистического склада, - пишет В. Ворсобин, - он с гневом отвергал всяческие бредни о каком-то загробном
5 существовании, всяческие мифы...»7 Следующая часть этого высказывания косвенным образом вступает в противоречие с первой: «... и тем не менее, сам того не подозревая, стал проповедником заимствованных воззрений, которые по сути своей были не чем иным, как мифом, только построенным на псевдонаучных предположениях о трёх временных измерениях и одновременном существовании прошлого, настоящего и будущего»8. Представляется весьма сомнительным совмещение в рамках сознания писателя «атеистического склада» и воззрений, основанных на мифе. Однако мнение такое есть, и его следует учитывать.
Во многочисленных произведениях Пристли критического и публицистического характера рассматривается целый круг жизненно важных философских вопросов, но фактически нигде анализ этих проблем писатель не вводит в контекст христианского мировоззрения. Между тем характер его драматургического творчества имеет, на наш взгляд, подлинно христианскую основу. Таким образом, существует явное противоречие между высказываниями автора, а также высказываниями критиков, свидетельствующими о том, что он не является христианином, и реальным характером его творчества, который подтверждает обратное, - внутренне Пристли является глубоким приверженцем христианских идей и устремлений.
Проблема несоответствия между писательскими декларациями и подлинными идеями его творчества, его поэтикой не нова. Она стала предметом специального исследования СТ. Ваймана, которое получило название «Бальзаковский парадокс». Автор этой работы отмечает, что подобная ситуация была замечена Энгельсом в эпистолярном отзыве о повести Гаркнесс «Городская девушка». Там речь шла «о существовании особых - нелинейных и незеркальных - отношений между взглядами художника и практической его деятельностью. Была уловлена своеобразная духовно-творческая аномалия: теоретически и житейски симпатизируя своим «излюбленным аристократам» автор «Человеческой комедии» изображал их как людей исторически
никчёмных и обречённых - с беспощадной сатирической резкостью и прямотой...»9
«... мы вправе воспринимать «бальзаковский парадокс», - делает важный вывод исследователь, - не только в прямом и локальном его значении, но и как символическую характеристику, наиболее чистый и классический образец тенденции, пронизывающей европейское литературное сознание на протяжении последних нескольких веков»10.
Художник по своей сути, как правило, выше тех идей, тех мыслей, которые он открыто выражает в связи со своим творчеством, - это утверждение, ставшее одним из ключевых в исследовании СТ. Ваймана, в полной мере можно отнести и к писательскому дару Пристли.
Д.С. Лихачёв, размышляя о художественном времени в литературе, также затрагивает проблему бальзаковского парадокса и отмечает, что авторы литературоведческих исследований «часто подменяют изучение художественного времени произведения изучением взглядов автора на проблему времени и составляют простые подборки высказываний писателей о времени, не замечая или не придавая значения тому, что эти высказывания могут находиться в противоречии с тем художественным временем, которое писатель сам творит в своём произведении» . То, о чём учёный предостерегал авторов исследовательских работ, происходило неоднократно при рассмотрении драматургических произведений Пристли: в качестве компаса научных поисков выступали высказывания самого писателя, которые зачастую превращались в свидетельства против него самого. Так, к примеру, размышляя о пьесе Пристли «Опасный поворот», авторы статей часто упоминали, что «сам писатель называл это произведение набором хорошо придуманных фокусов и упражнением на заданную тему»1 . На наш взгляд, обращение к высказываниям писателя, подобным этому, не должно заслонять реальную художественную ценность его произведений.
Возможность и необходимость рассмотрения драматургии Пристли в свете христианского мировосприятия определяется контекстом времени -
7
конец XX - начало XXI века. В литературоведении, критике и культурологии в
последние десятилетия XX столетия акцентирован вопрос о корнях
европейской и американской культур, которые типологически являются
христианскими. В связи с этим кардинал Поль Пупар в статье «Роль
христианства в культурной идентичности европейских народов» справедливо
отмечает: «... Европа обладает глубоко духовным характером, который
нужно сохранить... Этот духовный характер на протяжении почти двухтысячелетней истории сформировал разнообразные культуры в диалектическом взаимодействии множественности и универсализма, именно в христианстве нашедших умиротворение и синтез»13.
«Сознание европейского человека, - продолжает Пупар, - воспитанного на евангельских ценностях, Европа получила от Евангелия,..»14 Автор статьи проводит мысль о том, что современный человек является продуктом христианской культуры.
Аналогичные мысли выражает профессор и президент Католического университета немецкого города Айхштета Николай Лобковиц, автор статьи «Христианство и культура» : «Все мы - европейцы и американцы -принадлежим к культуре, сложившейся под влиянием христианства в значительно большей степени, нежели под влиянием чего-либо ещё... наш образ мысли, наши речевые обороты, наши фундаментальные моральные убеждения, наше отношение к жизни и смерти, наши представления о правах и обязанностях человека, наши взгляды на взаимоотношения полов, наши понятия об ответственности, вине, справедливости и равенстве были бы совершенно иными, если бы не явилось христианство, сформировавшее нашу культуру»15.
Представитель американской мифологической критики Нортроп Фрай так преломляет подобные идеи в отношении к писательскому творчеству: «... Библия - основной элемент нашей собственной традиции художественного творчества, каким бы ни представлялось нам наше отношение к нему»16. Далее Фрай критикует учёных, «которые, рассуждая на темы из области культуры,
8 изначально поднятые Библией и по сей день в значительной мере определяемые её реалиями, ведут себя так, будто Библии вовсе не существует» 7.
Это позволяет и творчество Пристли, в частности его драматургию, рассмотреть в аспекте христианской культуры, принадлежность писателя которой обусловлена и более конкретными и частными основаниями. Такие основания можно определить следующим образом.
Пристли вырос в семье простого учителя, где христианские принципы составляли важнейшую часть семейных традиций. Представляется любопытным в этом отношении и то, что английская фамилия PriestJey является родственной слову «priest», которое переводится как проповедник.
Нетрадиционные концепции времени, оказавшие воздействие на художественное поле «драм времени» и возникшие в первой трети двадцатого века, во многих аспектах не противоречат христианскому учению, а иногда и развивают некоторые из его идей. В первую очередь это трактовка времени английским математиком Джоном Уильямом Данном. Его концепция времени представляется фантастической по своей сути, поскольку она предполагает возможность одновременного существования трёх временных пластов, которые можно условно определить как прошлое, настоящее и будущее. Человеческая душа, которую Данн, в соответствии с христианской традицией, признаёт бессмертной, существует одновременно во всех трёх временных пластах. Если личность, по мысли английского математика, поймёт эту важную особенность времени, то сможет совершенствовать свою жизнь18.
Постулат Данна об одновременности существования человеческой души в трёх временных пластах имеет под собой христианскую почву, поскольку сама идея наличествует в христианском учении, которое однако не преподносит её в буквальном смысле, а понимает своеобразно. Итак, в настоящем человек живёт реально. Прошлое проникает в это настоящее в силу особенностей религиозного сознания. Такое прошлое автор культурологического исследования «Образы и символы» М. Элиаде называет священным временем и отмечает, что «... Священное время по своей природе обратимо, в том смысле,
9 что оно буквально является первичным мифическим Временем, преобразованным в настоящее. Всякий церковный праздник, всякое Время литургии представляют собой воспроизведение в настоящем какого-либо священного события, происходившего в мифическом прошлом, в Начале. Религиозное участие в каком-либо празднике предполагает выход из «обычной» временной протяжённости для восстановления мифического Времени, выведенного в настоящее самим праздником. Таким образом, Священное Время может быть возвращено и повторено бесчисленное множество раз»19.
Что же касается будущего, то христианское сознание осмысливает его в неразрывном единстве с настоящим, поскольку само это будущее представлено в образе Страшного суда, к которому Евангелие призывает людей быть готовыми в любой миг: «... бодрствуйте; ибо не знаете, когда придёт хозяин дома, вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру; чтобы, пришед внезапно, не нашёл вас спящими»20.
Представляется, что прошлое ( в первую очередь, распятие и воскресение Христа) и будущее (Страшный суд) настолько значимы для христианского сознания, что они фактически обесценивают настоящее, которое имеет значимость только в сочетании с двумя другими временными пластами. Именно поэтому прошлое, настоящее и будущее, в соответствии с христианским учением, слиты воедино, как и в концепции Данна, фактически трансформирующей, на наш взгляд, евангельские идеи.
Пристли кратко излагает суть этой концепции в предисловии к изданию трёх «драм времени», а более подробно рассматривает идеи Данна в своей книге "Человек и Время"( 1964)21 . В понимании Пристли основные идеи Данна преломляются следующим образом.
Существуют два наблюдателя. Наблюдатель 2 следит за наблюдателем 1, который находится в обычном четырёхмерном пространственно-временном континууме. При этом наблюдатель 2 тоже движется во времени, однако его время не совпадает со временем наблюдателя 1. Таким образом, у наблюдателя
10 2 прибавляется ещё одно временное измерение, Время 2.При этом Время 1, за которым он наблюдает, становится пространственноподобным, то есть по нему можно передвигаться, как по пространству - в прошлое, в будущее и обратно. Но за наблюдателем 2 следит наблюдатель 3. Континуум этого последнего наблюдателя будет уже шестимерным. Нарастание иерархии наблюдателей и соответственно временных изменений может продолжаться до бесконечности, пределом которой является Абсолютный наблюдатель, движущийся в абсолютном Времени, то есть Бог.22
Таким образом, каким бы замысловатым не было теоретическое обоснование данновской идеи, оно в конечном итоге признаёт единый источник сложной временной конструкции - Божественное начало: это констатирует и сам Пристли, излагающий концепцию английского математика. Наличие христианской основы в этой концепции косвенно подтверждается современным отечественным исследователем В.П. Рудневым, следующим образом комментирующим нетрадиционную теорию времени Данна.
«...согласно Данну, - пишет В.П.Руднев, - разнопорядковые наблюдатели могут находиться внутри одного сознания, проявляясь в особых состояниях сознания, например, во сне. Так, во сне, наблюдая за самим собой, мы можем оказаться в собственном будущем - тогда-то мы и видим пророческие сновидения. Теория Данна - является синтетической по отношению к линейно-эсхатологической и циклической моделям»23. Линейно-эсхатологическая модель времени - принадлежность именно христианского учения, в котором важнейшей выступает, как известно, мысль о Страшном суде.
Анализируя метафизические идеи Данна, Пристли отмечает: «Мы можем отвергать его ...регрессивные утверждения о Времени и личности; мы можем поверить, что профессиональные философы нанесли ему поражение, когда он боролся против их большинства за свои метафизические идеи обратного движения времени; мы можем признать.. .что он потратил впустую слишком много лет и слишком много энергии, гоняясь за призрачными идеями,
которые сам себя заставил искать. Но его эксперименты со снами и его изучение собственных сновидений, мне кажется, являются заслуживающими большего внимания, нежели что-либо созданное общими усилиями всех других людей в этой сфере наблюдения. Сейчас никто не может серьёзно изучать проблемы времени без обращения к исследованию Данна»24.
Другая концепция времени, без учёта которой также невозможно осмысление художественного мира «драм времени», как и теория Данна, внутренне связана с христианской традицией. Эта концепция создана русским эмигрантом-метафизиком П.Д. Успенским и подробно рассмотрена им в книге «Новая модель вселенной»23.
Примечательной особенностью этого труда является то, что отдельная его глава посвящена христианству и Новому Завету. Содержание данной главы и указание периода её написания - 1912- 1929 гг. - свидетельствуют, что автор изучал евангельские тексты в течение довольно длительного времени. Глава же, в которой Успенский излагает свою концепцию времени, и которая получила название «Вечное возвращение и законы Ману», также создавалась длительный срок - с 1912 по 1934 год, то есть фактически параллельно с обзором принципов изучения евангельских текстов. Всё это подтверждает мысль о том, что одним из корней теории времени Успенского являются идеи христианского плана.
Сам Пристли в произведениях публицистического характера также подтверждает эту мысль: размышляя о тщательно разработанной системе мистических идей, принадлежащих русскому метафизику Г. Гурджиеву и его ученику П. Успенскому, системе, которую впоследствии стали условно называть «Учением», он указывает на то, что эта система фактически предполагает освоение скрытых основ христианской мысли. Пристли советует читателям, интересующимся трактовкой важнейших идей христианской философии с позиций сторонников этого «Учения», обратиться к книге Мориса Николла «Новый человек и знак судьбы», которая, по его мнению, представляет собой новую попытку толкования евангельских текстов 6.
Идея Успенского сводится к цикличности протекания времени, при которой каждый человек, умирая, рождается вновь и снова проживает ту же самую жизнь, получая возможность её совершенствовать. Эта идея, как и концепция Данна, также характеризуется эклектичностью, поскольку опирается не только на христианское учение, но и на принципы других религий, однако христианские корни воззрений Успенского настолько сильны, что без учёта этого обстоятельства, на наш взгляд, немыслимо рассматривать влияние идей русского метафизика на художественный мир английского драматурга.
Пристли, безусловно, не удовлетворяли вышеприведенные теории времени, однако его интересовал нравственный аспект, являющийся общим для обеих концепций: мысль о бессмертии человеческой души, расплата в последующей жизни за смертные грехи и духовное совершенствование личности. Именно такой нравственный аспект сближает обе теории времени с христианским учением, ориентация на которое, на наш взгляд, является важным компонентом поэтики произведений Пристли,
Итак, первым конкретным основанием для рассмотрения «драм времени» под углом христианского мировосприятия является тот факт, что повлиявшие на поэтику данного цикла нетрадиционные концепции времени Д. Данна и П. Д. Успенского сами характеризуются неразрывной связью с евангельской основой.
Другим основанием могут служить литературные традиции творчества Пристли, также сформировавшиеся в русле христианской культуры. Английская традиция представлена именами Шекспира, Диккенса, итальянская связана с театром Луиджи Пиранделло, а русская - с драматургией А.П. Чехова.
Творчество В. Шекспира оказало воздействие на всю последующую английскую драматургию, в том числе и на произведения Пристли. Характер этого воздействия во многом обусловлен христианскими корнями шекспировских текстов.
Мысль о евангельской основе шекспировских трагедий утверждается как зарубежными, так и отечественными исследователями. Дж. Л. Кельдервуд размышляет о проблеме соотнесённости реального и божественного в трагедии В. Шекспира «Гамлет» и делает при этом акцент на речевой уровень произведения. По мысли учёного, «Гамлет мало различает Бога-Отца и Старого Гамлета, своего отца...»27 С.Милворд рассуждает в аналогичном ключе и проводит мысль о том, что евангельские мотивы и образы входят в речь персонажей шекспировской трагедии.28
Л.Е. Пинский, посвятивший своё исследование поэтике драматических произведений Шекспира, неоднократно упоминает о евангельских истоках его персонажей и сюжетных элементов. К примеру, в главе о сюжете и социальном фоне шекспировских трагедий он подчёркивает: «Снисходительное отношение к шуту опиралось на евангельский культ юродивых, нищих духом, на аттестацию самим апостолом Павлом земной мудрости как «безумия перед Господом» - дурак тем самым мог предстать и неким органом внесословной, высшей, трансцендентной мудрости» .
Э.Б. Акимов также обращает внимание на христианский аспект трагедий Шекспира. В статье «К реконструкции шекспировского мифа («Гамлет»)» он пишет: «Герои Шекспира очень не просты и не одномерны. Сохраняя иллюзию сценического правдоподобия, они создают большую «мифологическую» реальность, в которой человек востребован и по вертикали, и по горизонтали.
... шекспировские античные или фольклорно-языческие образы христиански валентны, заряжены, иначе они бы не воскресли из-под спуда летописей» .
Театр итальянского автора Л. Пиранделло, оказавший заметное влияние на творчество Пристли, также опирается на христианские традиции31. Наиболее отчётливо это проявляется в пьесах, завершающих драматургическую деятельность Пиранделло и названных им самим «мифами». Такие пьесы-притчи - «Новая колония»(1928), «Лазарь»(1929) и «Горные великаны»(1936) неразрывно связаны с библейскими мотивами и образами. Так пьеса «Лазарь»,
14 к примеру, рассказывает о потере и обретении веры, а также о духовном обновлении личности. Важнейшую роль в произведении играет образ огромного распятия, выступающего в качестве символа христианской догмы.
Однако христианские мотивы представляются неотъемлемой частью поэтики и в более ранних драмах Пиранделло, действие которых развивается в католической Италии. Так в пьесе «Наслаждение в добродетели»(1917) противопоставляются фальшивая честность и порядочность подлинным христианским ценностям - терпению, смирению и готовности к самопожертвованию ради блага другого человека. Завязкой этого произведения стала обычная для Италии начала XX века ситуация: «забеременевшую девушку выдают замуж за подставное лицо, чтобы избежать огласки»32. Этим подставным лицом является главный герой Бальдовино. Он строго придерживается той добродетели, которую члены его нового семейства признают только на словах и тем самым преподносит окружающим людям хороший урок. В результате происходит не только нравственное совершенствование самого героя, но и духовный перелом в сознании его жены Агаты, сумевшей оценить живые человеческие чувства своего мужа, которые существенно отличают его от окружающих людей, в том числе и от бывшего любовника, людей, погрязших в лживой добродетели и потому пришедших к омертвению душ.
Таким образом, в драматургическом творчестве Пиранделло христианские мотивы и образы представляются значимыми как для сюжета, так и для других элементов поэтики. Это обстоятельство в свою очередь не могло не сказаться и на художественных принципах Пристли, сформировавшихся под воздействием эстетики итальянского предшественника.
Наконец, возможность и необходимость исследования «драм времени» через призму христианского мировоззрения подсказывается признаваемой им самим и его толкователями связью драматургического творчества Пристли с лучшими традициями русской литературы, в первую очередь - с традицией чеховской. Русская литература и её глубокое познание не мыслятся на
15 современном этапе без христианского мировосприятия, присущего ей, начиная с истоков, и вплоть до XX века33.
Что касается собственно творчества, А.П. Чехова, которого Пристли считал своим предшественником и учителем, то высокую религиозность русского писателя и его художественного мира утверждал в числе ряда исследователей С.Н. Булгаков. «Чехов, -по его мысли, - своеобразен в своём творчестве тем, что искание правды, Бога, души, смысла жизни он совершал исследуя не возвышенные проявления человеческого духа, а нравственные слабости, падения, бессилие личности, то есть ставил перед собою сложнейшие художественные задачи. Не восхищённое любование высотами духа, а сострадательная любовь к слабым и грешным, но живым душам - основной пафос чеховской прозы» .
Сам Пристли косвенно признаёт глубоко христианский взгляд Чехова, оказавший влияние на его драматургическое творчество. «В противоположность сторонникам «жёсткого» Чехова Пристли считает, что пьесы русского драматурга «отмечены глубоким милосердием, нежностью в отношении всех подлинно страждущих» . Размышляя о персонажах «Вишнёвого сада», он отвергает их ироническую характеристику, которую способен дать «трезвый» взгляд ( Раневская - «безрассудная женщина, думающая лишь о своём любовнике», Гаев - «безвредный осёл», Петя -«пустозвон», Яша - «невыносимый выскочка», Фирс, «впавший в старческое слабоумие»). «Но Чехов, который знает всё это лучше нас, - указывает Пристли, - не рассматривает холодно этих людей... он освещает их тем странным светом, неуловимо нежным и сострадательным, какой может излучать сознание человека, когда он навсегда прощается с этой жизнью»36.
«Чехов-драматург, по мнению Пристли, не имеет себе равных в способности прощать своих героев»37.
Итак, английский писатель акцентирует именно те качества Чехова как личности (милосердие, сострадание), которые могут быть присущи именно человеку с христианским сознанием. Это свидетельствует, что мировосприятию
Пристли близки христианские ценности, которые и сближают его с русским предшественником.
Изучение поэтики «драм времени» Дж.Б. Пристли в контексте христианской мысли представляется целесообразным в силу того, что оно помогает проникнуть более глубоко в содержательные основы драматургии писателя и всего творчества в целом. При этом закономерным при исследовании пьес, предполагающих необычную пространственно-временную структуру текста, является обращение к хронотопу рассматриваемых произведений.
Термин «хронотоп» был заимствован ММ. Бахтиным из математического естествознания и использован в качестве литературоведческого в его работе «Формы времени и хронотопа в романе». Под хронотопом, по мысли автора, следует понимать «взаимосвязь временных и пространственных отношений, художественно освоенных в литературе»38.
«В литературно-художественном хронотопе, - указывает М.М. Бахтин, -имеет место слияние пространственных и временных примет в осмысленном и конкретном целом. Время здесь сгущается, уплотняется, становится художественно-зримым; пространство же интенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета, истории. Приметы времени раскрываются в пространстве, и пространство осмысливается и измеряется временем. Этим пересечением рядов и слиянием примет характеризуется художественный хронотоп.
Хронотоп в литературе имеет существенное жанровое значение. Можно прямо сказать, что жанр и жанровые разновидности определяются именно хронотопом, причём в литературе ведущим началом в хронотопе является время. Хронотоп как формально-содержательная категория определяет (в значительной мере) и образ человека в литературе: этот образ всегда существенно хронотопичен»39.
Понятие хронотопа по-своему уточняет и В.Н. Топоров. Он проводит мысль о тесной взаимосвязи хронотопа с мифопоэтическим мышлением и тем
17 самым косвенно признаёт важность прочтения произведения в контексте христианской культуры, являющейся составной частью мифопоэтического мировосприятия. Учёный считает: художественному тексту свойственно особое мифопоэтическое пространство, которое принципиально отличается как от геометрического пространства, характеризующегося бесструктурностью и бескачественностью, так и от реального пространства, исследуемого естествоиспытателем и совпадающего с физической средой. В мифопоэтическом хронотопе, по мысли В.Н. Топорова, «время сгущается и становится формой пространства, его новым («четвёртым») измерением. Пространство же, напротив, «заражается» внутренне-интенсивными свойствами времени, втягивается в его движение, становится неотъемлемо укоренённым в разворачивающемся во времени мире, сюжете ( т.е. в тексте). Неполнота трёхмерной характеристики пространства возмещается лишь при указании четвёртого измерения, - временного, органически связанного с тремя
другими измерениями».
Ещё одна существенная особенность мифопоэтического хронотопа, по мнению В.Н. Топорова, состоит в том, что этот хронотоп не предваряет появление вещей, которые его заполняют, а, напротив, детерминируется ими. Мифопоэтический хронотоп всегда является вещным и без вещей не существует. В.Н. Топоров вводит понятие «мифопоэтической Вселенной», которая представляет собой широкое, развёртывающееся вовне, открытое, свободное, организованное изнутри пространство.
Идею мифопоэтического хронотопа поддерживает и Э.Б. Акимов.
«Слова (как и герои), - указывает он, - функционируют не только в условно-коммуникативном пространстве, но и в большом мифо-онтологическом... попадая в это пространство, приобретают иные смыслы»42.
Применительно к драматургии понятие «хронотоп» стало ключевым в работах Л.Е. Пинского «Шекспир. Основные начала драматургии»(1971) и В.Фролова «Судьбы жанров драматургии»(1979)43.
Л.Е. Пинский следует по пути, проложенном Бахтиным, хотя сам термин «хронотоп» в его исследовании фактически не упоминается. Опираясь на шекспировскую поэтику, в контексте которой жизнь человеческая в её историческом и современном бытии осмысливается как актёрская игра, учёный развивает концепцию особого типа условного хронотопа, именуемого «театром». Этот хронотоп определяет своеобразие наиболее значимых элементов художественного мира Шекспира. Хронотоп «театр» выступает у драматурга как важнейшая конституирующая основа его пьес. Выводы Л.Е. Пинского представляются особенно важными для нашего исследования в силу того, что условный хронотоп «театр» стал значимым и в драматургии Пристли, вобравшей в себя опыт великого предшественника.
В отличие от Л.Е. Пинского В. Фролов попытался посредством
хронотопического анализа проследить особенности эволюции трагедии,
комедии и драмы, а также промежуточных и производных от основных
жанровых разновидностей форм. Рассмотрение хронотопа различных драматургических жанров, предпринятое Фроловым, ни в коей мере не претендует на законченность и универсальность, а скорее представляет собой стремление наметить пути научных поисков в области исследования жанровых особенностей произведений, созданных для театра, посредством изучения их хронотопа. Автор предлагает в каждом тексте вычленять хронотопические ряды, то есть пространственно-временные уровни текста, и через их рассмотрение подходить к вопросу о жанровой специфике того или иного драматического произведения. На большом количестве примеров как классических, так и современных произведений для театра Фролов выделяет хронотопические ряды и даёт им краткую характеристику. .Однако следует отметить, что при этом недостаточно отчётливо прослеживаются основные критерии выделения хронотопических рядов в тексте, поскольку довольно часто формулировка того или иного хронотопического ряда совпадает с определением либо темы, либо проблемы пьесы. .При этом, естественно, «размываются», обессмысливаются специфические черты хронотопа как
19 категории поэтики. Поэтому идея хронотопических рядов, ставшая ключевой в данном исследовании, представляется, на наш взгляд, важной, но она требует более основательной проработки и концептуальной конкретности.
Нам представляется также продуктивным и исходный путь изучения хронотопа, предложенный Бахтиным, - то есть исследование временных доминант, определяющих не только жанр произведения, но и его конфликтно-композиционную структуру.44
Попытка проанализировать хронотоп пьесы Пристли «Время и семья Конвей» была осуществлена Л.Н. Захарчук в диссертационном исследовании, посвященном ритмической организации драматургического текста ( 1994) . Методологически автор работы следует не только М.М. Бахтину. Л.Н. Захарчук прибегает также к концепции екфатического (внутреннего) времени, о которой пишет Д. С. Недович в книге «Задачи искусствознания»(1927)46. Под екфатическим или внутренним временем Д.С. Недович понимает время переживаемое, представляемое. При этом Захарчук уточняет определение внутреннего времени, которое даёт Недович: внутреннее время, считает Захарчук, - это время, для которого характерны одновременно дискретность и недискретность.
Позитивным в данном исследовании представляется анализ хронотопа пьесы Пристли с учётом мифологической картины мира. В частности, Захарчук указывает на наличие в пьесе Пристли «Время и семья Конвей» зеркальной симметрии - мифологического архетипа, находящего своё отражение в повествовательном фольклоре47. Однако рассмотрение хронотопа пьесы с учётом мифопоэтического мировосприятия не затрагивает христианского аспекта, который, на наш взгляд, является в этом произведении более значимым, нежели указанные атрибуты мифологических архетипов. Кроме того, рассмотренный хронотоп представлен в работе как средство ритмической организации текста и охарактеризован весьма лаконично как «замкнутый, статичный, зеркально-симметричный» . При этом остаётся непрояснённым вопрос: в чём значимость данного хронотопа, в значительной степени
20 опирающегося на мифопоэтическое мышление, для содержательных основ пьесы «Время и семья Конвей».
Думается, что сегодня исследование хронотопа драм Пристли в контексте мифопоэтического мышления, ориентированного на принципы христианской философии, является актуальным в силу того, что до сих пор ни зарубежная, ни отечественная критика не рассматривали пространственно-временную структуру его пьес в таком аспекте. Да и вообще собственно хронотоп «драм времени» как основополагающий для всей поэтики структурный компонент в широком плане также не изучался. Речь преимущественно шла о времени в драмах Пристли как следствии явного влияния на их композиционное построение идеалистических концепций времени Д.Данна и П.Д.Успенского, однако дальше констатации факта о необычной временной структуре пьес дело не продвигалось.
Р.Погсон, сделавший краткий обзор драматургического пути писателя до 1948 года, и высказавший мысль о том, что главным предметом литературных поисков Пристли стала драматургия - о чём свидетельствуют высказывания самого автора, - указывает на ощутимое воздействие нетрадиционных концепций времени на художественный мир «драм времени», однако в чём же проявляется это воздействие и как при этом обогащается идейно-содержательный уровень пьес - так и остаётся непонятным: ответа на эти вопросы английский критик не даёт49.
Не содержат пристального исследования хронотопа, а соответственно, конфликта и композиции пьес Пристли, и другие работы английских авторов.
«Из числа известных английских писателей, которые были наиболее активны во второй четверти двадцатого столетия и не утратили своего положения в третьей, Пристли наиболее плодовитый и разносторонний», -полагает Айвор Браун, представивший общую характеристику творческого пути своего соотечественника в работе «Дж. Б. Пристли»(1957)50.
Дэвид Хьюз среди всех литературных форм, которые осваивал Пристли, доминирующими считает драматические жанры51. Что же касается собственно
21
театра Пристли, то Хьюз характеризует английского писателя как
продолжателя традиций русской драматургии и. в особенности, чеховского
театра. Он выражает солидарность с идеями своего соотечественника -
Джорджа Кальдерона и развивая их приходит к следующему выводу: «Джордж Кальдерой высказал мысль о том, что русская драма является скорее центробежной, чем центростремительной, её объективная сущность переводит внимание публики от частных событий к фундаментальному постижению жизни, а не фокусирует интерес только на группе индивидуумов, и в этом смысле Пристли является более открытым для русских, чем большинство английских драматургов последних тридцати лет. Именно это обстоятельство, а не кратковременная вспышка одарённости, не однодневные сюжеты делают его пьесы заслуживающими читательского внимания, что парадоксальным образом неимоверно удлиняет путь его пьес в современный театр, но не заглушает их мольбу быть поставленными на сцене и увиденными»52.
Мысль о значимости драматургии и театра в контексте всего литературного творчества Пристли выражает и Г.Л.Ивенс в книге «Пристли-драматург^ 1964) : «Эссе и романы Пристли полны прямых и косвенных упоминаний о театре. Создаётся неизменное впечатление, что в своём богатом поэтическими образами творчестве внутренне он никогда не отдаляется от мира огней рампы, грима и старых четырёхпенсовых кресел на балконе в субботний вечер» .
Несколько позднее С.Купер в работе «Дж. Б. Пристли. Портрет автора»( 1970), посвящая большую главу театру английского писателя, размышляет о своеобразии драматургии Пристли, о том, каким сложным стал путь его драматических произведений на театральные подмостки, и приходит к мысли о некой обособленности пьес этого автора в пространстве английской драматургии, об их элитарности, которая препятствует им быть общедоступными и несложными для восприятия широкими читательскими и зрительскими кругами54.
22 Не опровергая подобных утверждений, английский критик К. Янг указывает, что драматургия Пристли так же, как и другие виды его литературного творчества, оказала стимулирующее воздействие не только на мировую литературу, но и на философскую, политическую и общественную мысль страны55.
Созвучно мысли К. Янга высказывание Дж. Брэйна : «Наиболее существенный факт, связанный с появлением на свет Джона Бойнтона Пристли, состоит в том, что он родился творчески более привилегированным, чем кто бы то ни было из писателей его эпохи. Как будто силы природы умышленно решили создать очень талантливого писателя, который до предела использует свои возможности и сумеет остаться при этом нормальным и здравомыслящим человеком, служителем своего дара, но не его жертвой»56.
В 1988 году была опубликована книга X. Клейна «Пьесы Дж. Б. Пристли», важнейшим качеством которой стало исследование поэтики драм английского автора57. Структурный подход, принципам которого стремится следовать Клейн в своей работе, позволяет ему с предельной точностью указывать на особенности формообразующих элементов пьес Пристли. Так, к примеру, центральных персонажей пристлиевских драм он подразделяет на три группы. Первую группу составляют герои, которые показаны автором в мире семьи. Вторую группу образуют персонажи, изображаемые на работе, при исполнении своих служебных обязанностей. А в третью группу, по мысли исследователя, входят герои, волею судьбы оказавшиеся вместе с другими людьми в каком-либо странном месте или в какой-нибудь необычной ситуации. При этом Клейн с предельной точностью называет действующих лиц произведений Пристли, соответствующих той или иной группе58. Как видно из приведённой схемы, учёный при рассмотрении системы персонажей учитывает хронотопические условия их бытия. Однако, к сожалению, за тщательной классификационной работой, проведённой Клейном, не следует аналитического осмысления исследуемых компонентов пьес Пристли. По-
23 прежнему, вне контекста изучения произведений автора нравственно-философское поле его драм.
Отечественная критика и литературоведение, начиная с тридцатых годов XX века, давали, к сожалению, лишь поверхностное и фрагментарное представление о драматургии Пристли, поскольку исследователи его творчества, во-первых, акцентировали внимание, как правило, только на тех пьесах, которые были переведены на русский язык и поставлены на советской сцене, а, во-вторых, находились под воздействием идеологического пресса, что не могло не сказаться на объективности восприятия художественного мира английского писателя.
В конце тридцатых годов были опубликованы статьи И.Звавича, Т.Сильман, П.Громова, А..Мацкина, Л.Борового и Р. Миллер-Будницкой, посвященные первым драмам Дж. Б. Пристли «Опасный поворот» и «Время и семья Конвей», а также некоторым прозаическим произведениям английского писателя, переведённым в те годы на русский язык. Наиболее интересной и содержательной из всех опубликованных критических работ нам представляется статья П. Громова «Драма Д.Б. Пристли «Опасный поворот» и проблема реализма в драматургии»59.
Обращая внимание на исключительную виртуозность построения пьесы
«Опасный поворот» , П. Громов подчёркивает, что главным достоинством
произведения является глубокое раскрытие характеров, соответствующее
законам реалистической эстетики. «Драматург даёт исчерпывающую
характеристику героев чрезвычайно скупыми, лаконическими чертами.
Именно поэтому пьеса так заинтересовывает читателя. Он видит не пустые схемы, а живых людей со всеми их слабостями и достоинствами»60.
Важность статьи П. Громова заключается в том, что он стремится осмыслить проблему контекста и традиций драматургии Дж. Б. Пристли. Критик размышляет об английском писателе как о продолжателе традиций итальянского автора Л.Пиранделло и русского А..П. Чехова. Именно характеры, по его мысли, отличают пьесы Пристли от театра Пиранделло, в
24 котором эстетика масок предполагает схематизм героев, их изначальную предопределённость.
Наиболее существенным поэтому Громов считает влияние на творчество Пристли драматургии А..П. Чехова. Пафос его статьи во многом определяется идеей структурно-содержательного сходства драмы Пристли «Опасный поворот» с чеховской «Чайкой»: «...драма Пристли чрезвычайно похожа на драму Чехова. В чём разница? Основное отличие - различное использование мотива неразделённой любви. У Пристли неразделённая любовь - причина всех несчастий. У Чехова она - лишь повод для того чтобы показать различное отношение людей к большим жизненным проблемам... вывод Пристли по отношению к его героям таков: все они заслуживают жалости, снисхождения, сочувствия. Они ни в чём не виноваты. Они жалки. Всё это так, конечно. Но этого мало. Отсутствует широкая перспектива, фон, на котором они действуют».61
Вслед за Громовым проблему традиций в драматическом творчестве Дж. Б. Пристли затрагивает А. Мацкин в статье «Пристли и его герои» (1940)62. Критик также рассуждает о проблеме характера в творчестве английского писателя. Основное его внимание сосредоточено на пьесе «Опасный поворот». При этом Мацкин открыто полемизирует с Громовым, давая резко негативную оценку первой драме Пристли. «Человек способен сам пролагать свой путь, выбирать наибольшее благо и наименьшее зло. Пристли лишает нас такого права выбора...Драматургия Пристли - холодная летопись катастроф писателя и его героев. Чтобы оправдать свою безучастность, Пристли готов даже придумать теорию «новой драмы»...Искушённый в литературных тонкостях Пристли не понимает, что его новаторство не оригинальный принцип творчества, а комбинация из давно существующих принципов. Вариант хотя бы того же Пиранделло!..»63
« Хорошее и дурное в творчестве Пристли, - утверждает Мацкин, -можно определить так: хорошее - от Чехова, дурное - от Пиранделло. Мы имеем ввиду не литературные традиции, а самый характер отношения к жизни .
25 Чехов - беспокойство и человечность, Пиранделло - равнодушие и бессердечный техницизм. Нынешний Пристли - это очень много Пиранделло и очень мало Чехова»64.
Вряд ли можно назвать корректными замечания Мацкина, касающиеся характеров Пристли, своеобразия построения пьесы «Опасный поворот», а также влияния Пиранделло и Чехова на мировосприятие английского драматурга. Есть ли в пьесе «Опасный поворот» острый драматический конфликт? Безусловно, да .Есть ли в этом произведении напряжённое развитие действия? Конечно. Напряжённое развитие действия свидетельствует об умении драматурга почувствовать нерв жизни. В таком случае о какой безучастности автора к происходящему рассуждает критик? Что же касается негативного влияния Пиранделло на Пристли, то, думается, прежде чем назвать это влияние таковым, следует учесть особенности эстетики итальянского писателя .
«...исследуя в драматургии процесс обезличивания человека, - отмечает современный исследователь М.М. Молодцова, - Пиранделло должен был и в театре прийти к тому же, к чему пришёл в эпике: к изображению «исчезающего» характера, стирания самобытности, потери колоритно-характерных черт и чёрточек человеческой натуры. Оригинальность лиц мы улавливаем, заглядывая под надетые ими маски. Сам факт, что в ряде пьес 1910-х годов под маской всё же таится подлинный характер, не перечёркивает другого - художественной закономерности маскирования личности. Ведь если в обществе идёт процесс замещения личности фикцией, в искусстве происходит деиндивидуализация характера. У Пиранделло она выражается в том, что персонаж перестаёт быть характером на самом деле и создаёт видимость характера, облекаясь маской»65.
Столь же неоднозначными и довольно противоречивыми представляются замечания Р. Миллер-Будницкой, касающиеся двух пьес Пристли - «Время и семья Конвей» и «Я уже был здесь раньше». О последней из этих пьес критик говорит следующее: «Пьеса проникнута реакционно-мистической «теорией
26 времени», изобретённой Пристли. Эта теория представляет собой смесь эйнштейновских идей об относительности времени и пространства с идеями мистиков о переселении душ, о перевоплощении, о предопределённости человеческого поведения. Пристли здесь выступает типичным эклектиком, смешивая прогрессивную теорию Эйнштейна, имеющую огромное научное значение, с самыми реакционными течениями современной идеалистической философии на Западе» .
Во-первых, Пристли никаких теорий, как общеизвестно, не изобретал, а воспользовался уже готовыми. Во-вторых, проблематика пьес Пристли не ограничивается сугубо социальными аспектами: для Пристли более важными являются нравственно-философские проблемы. Недаром сама же Р. Миллер-Будницкая замечает: «Но, конечно, не в этой «философии» смысл пьесы. В этой «драме о времени» есть здоровое зерно. Здесь Пристли впервые отказывается от обречённости погибшего поколения, от безысходности положения «маленького человека»67.
Отчётливо позитивную оценку, которая нам представляется важной, даёт первым пьесам английского писателя Т. И. Сильман: «Драмы Пристли полны... «интересных ходов», они увлекают своей конструктивностью, ибо в них с каждой вновь достигнутой сюжетной точки по-новому обозримо целое. И однако в этом нет никакого культа формы, настолько Пристли действует в угоду своему разумному заданию. В этом смысле Пристли напоминает драматургов классицизма»6 .
Интересными представляются и замечания И. Звавича, касающиеся проблемы характера в творчестве Пристли 30-х годов. Критик поддерживает мнение английских исследователей о близости Пристли в принципах изображения характеров Диккенсу: «... сходство с Диккенсом заключается в том, что Пристли, подобно Диккенсу, берёт своих героев из людей «всякого состояния», симпатизируя им, в зависимости от их душевных и моральных качеств, и в том, что Пристли, подобно Диккенсу, стремится к возрождению традиций «старой, весёлой Англии».. .Несомненное сходство можно установить
27 и в самой манере письма...» Размышления Звавича касаются не только драматургии, но и романного творчества писателя.
Таким образом, отклики отечественных критиков на первые опубликованные в России драматические произведения Пристли содержат целый ряд концептуально важных замечаний, касающихся не только идейно-содержательных основ драм Пристли, но и их поэтики, опирающейся на традиции русской и зарубежной драматургии. При этом очевидно, что стремление глубоко осмыслить и позитивно воспринять творчество Пристли является более значимой тенденцией в критических работах, нежели негативные оценки ранних пьес Пристли, вызванные в большей степени непреодолённым влиянием вульгарного социологизма, чем выражением сугубо профессионального мнения, что представляется закономерным для эпохи тридцатых годов. Однако негативные моменты в восприятии творчества Пристли служат существенным стимулирующим фактором для дальнейшего плодотворного осмысления литературного наследия английского писателя, помогают более объективно ощутить своеобразие его художественного мира.
Следующий этап освоения драматургического наследия Пристли охватывает 50-е - 60-е годы. Автор учебника «История английской литературы»(1956) А .А. Аникст указывает, что Пристли «трактует тему нравственного разложения буржуазной семьи в духе поверхностной критики, создавая пьесу сенсационно-развлекательного характера»70.
Более весомой и во многом определяющей для этого периода стала оценка Пристли, которая была дана Д.Г. Жантиевой в академическом издании «История английской литературы»(третий том), вышедшем в 1958 году: «Своё творчество он пытался противопоставить пессимистическим настроениям писателей так называемого «потерянного поколения»...Но если творчество Пристли лишено пессимизма, трагического надрыва, подчас свойственного произведениям Олдингтона, то оно лишено также и того, что составляет сильную сторону последнего, - остроты критики буржуазного строя...»72 Эта оценка творчества Пристли представляется весьма значимой, поскольку она
28
объективно отражает взгляд исследователя, определяемый идеологическими
тенденциями времени. Но в еще большей степени такая оценка важна потому,
что она косвенно касается проблемы, интересующей нас в данном
исследовании. Творчество Пристли можно, действительно, воспринимать как
лишённое острой социальной критики буржуазного строя. Но у писателя,
воплощающего в своих произведениях принципы христианского
мировосприятия, такой критики и быть не должно, поскольку объектом его исследования становится душа человеческая, её мир во всей своей глубине и многообразии. С другой стороны, нельзя согласиться и с полным отсутствием критики в творчестве Пристли. Ещё в ранних своих романах «Улица Ангела»( 1930) и «Герой-чудотворец»( 1933) писатель достаточно тонко вскрывает механизм наживания прибыли и обмана, к которому прибегают дельцы «процветающего общества» .
« Пристли не стремится...в своих пьесах...- продолжает Жантиева, -разоблачить буржуазное общество «до дна». Прегрешения своих героев он осуждает главным образом потому, что их поступки подрывают основы буржуазной системы»74. И это утверждение, на наш взгляд,также представляется спорным. Во-первых, Пристли, следующий традициям чеховского театра, никого из героев не осуждает, а стремится их понять и вызвать к ним у зрителей и читателей сочувствие. Во-вторых, сомнительна мысль о подрыве героями Пристли «основ буржуазной системы», поскольку сама буржуазная система в корне не рассчитана на какую бы то ни было приверженность высоким нравственным добродетелям, а кроме того, многие из героев Пристли и не совершают тяжких проступков, которые каким-либо образом могли бы служить подрыву любой, не только буржуазной, системы.
Несколько позднее Д.Г. Жантиева, размышляя о влиянии русской классической литературы на эстетические взгляды английских писателей, указывает на чеховскую традицию как важнейшую для понимания драматургии Пристли в контексте мировой литературы.75
Об общественно-политических воззрениях Пристли, а также о секрете его популярности у публики рассуждает также и Н.Я. Дьяконова. Однако её внимание акцентировано в большей степени на специфике театра Пристли, на своеобразии его драматических произведений. «В стремлении возродить театр, - считает Дьяконова, - соединить социальную тему с увлекательной интригой, драматург пошёл по пути формального новаторства, слишком часто ограничивавшегося погоней за свежими драматическими эффектами, за неглубокой занимательностью. Сам писатель свою пьесу «Опасный поворот» назвал «просто набором хорошо придуманных фокусов» и «техническим упражнением в области драматического искусства»7 .
Думается, однако, не всегда следует в качестве литературоведческого компаса использовать высказывания писателя по поводу его произведений, поскольку они субъективны и не всегда адекватны истине.
Более позитивную оценку драматургии Пристли даёт Э.И. Глумова-Глухарёва в книге «Западный театр сегодня» (1966)77. «Драматургия Пристли, -указывает критик, - позволяет поставить его имя рядом с именами виднейших зарубежных писателей нашего времени. В творческой манере Пристли преобладает интеллектуальное начало. Лирические отступления, буйство эмоций, любование природой чужды писателю. Пристли прежде всего интересует логика поведения действующих лиц, столкновение социальных интересов и психология взаимоотношений»78.
Стремясь осмыслить творческие поиски Пристли через призму поэтики его драматических произведений, Глумова-Глухарёва тем самым приближается к более глубокой и позитивной оценке пьес английского автора. «Путь Пристли-художника, - продолжает она, -пролегает в стороне от эстетики экзистенциалистской или фрейдистской литературы. Его творчество отличается трезвостью здравого смысла. Лейтмотив большинства пьес Пристли -обнажение внутренней сущности буржуазного общества. Напряжённость интриги строится не на внешней динамике действия, а заложена в острых, иногда парадоксальных диалогах действующих лиц»79. Такое постижение
природы театра Пристли, стремление проникнуть в глубокие основы произведений английского автора представляется нам плодотворным как для практического исследования, так и для понимания мировосприятия драматурга.
Размышления о жанровой природе драматургии Пристли, а также о других особенностях его поэтики, принадлежащие А.А. Гозенпуду, также представляют научный интерес. Прежде всего он отмечает, что в пьесах Пристли обнаруживается излишнее увлечение техницизмом в ущерб содержательному уровню. «Взаимопроникновение жанровых элементов, совмещение драмы и комедии свойственны литературе XIX - XX веков. Но если у великих учителей Пристли - Чехова, Шоу и Пиранделло - это совмещение было органично и помогало раскрытию противоречивого единства жизни, в которой смешное и горькое нередко неотделимы, то в творчестве Пристли самодовлеющие поиски новых драматических форм, новые сценические техники иногда выступают вне связи с содержанием»80.
Затрагивая проблему характеров в драмах Пристли, А.А. Гозенпуд полагает их статичными и лишёнными развития. Вот что он говорит по этому поводу о персонажах пьесы «Опасный поворот»: «Образы героев не развиваются, да и не могут развиваться - все замкнуты в тесный круг, откуда нет выхода. Как ни искусно написана пьеса... её мастерство холодно и не согрето подлинным волнением. Несомненно, что самый замысел драмы, рисующий крах иллюзий, за которые цепляются люди, подсказан Пиранделло. Пристли превосходно усвоил приёмы итальянского мастера, но он не достиг глубины Пиранделло»81.
Эти замечания не являются бесспорными. Что касается характеров, то их изображение обусловлено жанровой природой произведения: если в пьесе ощутимо детективное начало, то характеры, безусловно, тяготеют к минимальному развитию, поскольку детективная структура развития характеров и не предполагает. А что касается утверждения, что Пристли в первой пьесе не удалось достичь глубины Пиранделло, то это также
31 представляется закономерным: «Опасный поворот» - первое произведение, созданное Пристли для театра.
Таким образом, литературоведческая мысль 50 - 60-х годов сконцентрировала своё внимание на проблемах художественного метода писателя и его творческой манеры, формального или подлинного новаторства, жанровой специфики его пьес. При этом полного и всеобъемлющего исследования драматургии английского автора, как и других литературных форм его творчества предпринято не было.
Весомый вклад в изучение театра Дж.Б. Пристли отечественным литературоведением был внесён в 70-е годы А.В. Очманом и А.С. Шитик -авторами диссертационных исследований и статей. Большое место в исследовательских работах Очмана занимает вопрос о трактовке английским драматургом чеховского наследия. Проблема влияния чеховской поэтики на художественную ткань «драм времени», как и других пьес, оказалась фактически вне поля зрения автора.
Диссертация А.С. Шитик охватывает весь путь Пристли-драматурга. В ней даётся общая характеристика эстетических принципов его театра и делается общий обзор драматических произведений писателя с учётом периодизации его творчества . При таком подходе подробное рассмотрение поэтики драм Пристли оказывается невозможным.
В 80-е годы опубликован полемичный очерк Д.С. Наливайко, касающийся в целом всего творчества Пристли. «В английской литературе новейшего времени, - указывает Д.С. Наливайко, - Джон Б. Пристли...занимает заметное, хотя и весьма своеобразное место. Ведущие английские литературоведы им явно пренебрегают... Подобный подход аргументируется тем, что творчество писателя пребывает в опасной близости от «массовой литературы», а то и оказывается в её пределах, что оно «вторично» в художественном отношении, не отличается смелым поиском, оригинальностью. Надо признать, что эти утверждения не лишены определённых оснований: действительно, Пристли ориентировался на массовые интересы и вкусы и
32 нередко делал им откровенные уступки, оборачивавшиеся тривиальностью, если не низкопробностью некоторых его произведений, да и в сфере эстетико-художественной оригинальностью он не блистал, довольствуясь умелым использованием проверенных открытий других художников»83.
Действительно, многие критики считают Пристли едва ли не «второсортным» писателем. Однако утверждение автора вышеприведённого пассажа, что творчество Пристли находится на пограничье с «массовой литературой», представляется необоснованным и неправомерным. Оно противоречит известным биографическим фактам. Так, например, первая постановка пьесы «Время и семья Конвей» окончилась провалом. Причина провала заключалась в том, что публика оказалась неподготовленной к восприятию столь сложной пьесы. После неудачи драматургу предложили отказаться от третьего действия, которое возвращает персонажей на двадцать лет назад, в прошлое. Пристли на такое предложение не согласился. Впоследствии эту драму ждал подлинный успех - принципиальность автора была оправдана. Пристли считал недостойным истинного художника в угоду собственному материальному и моральному благополучию отказываться от авторского замысла.
Критические замечания Е. Гениевой, появившиеся в этот же период, посвящены не драматургии, а публицистике Пристли, однако и они представляют для нас определённый интерес. «Сколь ни интересны его романы, и как ни замечательны, особенно для своего времени, его пьесы, - считает Е. Гениева, - настоящий Пристли - это Пристли-эссеист»85. Безусловно, это высказывание также представляется весьма спорным, поскольку в период расцвета творчества Пристли автором создавались именно драматические произведения, а не эссе, поскольку писатель внёс столь существенный вклад в английскую и мировую драму, что его произведения, предназначенные для постановки на сцене в своей совокупности удостоились наименования «театр Пристли», подобно тому, как существует театр Ибсена, театр Чехова, театр
33 других крупных художников. Поддерживает такое мнение и зарубежное литературоведение.86
Г.В. Аникин в совместном с Н.П. Михальской труде «История английской литературы» (1998) своеобразие драматургии английского автора определяет следующим образом: «В пьесах Пристли ощутимо влияние чеховской драматургии.В соответствии с чеховской традицией Пристли стремится передать драматизм повседневности, достичь свободного развития событий, показать жизнь со всеми её полутонами, раскрыть характеры не только центральных, но и второстепенных действующих лиц. На основе традиций чеховской драмы Пристли вырабатывает и свои оригинальные приёмы, которые связаны прежде всего с особым вниманием к категории времени» .
Автор этого высказывания не отказывает Пристли в оригинальности и новаторстве, а в отношении традиций, на которые он опирается как драматург, указывает только чеховское влияние. На наш взгляд, эта трактовка проблемы требует расширения. Драматургия Пристли, безусловно, не ограничивается только опорой на Чехова. В ней сказываются - хотя бы в отдельных моментах -и античная традиция, и влияние Пиранделло и , конечно же, традиции соотечественников Пристли - Шоу и Голсуорси.
Мысль о Пристли как о новаторе в области драматургии поддерживает и Н.А. Соловьёва, размышляющая о созданной писателем театральной теории.88
Таким образом, все споры и разногласия, касающиеся драматургии Пристли и его творчества в целом, сводятся к одному ключевому вопросу: можно ли признать подлинным новаторство Пристли и является ли его драматургия принадлежностью «большого» искусства. Думается, ответить на этот вопрос невозможно без глубокого исследования поэтики драм английского писателя.
Театр, озарявший всю его творческую жизнь, Пристли знал не понаслышке: он не просто создавал драматические произведения, но нередко выступал и их постановщиком. Помимо этого Пристли, как известно, создал
34 собственную театральную теорию, основные принципы которой воплощены в его цикле лекций, опубликованных впоследствии под общим названием «Искусство драматурга»89.
«Основной пафос лекций, - справедливо отмечает Н.А. Соловьева, -заключается в том, что автор подходит к искусству драматургии с двух позиций - как автор и как актер, знающий сцену как бы изнутри. Пристли признает пьесы, написанные только для театра, а не для чтения. По его мнению, драматург так же тесно связан с театром и зрителем, как повар с кухней. Целью
его является драматическое переживание» .
В культурно-историческом отношении драматургия Пристли представляет собой последующий этап в развитии «новой драмы». «Новая драма, - замечает Т.К. Шах-Азизова, - борется за равноправие драмы в ряду других искусств и других родов литературы, перестает чувствовать себя изолированно от общего движения культуры - активно использует достижения других жанров, видов искусства» '.
Основные принципы и традиции драмы нового типа развивались и закреплялись в творчестве Г. Ибсена, Г. Гауптмана, Б. Шоу, М. Метерлинка, А.П. Чехова. Дж.Б. Пристли выступает как ученик и продолжатель своих талантливых предшественников, осуществлявших новаторские поиски в области драматургической поэтики. Особенно важное значение для понимания творческих поисков Пристли имеют принципы чеховского театра. Как показано выше, английский драматург считал своего русского предшественника учителем и стремился творчески воплощать принципы театральной системы Чехова. Пристли принадлежат также исследовательские работы, исследующие творчество русского писателя.
«Как драматург Чехов - это Ибсен, поставленный с ног на голову, -считает Пристли. - Его искусство являет собой прямую противоположность канонической драматургии... Обычно нас заверяют, что драма рождается из конфликта между двумя или несколькими главными персонажами... Этого основного конфликта... мы не найдем у Чехова . Избегая канонического
35 построения, предоставляя событиям развиваться свободно, он получает возможность раскрыть характеры своих героев... с самых разных сторон и самыми различными приемами... Вместо обычной, стремительно развивающейся интриги... у Чехова - постепенное, совершаемое безо всякого
„92
насилия движение характера, строго рассчитанный ритм настроении» .
Однако английский писатель как истинный художник не только стремится воплотить в своих произведениях для театра наиболее значимые для него открытия Чехова, но и полемизирует с ним, выступает как исследователь, пытающийся в театральном творчестве создавать свои собственные пути, свидетельствующие о его смелом новаторстве и эксперименте. Плодотворные поиски Пристли оказали существенное влияние на дальнейшее развитие как английской, так и мировой драматургии.
Однако какое бы важное значение ни имело творчество Пристли для развития мировой драматургии, основные особенности его поэтики, отражающие христианскую модель мира, на наш взгляд, до сих пор фактически не изучены. Кроме того, широко не исследовался хронотоп его произведений. Эти обстоятельства существенным образом сказались на содержании данного исследования, методологические основы которого отражают синтез нескольких подходов к изучению литературы - сравнительно-исторического, формального и структурного. Методологическую базу работы составили теоретические труды известных русских учёных - А.Н. Веселовского, М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана, Е.М. Мелетинского, а также исследователей английской литературы -А. Брауна, Г. Ивенса, Д. Хьюза, А. Николла, X. Клейна, А.А. Аникста, Л.Е. Пинского, В.В. Ивашёвой, Г.В. Аникина, М.И. Воропановой, З.Т. Гражданской, Н.Я. Дьяконовой, Ю.И. Кагарлицкого, Н.П. Михальской, Е.Н. Черноземовой, И.О. Шайтанова и других.
Предлагаемое исследование в отношении определения границ объекта изучения опирается на следующие принципы:
во-первых, учитывается наличие реального эксперимента со временем, повлиявшего на формирование художественного мира произведения, и в первую очередь - композиционной структуры;
во-вторых, внимание сосредоточено на тех пьесах, рассмотрение которых представляется целесообразным под углом христианского мировосприятия, являющегося весьма существенным для анализа поэтики многих произведений Пристли.
Таким образом, основное внимание наших исследовательских поисков сосредоточено на классическом цикле «драм времени», включающем три пьесы - «Опасный поворот», «Время и семья Конвей» и «Я уже был здесь раньше». Помимо этого рассматриваются также пьесы тридцатых годов «Райский уголок» и «Музыка ночью», а неоднократное фрагментарное обращение к драмам «Корнелиус», «Инспектор пришёл», «Скандальное происшествие с мистером Кэттлом и миссис Мун» и некоторым другим произведениям необходимым образом расширяет контекст исследования.
Итак, цель данной работы - детально исследовать художественную структуру «драм времени» Дж.Б. Пристли и, опираясь на принцип «бальзаковского парадокса», доказать принадлежность «драм времени» Дж.Б. Пристли христианской культуре, тем самым разрешив противоречие между высказываниями писателя и критиков о нём как о человеке, чуждом евангельскому мировосприятию, и созданной им объективной картиной мира, в которой сказалось христианское мировоззрение.
Исходя из этого, основные задачи исследования можно определить следующим образом:
исследовать структуру хронотопа и определить его роль в формировании христианской картины мира «драм времени»;
изучить конфликт данного цикла в аспекте мифопоэтического мышления;
рассмотреть основные композиционные принципы «драм времени» в контексте развития многопланового конфликта, неразрывно связанного с евангельской традицией;
37
4. рассмотреть типологию персонажей Дж. Б. Пристли в свете
христианской модели мира.
Структура реального хронотопа
Художественная структура «драм времени» Дж.Б. Пристли содержит значительное количество элементов, которые были актуализированы ещё в библейских сюжетах и образах.
Евангельские тексты пронизаны бинарной оппозицией «внешнее -внутреннее», о которой говорится и открыто, и в скрытой форме. «Тогда сказал царь слугам: связавши ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов; ибо много званных, а мало избранных» . «Тьма внешняя», которая противостоит внутреннему или духовному свету, упоминается не один раз. Следовательно, по Евангелию, существуют два мира - внешний и внутренний. Каждому миру соответствуют и свои обитатели - люди, которые тоже подразделяются на внешних и внутренних. «И сказал им: вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним всё бывает в притчах, так-что они своими глазами смотрят, и не
Эта евангельская оппозиция внешнего - внутреннего определяет всю структуру мира. Внешность и внутренность выступают как конституирующие качества всего сущего: «... ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные! Не Тот же ли, Кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее?»95
По аналогии с христианским учением вся художественная структура «драм времени» Пристли может быть представлена как структура внешняя и структура внутренняя. Следовательно, можно исследовать в произведениях внешний и внутренний хронотоп, внешний и внутренний конфликт, внешних и внутренних персонажей. Рассмотрение атрибутов внешнего мира также предполагает необходимость обращения в нашем исследовании к христианской традиции, ибо внешнее - часть общего мироустройства, без которого невозможно осмыслить внутреннее как устремлённость к воплощению духовных идей.
Хронотоп «драм времени», определяющий взаимодействие всех прочих элементов поэтики, можно подразделить на внешний и внутренний. Внешний хронотоп - это хронотоп, подчиняющийся законам исторического времени и имеющий реальную событийную основу. Внутренний хронотоп - это мифопоэтический хронотоп, опирающийся на христианскую традицию и выявляемый только в подтекстном плане произведения.
Необходимо подчеркнуть эту важную особенность внутреннего хронотопа - его подтекстность. Следовательно, мифопоэтический хронотоп, представленный в произведении открыто, а не подтекстно, будет по типу являться не внутренним, а внешним хронотопом. О мифопоэтическом хронотопе, который выступает как часть внешней структуры, говорить проще, поскольку он открыто выражен в сюжетной конструкции, гораздо сложнее выявить этот хронотоп в подтексте или внутреннем уровне произведения, являющемся в «драмах времени» более значимым.
Внешний хронотоп при всей своей противопоставленности внутреннему не изолирован от него и ни в коей мере не «бесполезен». Внешний хронотоп всегда содержит в себе скрытую возможность проявления хронотопа внутреннего: так же, как любое событие отражает не только социально-историческую, но и мифологическую реальность, а в нашем случае -реальность христианскую. Л.Е. Пинский в связи с этим отмечает: «Средние века имели свою философию всемирной истории в учении о... прогрессивных ступенях движения земной жизни человечества, направляемого провидением к Царствию Божию, когда «времени больше не будет», - согласно «Откровению от Иоанна»96.
Таким образом, внешний хронотоп и хронотоп внутренний выступают как различные углы зрения на одни и те же события, и внутренний хронотоп не может быть адекватно понят без анализа хронотопа внешнего.
Внешний хронотоп в пьесах Пристли имеет реальный и условный аспекты. Реальный аспект хронотопа предполагает соответствие пространственно-временной структуры произведения границам жизненного правдоподобия. Условный аспект, в свою очередь, проявляется при демонстративном и сознательном нарушении художественного правдоподобия в стиле произведения.
В «драмах времени» реальный хронотоп можно определить следующим образом - мир пошлой обыденности в многоплановом времени. Временную доминанту этого хронотопа образует синтез нескольких форм художественного времени. К числу таких форм относятся следующие: во-первых, бытовое время; во-вторых, авантюрно-детективное время; в-третьих, биографическое время; в-четвёртых, мистическое время.
Многоплановость времени создаётся Пристли во многом благодаря двум разновидностям анахронического построения текста - ретроспекции и антиципации.
Важность вычленения в хронотопе нескольких форм художественного времени обусловлена их конституирующей по отношению к конфликту ролью. Это означает, что представленные в произведениях Пристли формы времени образуют две группы, которые противопоставлены друг другу. Эта противопоставленность и создаёт ту базу, на основе которой зарождается и развивается многоплановый конфликт.
Внешний конфликт
Сложный хронотоп «драм времени» определяет многоуровневый характер конфликтно-композиционной структуры этих произведений. В.Е. Хализев предлагает различать два типа конфликтов -«конфликты-казусы: противоречия локальные и преходящие, замкнутые в пределах единичного стечения обстоятельств и принципиально разрешимые волей отдельных людей» и «конфликты субстанциальные, то есть отмеченные противоречиями состояния жизни, которые либо универсальны и в своей сущности неизменны, либо возникают и исчезают согласно надличной воле природы и истории, но не благодаря единичным поступкам и свершениям людей и их групп»158.
Хотя разделение конфликтов на два типа - конфликты-казусы и субстанциальные конфликты - представляется приемлемым, тем не менее оно касается только внешнего действия или, иными словами, оба предложенные В.Е. Хализевым типа конфликта являются разными гранями внешнего конфликта. Внутренний конфликт при этом оказывается за пределами данной схемы, поскольку философское понятие «субстанциальный» обычно трактуется как «материальный», а сама «субстанция»,естественно, как синоним «материи»15 .
Внутренний конфликт выходит за грани субстанциального в силу того, что имеет не материальную, а духовно-нравственную основу и порождается христианской картиной мира. Однако путь к осмыслению внутреннего конфликта, на наш взгляд, представляется целесообразным пролагать через анализ внешнего конфликта и способов его воплощения, то есть композиционных принципов, поскольку идейно-содержательная глубина внутреннего конфликта ярче высвечивается только при сравнении с внешним уровнем конфликта
В пьесе «Опасный поворот» нетрудно выделить как конфликт-казус, так и субстанциальный конфликт. Конфликт-казус или локальный конфликт, по справедливому замечанию А.Б. Есина, «предполагает принципиальную возможность разрешения при помощи активных действий; обычно герои и предпринимают эти действия по ходу сюжета»1 .
Локальный конфликт пьесы «Опасный поворот» отчётливо выражен и в достаточной степени прямолинеен - это конфликт правды и лжи. Действующие лица образуют два противостоящих друг другу лагеря: с одной стороны, Роберт Кэплен, «упрямый правдолюбец», искатель истины ,с другой стороны, его близкие и друзья - жена Роберта Фреда, супруги Уайтхауз, а также Стэнтон и Олуэн, которые полагают, что без лжи и лицемерия человеческое существование станет просто невыносимым. Особое положение занимает Мод Мокридж - она выступает в качестве зрителя всего происходящего и не выражает открыто своей позиции в отношении обсуждаемого вопроса.
Такова расстановка расстановка сил в драме. О ней мы узнаём из первой части экспозиции, под которой следует понимать действие драмы до завязки. Первая часть экспозиции является своеобразным метаконфликтом. Действующие лица обсуждают прослушанный только что радиоспектакль, в котором человек, узнавший горькую правду о своих близких, не смог вынести горькой истины и кончил жизнь самоубийством. Таким образом драматург устами персонажей формулирует суть конфликта и пути его разрешения, которые будут воплощены в действии драмы.
Основная функция метаконфликта - он помогает автору подчеркнуть условность локального конфликта: не случайно герои пьесы, обсуждая события радиоспектакля, неоднократно указывают на их надуманность, оторванность от жизни.
Завязкой действия становится «опасный поворот», когда присутствующие из разговора Фреды с Олуэн узнают, что обе они скрывают какую-то тайну. Возникновение конфликта может быть обусловлено решением Роберта раскрыть эту тайну - примирись он со сложившейся ситуацией, и действие развивалось бы иначе. Однако такой исход вступил бы в противоречие с логикой характера Роберта, поскольку в предшествующей части экспозиции он неоднократно выражает свою позицию: «Всерьёз или в шутку, но я всегда стою за то, чтобы всё выходило наружу. Так лучше»161. Решение главного героя узнать истину, связанную с музыкальной папиросницей, и создаёт драматический конфликт.
Важной представляется проблема экспозиции. Как правило, завязка драмы не следует за экспозицией, а сама экспозиция содержит завязку. Экспозиция - это обрисовка среды, в которой происходит действие. В неё входит рассказ о событиях, непосредственно предшествующих завязке, о тех событиях, которые произошли до поднятия занавеса. А ведь именно о них и идёт речь на протяжении всего действия рассматриваемой пьесы до кульминации.
«Метод построения «Опасного поворота», - справедливо полагает Т.И. Сильман,- восходит к античной драматургии. Это - то, что в своё время Шиллер назвал трагическим анализом... античная трагедия представляет собой как бы расширенную, гиперболизированную экспозицию, прямым результатом которой является трагическая развязка. Однако важнейшее условие - чтобы экспозиция была экспозицией (то есть разъяснением прошлого) не только для зрителя, но и для самого трагического героя. В этом-то и состоит конструктивный принцип такой трагедии: герой узнаёт одновременно с нами, и мы присутствуем при его гибели»162.
Внешние и внутренние герои
Основные типы драматических героев Дж. Би. Пристли, неразрывно связанные с христианским мировосприятием писателя, наиболее отчётливо проявляются именно в «драмах времени». Для художника человек - это прежде всего личность, целью жизни которой должно стать освоение Высшего, сокровенного знания, постижение той Истины, которая и сделает его существом, действительно отличающимся от других живых организмов. Согласно пристлиевской концепции человека, характеры в произведениях писателя образуют два главных типа - «живые» и «мёртвые».
Наиболее тенденциозно мысль о разделении людей на вышеуказанные типы звучит в рассказе Дж. Б. Пристли «Случай в Лидингтоне».
Министр Джордж Кобторн, подъезжая к городу Лидингтону, узнает от соседа по купе, что «большинство жителей Лидингтона, как и большинство людей где бы то ни было, - либо спящие, либо мертвецы»210. После приезда в город Лидингтон министр убеждается в справедливости слов человека, показавшегося ему чудаком: люди, с которыми ему приходится сталкиваться, действительно, воспринимаются как спящие или нравственные мертвецы.
Расстановка персонажей в пьесах Пристли, обусловленная идеей преобладания «мертвых» над «живыми», определяет особенности хронотопа. Если подавляющее большинство героев драм английского писателя - люди внешние, то есть не живущие подлинными человеческими интересами, то и сам мир, в котором они существуют, становится тоже внешним, неестественным, ненастоящим, миром-призраком.
И если в пьесе «Время и семья Конвей» мысль о призрачности окружающего мира только робко высказывается Кей: «...внезапно тебе кажется, что всё это не настоящее... и тебе хочется чего-то настоящего»211, то в драме «Скандальное происшествие с мистером Кэттлом и миссис Мун» эта идея получает мощное звучание и играет в ней главенствующую роль (город -призрак): «Вам когда-нибудь приходилось читать о городах-призраках в Долине Смерти в штате Калифорния? В них сохранились вокзалы, улицы, отели, магазины, банки, жилые дома, но людей в них нет, всё мертво. Разве нельзя допустить, что Брикмилл тоже город-призрак? Вы можете быть вполне солидным и надёжным малым, но в один прекрасный день вы идёте по главной улице - и вдруг у вас открываются глаза, и вы видите, что всё, что вас окружает, не настоящее».
Разделение пристлиевских персонажей на «живых» и «мёртвых» восходит в своей основе к таким христианским понятиям как «ветхий человек», «внешний человек» и «внутренний человек».
«Мёртвый человек» у Пристли близок двум христианским понятиям «ветхий человек» и «внешний человек».
Ветхий человек - это человек, застаревший в страстях и беззакониях и без благости Божией не могущий творить добрых дел.
Внешний человек - тот, который рассуждает только о внешних потребностях и благах временной жизни, а не духовной.
Как видим, «мёртвый человек» у Пристли близок христианскому пониманию внешнего человека и содержит в себе еще и черты ветхого. В дальнейшем будем пристлиевских героев данного типа называть внешними. Внешним героям противостоят «живые» или внутренние, в соответствии с христианской терминологией. Внутренний человек - это такой человек, который стремится строить собственную жизнь, основываясь на духовных принципах.
Внешние герои противопоставлены внутренним, причем первых в произведениях английского драматурга подавляющее большинство. Такая расстановка персонажей отражает не только пристлиевскии взгляд на проблему материального и духовного начал, но и на идеальную жизненную ситуацию. Рассмотрим сначала наиболее примечательные виды данного типа.
Тип «деловой человек». Среди «внешних людей» большая группа относится к типу «деловой человек». В число персонажей данного типа входят промышленники, финансисты, предприниматели, директора фирм. Однако социальная принадлежность героя к «деловому кругу» сама по себе ещё недостаточна, чтобы отнести его к данному типу, поскольку у Пристли «деловой человек» есть понятие, которое приобрело более широкий смысл: это человек, живущий в искусственном мире и активно культивирующий принципы этого мира.
Жизнь такого героя в пьесах английского драматурга представлена как полная иллюзия. Особенно отчётливо иллюзорный характер существования «делового человека» выявлен в пьесе «Опасный поворот». В этом произведении автор изображает сразу трёх героев, являющихся деловыми партнёрами, которые стали директорами фирмы, однако к типу «делового человека» можно отнести лишь одного из них - Роберта Кэплена.
На протяжении всей пьесы Пристли шаг за шагом обнажает полную духовно-нравственную несостоятельность этого героя. Читатель узнаёт, что Роберт Кэплен совершенно не знал своего брата, год назад трагически ушедшего из жизни, не понимал собственной жены, а любовь, которая неожиданно посетила его сердце, испытывал не по отношению к реальной женщине, а к придуманному эфемерно-искусственному созданию, рождённому его ограниченным воображением. Последним штрихом в раскрытии духовно-нравственной несостоятельности Роберта Кэплена стало его непреодолимое стремление к самоубийству после выяснения полной правды о близких ему людях.