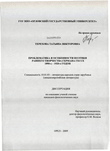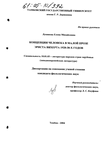Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Образ России в зарубежной литературе: имагологический подход 30
1.1. Теоретико-методологические основы литературоведческого имагологического исследования 30
1.2. Основные положения и понятия имагологии 42
ГЛАВА 2. Русское и британское «национальное»: схождения и расхождения 71
2.1. «Британское» и «русское»: постановка вопроса 71
2.2. Британское «свое» в истории и национальной мифологии 755
2.3. Русское «свое» в истории и национальной мифологии 98
ГЛАВА 3. Миф о России в британской литературе XII - XVIII вв.: история формирования 122
3.1. Оформление «ядра» мифа о России в британской литературе 122
3.2. Образы «туземной» России в британской литературе XVI – первой половины XVII веков 135
3.3. Непросвещенный народ: русские образы в британской литературе конца XVII – первой половины XVIII в. 162
ГЛАВА 4. «Варвар на Востоке»: миф о России в британской литературе XIX в . 175
4.1. Особенности восприятия России в британской культуре второй половины XVIII – XIX вв. 175
4.2. Миф о России в литературе английского романтизма и предромантизма (1790-е – 1830-е гг.) 1833
4.3. Миф о России в британской викторианской литературе (1830-е –1880-е гг.) 218
ГЛАВА 5. Миф о России в британской литературе на рубеже XIX–XX вв. 250
5.1. Бифуркация британского мифа о России на рубеже XIX–XX веков 250
5.2. Интерес к России и «мода на все русское» в Великобритании в 1890-х – 1920-х годах 272
5.3. Миф о России в британской литературе 1890-х – 1920-х годов 288
Заключение
Библиографический список
- Основные положения и понятия имагологии
- Британское «свое» в истории и национальной мифологии
- Образы «туземной» России в британской литературе XVI – первой половины XVII веков
- Миф о России в литературе английского романтизма и предромантизма (1790-е – 1830-е гг.)
Основные положения и понятия имагологии
Исторический момент, определяемый, в частности, интернационализацией экономики, образования, общения, наступлением массовой глобализованной культуры на культуру национальную, остро ставит вопросы о сходствах и различиях между культурами, о взаимовосприятии культур, о способах и возможностях их сближения, о возможном непонимании и неприятии, о коммуникативных неудачах на уровне «больших» межкультурных, межнациональных диалогов.
Любой диалог – это общение двух разных личностей. Это утверждение верно и в отношении межкультурного диалога. Степень понимания друг друга партнерами по диалогу во многом зависит от степени общности их информационных полей, их картин мира, их знаковых систем, ценностей, приоритетов. В межличностном общении понимание в большей или меньшей степени обеспечивается общностью знаковой системы (языка, культуры). Эта базовая общность проявляется в существенных совпадениях в картинах мира и системах ценностей говорящих, – совпадениях, связанных с воздействием традиции, культуры на сознание человека, и формируемых не в последнюю очередь через языковую картину мира. Такие совпадения, безусловно, не исключают непонимания. Напротив, непонимание – важнейшая структурная часть любого диалога. У двух людей картины мира, оценки и механизмы восприятия никогда полностью не совпадают – отсюда возникает «шум» в коммуникативной цепи, преодолимый не только с помощью базового общего знания и понимания, но и через установку на «другого», на его голос, на его «инаковость». В устремлении к преодолению «шума» происходит «приращение смысла», без которого нет общения.
В межкультурном общении «личности» говорящих не имеют базовой общности языка (традиции, культуры) и той системы культуроспецифичных смыслов, которая за ним стоит. В связи с этим «шум», возникающий в коммуникативной цепи при межкультурном общении, мало сопоставим с «шумом» при общении межличностном. Для его преодоления требуется мощный импульс, двигающий человека не только к другому человеку, но и к другой культуре. Иными словами, «шум» в этом случае в пределе преодолим устремлением не только к коммуниканту, но к его «базовому» знанию – его культуре, его языковой личности.
Проблемы межкультурной коммуникации могут рассматриваться с разных позиций. Важным фокусом гуманитарных исследований в связи с межкультурной проблематикой является описание национальных образов, мифов и стереотипов, а также обоснование и определение механизмов их формирования. С точки зрения диалогических отношений между личностью и культурой, человеком и традицией, между двумя разными культурами, национальный и инонациональный образ в произведениях художественной литературы является таким способом и результатом установления диалогичных отношений между «своим» (писателя) и «чужим» (другой культуры/нации), который четко проявляет общие закономерности межкультурного диалога и сам становится фактором воздействия на него.
Исследование таких образов лежит в области имагологии – научной дисциплины, которая изучает рецепцию и репрезентацию своего мира или мира других в культуре1. Имагология (от лат. imago – образ, изображение, отражение) – порождение компаративной науки и результат перехода современной гуманитарной науки к новой антропологической парадигме. Уже в работах И. Гердера, Ф. Шеллинга, В. фон Гумбольдта формируются представления о необходимости сравнения, сопоставления языковых структур и явлений для определения их сущности и выявления их специфики. В частности, в них рассматривается природа национального, вырабатываются понятия «национальный характер», «национальный дух», «душа нации». Впоследствии выраженный в них подход к национальному получил называние «примордиальный» (от англ. primordial – изначальный) или «органистический». Филологическая мысль XIX века в целом развивалась в русле примордиального подхода1.
Компаративный подход (в том числе и сравнительно-историческая школа отечественного литературоведения) стал к 60-м гг. ХХ века одним из самых влиятельных в России и западных странах. Уже в 1950-е годы в рамках этого подхода возникло понимание необходимости исследований «инонационального» – образов других народов в литературе.
Первопроходцем в этой сфере стал профессор Сорбонны Жан-Мари Карре, издавший в 1947 г. монографию «Французские писатели и немецкий мираж: 1800–1940»2 и его коллега Мариус-Франсуа Гийяр, выпустивший в 1951 г. книгу «Сравнительное литературоведение»3. Карре и Гийяр предложили переключить внимание исследователей с проблемы литературных влияний на проблему рецепции «другого». В 1950–1960-х годах во Франции появились первые литературоведческие исследования образа «чужого» (в частности, работы А. Лортолари, Ш. Корбе, М. Кадо об образе России во Франции).
Однако поворот не только к новой проблематике, но и к новой методологии, а также к новому пониманию «другого» принято связывать с именем бельгийского ученого Хуго Дизеринка. В 1966 г. он опубликовал статью «К проблеме «имиджей» и «миражей» и их исследования в рамках
Рассматривая имагологию как направление в компаративистике, задачей которого определяется исследование в литературе образа другой страны, народа, культуры, Дизеринк дает новую интерпретацию понятия «нация». С его точки зрения, нация есть в первую очередь не реально существующая общность, но ментальная конструкция, «временная модель мышления». Таким образом, Дизеринк акцентировал идеологические, рецептивные, внутренние аспекты и механизмы явлений, связанных с идентификацией и самоидентификацией.
Отталкиваясь от примордиального подхода, компаративистские исследования во второй половине XX века обращаются к проблеме рецепции «чужого» как социально, культурно и ментально обусловленному процессу. В 1988 г. основные теоретические результаты своих исследований Дизеринк обобщил в главе «Компаративистская имагология. О политическом значении литературоведения в Европе» коллективной монографии по имагологическим проблемам2. В понятии «имагология», как видим, осуществилось раскрытие внутренней формы слова imago, вмещающей в себя не только представление о целостности изображаемого и близости его изображаемому, но и представление о его опосредованности, отдаленности от реального предмета (отражение).
Британское «свое» в истории и национальной мифологии
Образ «косматого русского медведя» (the rugged Russian bear) в «Макбете» возникает тогда, когда Макбет готовится ко встрече с призраком убитого им Банко и пытается показать свою храбрость. Однако в художественном мире трагедии он предстает связанным не только с образом далекого, экзотического мира, но и с пространством мифологическим, нечеловеческим. Сюжет трагедии, движимый столкновением мира древнего, архаического, кельтского (здесь, в первую очередь, значимы фигуры ведьм и вся колдовская символика) и мира «современного» (шекспировского), осененного христианством, вовлекает в себя образ русского медведя. В столкновении архаического и современного этот образ оказывается, несомненно, принадлежащим архаическому миру.
В столкновении кельтского и христианского – кельтскому. В столкновении чудовищно-звериного и человеческого – звериному. В словах Макбета: «Я смею все, что может сметь мужчина./ Явись в любом другом обличье мне – / Как грозный носорог, иль тигр гирканский,/ Или медведь косматый из России – / И я не дрогну...»1 – прочитывается и свойственное кельтским мифам представление о превосходстве человека над древними зооморфными богами-чудищами фоморами, и христианское ощущение внутренней, духовной «инаковости» человека по отношению к природному миру. Наконец, в поздней пьесе «Зимняя сказка» «русская тема» возникает в связи с борьбой героини за справедливость, за свое достоинство. В третьем действии (акт 2) Гермиона, несправедливо оклеветанная своим мужем, говорит: Отцом моим был русский император: О, когда б он дожил до постыдного суда Над дочерью! Когда бы он увидел ужас Моей беды! Не с тем, чтоб мстить,
Но с тем, чтоб пожалеть меня. Очевидно, что здесь упоминание о России никак не связано с попыткой создания ужасного, устрашающе-поражающего образа. Оно, скорее, соотносится с планом фактической реальности (здесь можно вспомнить о реальном сватовстве Ивана Грозного к Марии Гастингс, племяннице королевы Елизаветы). В то же время, в семантической связке с несправедливостью и постыдным судом, против которого восстает Гермиона, и предполагаемой жалостью к ней ее отца-императора, «русское» здесь оказывается знаком удаленной силы.
Как видим, вторая половина XVI в. обозначила себя в истории британско-русских литературных взаимосвязей формированием нового слоя мифа о России в британской культуре и литературе. Этот слой, выстраивающийся вокруг образа отдаленного, холодного, туземного, нецивилизованного и природно богатого мира, постепенно формируется, начиная с 1550-х годов, в художественно-биографических и художественно-этнографических книгах английских путешественников и дипломатов. Затем он оформляется, художественно обрабатывается и входит в недра культуры через отдельные произведения английской художественной литературы – поэмы, стихотворения, повести, пьесы. Особую роль в художественном освоении и оформлении этого нового слоя мифа о России, а также в трансляции его смыслов в относительно широкие народные массы сыграла английская драматургия елизаветинской эпохи. В ней разрабатывается образ, в целом, ужасающего, устрашающего, поразительно сильного (в разных значениях) пространства, - образ, четко соотносящийся с «ядром» мифа о России и наращивающий на его «зооморфную» основу яркие детали.
Непросвещенный народ: русские образы в британской литературе конца XVII – первой половины XVIII в.
В период конца XVII – первой половины XVIII вв. происходят некоторые внутренние сдвиги в восприятии и изображении России англичанами. Ключевыми факторами, определившими эти сдвиги, следует назвать особое отношение англичан к первому русскому императору – Петру I, а также переход к просветительским взглядам и просветительской эстетике.
В связи с последним фактором русские образы теряют ту гиперболизованную чуждость и даже ужасность, которая была характерна для обрисовки русского мира в записках английских путешественников XVI в. и в английской художественной литературе второй половины XVI – начала XVII вв. Русские продолжают изображаться неразвитыми варварами, но теперь не столько лживыми туземцами, сколько непросвещенным темным (а потому не угодным Богу и несчастным) народом.
В связи с первым фактором образы непросвещенного народа и варварской страны зачастую начинают противопоставляться образу главы государства: с Петром I англичане связывают ожидания преобразования неевропейского государства в европейское, нецивилизованного – в цивилизованное. Следует подчеркнуть, что симпатии, которые вызвала и продолжала неизменно вызывать фигура Петра I, в целом не изменила общей тональности литературных изображений России.
Образ Петра формировался во многом под влиянием общего впечатления англичан от его пребывания в Англии. Как известно, Петр I путешествовал по Европе в 1697 – 1698 годах инкогнито в составе Великого посольства. Он посетил Лифляндию, Пруссию, Голландию и 21 января 1698 г. прибыл в Англию. За три месяца своего пребывания в этой стране он не только встретился с королем Вильгемом III и английской аристократией, но и посетил Гринвичскую Впечатление об «английскости» (с точки зрения определенной демократичности и обсерваторию, Монетный двор, Оксфордский университет; наблюдал заседания Парламента. Основное его внимание, однако, было уделено флоту – мастерским, арсеналам, докам, кораблям в Лондоне, Портсмуте и Дептфорде.
энергичности) и проанглийскости (с точки зрения готовности перенимать английский опыт) поведения русского царя подкреплялось материальными выгодами, которые английским купцам нес договор о праве на торговлю табаком в России, английским и шотландским солдатам и офицерам – практика найма для службы в российской армии, английским инженерам, врачам – неожиданная востребованность в Российской империи.
Образы «туземной» России в британской литературе XVI – первой половины XVII веков
В 1886 г. в поэзии Суинберна вновь нашла отклик болгарская тема – на сей раз, в гораздо более тесной связи с образом России. В 1885 г. началось новое освободительное движение болгар в Румелии, увенчавшееся успехом. Позиции России и Англии относительно поддержки болгар принципиально разошлись, Франция же по ходу событий стала поддерживать сторону Российской империи. Суинберн отреагировал на вмешательство России в болгарско-турецкий и в болгарско-сербский конфликты и на согласие на это вмешательство Франции целой серией сонетов (1886). В одном из них, в частности, Россия ассоциируется с медведем (bear) и змеей (serpent), в другом говорится о «Московите» (Muscovite), который «крадется на юг, обманывая и убивая» (Who slinks on southwards, lying & slaying … )2. Примечательно здесь не только прямое отнесение «русского мира» к политике Российской империи и образу государства, но и обращение к зооморфной образности и наименованию «московит». В этих произведения Суинберна за политическим образом России-монстра (или, как он фигурирует в английских карикатурах XIX века, России-спрута) ясно проглядывают устойчивые ядерные семы зооморфного чудища и семы варварской дикости, сформированные еще в XVI веке.
То же можно сказать и о самом известном художественном выступлении Суинберна в отношении России - оде «Россия» (Russia, 1890). Здесь также в ясном соединении политического подтекста с первичными слоями британского мифа о России создается гиперболично отвратительный образ государства, порожденного адом. Но в этом государстве томятся безвинные люди – российский народ, которого поработило государство.
Написанная, как говорит сам автор, под впечатлением от прочитанного материала Ланина-Диллона о русских тюрьмах, напечатанная впервые в книге «Русские характеристики и русские ужасы» этого же автора1, ода гротескно тенденциозна. Российское государство здесь метафорически уподобляется аду и одновременно ужасному подземно-подводному царству незнаемых чудовищ: «Out of hell a word comes hissing, dark as doom, / Fierce as fire, and foul as plague-polluted gloom … ». В этом царстве-аду томятся обреченные, проклятые безвинные люди – российский народ: « … wherin the sinless damned endure/ More than ever sin conceived … »2. Здесь «души и тела» как будто отданы на растерзание диким зверям (Souls and bodies as by fangs of beasts devoured). Даже Данте в аду не встречал «демонов, подобных Московиту» (whose fiends could match the Muscovite) – правителю России, царю (prove thee regent, Russia – praise thy mercy, Tsar)3. Поэт обращается с молитвой к Богу, людям, высшим силам с просьбой разрушить эту ужасающую Тиранию (Tyrannicide): «God or man, be swift … / … / Fall, O fire of Heaven and smite … / Halls wherin men s torturers … dwell!»4
В заключение оды поэт противопоставляет свободную Англию закрепощенной России; англичанина, сильного духом, - слабому, безвольному русскому. Как стихотворения Теннисона и Кэмпбелла, «ода» Суинберна заканчивается пророчеством (правда, более обобщенным, звучащим как оглашение вселенского закона): «Life it is that conquers; death it is that dies»5. Им и заканчивается стихотворение.
Как видим, в XIX в. британский культурный миф о России представляет собой сложносоставное социокультурное и историческое явление. Его актуальный слой складывается в ситуации столкновения военно-политических интересов Британии с интересами другой – и во многом «иной» - могущественной державы. Это столкновение приводит к появлению новых семантических элементов в структуре мифа (таких как «политический враг», «политическая сила», «военная мощь», «военная агрессия», «извращенность», «несвобода» и т.д.) и служит благодатной почвой для нового, углубленного прочтения русских образов, фактов русской истории, русского характера и русской природы в английской литературе. Русская образность, как никогда ранее глубоко, проникает в английскую поэзию не только по политическим причинам. Основным фактором здесь следует считать новый взгляд на природу и человека, родившийся на рубеже XVIII – XIX вв. и принесший с собой внимание к фактической реальности, сравнение себя с другими, удивление перед индивидуальным, иным.
Основная линия развития мифа о России в британской литературе XIX в. прочерчивается именами Байрона, Теннисона, Браунинга, Суинберна.
Большое место миф о России занимает в творчестве выдающегося английского поэта-романтика Байрона. Отчасти это объясняется преклонением Байрона-человека перед Наполеоном: Россия в художественном мире многих байроновских произведений предстает мистическим хронотопом, который вмещает в себя взлет и падение великого француза. Масштабная художественная проработка русской темы характеризует поздний шедевр Байрона – поэму «Дон Жуан». Здесь русский мир (русские герои и сюжет, связанный с русской историей) предстает в столкновении с восточным миром Османской империи и на поверку оказывается не менее (и даже более) варварским, жестоким и лицемерным. В то же время, глубокое падение, которое видит поэт в русских солдатах, офицерах, царедворцах, в русской царице, как бы отражает общее падшее существование человека и человечества, проявляемое и в политике и повседневной жизни Британской империи. В поэме «Бронзовый век» присутствует мотив героизма русского народа, восставшего за свою свободу против захватнической армии Наполеона.
В поэтических произведениях викторианского поэта-лауреата А. Теннисона образ России явственно приобретает черты политического соперника Великобритании, мрачного полудикого «варвара» с Востока, готового подмять под себя окультуренный мир Европы. Поэт предрекает падение деспотичного царского режима как необходимый акт избавления мира от власти тьмы. Вместе с тем, в поздних стихотворениях Теннисона русская тема не только реализуется в сюжете непосредственного военно-политического столкновения британского мира с русским, но и получает многозначное мифологичное прочтение как борьбы света и тьмы, добра и зла, цивилизованного порядка и древней природной стихийности, мира человеческого и звериного, христианского и языческого.
В поэзии Р.Браунинга впервые в истории английской литературы изображается мир русского крестьянства. Здесь действуют русские герои на фоне русского пейзажа и сюжета, соотносимого с русской легендой. Этот мир взят не как нечто экзотическое, но как реалистическая основа для проработки основополагающего для драматических поэм английского поэта конфликта - столкновения между дикостью природы и человечностью человека, между природным и божественным в человеке.
В творчестве А.Ч. Суинберна образ России проявляет все свои мифологические напластования: это и зооморфный подземно-подводный мир, и варварская страна, и политический агрессор. В оде «Россия» Суинберн символически изображает Россию проклятым пространством, царством тьмы, в котором томятся обреченные, безвинные люди. В поэзию Суинберна глубоко входит мотив непереносимого страдания русского человека под ярмом несправедливого социального устройства, под тяжкой дланью царской деспотии. Подобно Теннисону, Суинберн пророчит скорое падение Российской империи.
Миф о России в литературе английского романтизма и предромантизма (1790-е – 1830-е гг.)
Приближение к «чужому» русскому началось с обнаружения в нем «своего», близкого британскому. Это движение к пониманию «нечуждости» русского мира было первоначально обусловлено, конечно, социально-историческими фактами, а также более тесными личными знакомствами и контактами с русским миром.
Интерес к сильному внешнеполитическому сопернику был подогреваем постоянно доходившими до английского читателя сведениями о социальной и политической нестабильности внутренней политики Российской империи – о революционной деятельности нигилистов, террористов, анархистов, организации революционных обществ.
Политическая нестабильность закономерно вызывала не отторжение, но приятие русского революционного движения как освободительно-демократического. Такое положительное восприятие было связано, как демонстрировалось выше, с представлениями о прямом влиянии британской демократической идеологии и британских демократических институтов на русских «либералов».
Схожим образом, не только большевистская революция представлялась британскому обществу последствием прямого проникновения демократических идеалов Англии в Россию, но и усиленная индустриализация, инициированная большевистским правительством, виделась как бы продолжением британских индустриальных ценностей и достижений. Показательна в этом отношении, в частности, статья о техническом развитии в СССР, подписанная L. I. P. и опубликованная в «Бритиш Рашн Газет» (British Russian Gazette) в первом сентябрьском выпуске 1927 г. В ней утверждается, что «Англия может быть названа колыбелью промышленности» и «может по праву с гордостью заявить о себе как о родине парового двигателя ... , локомотива ... , и кооперации»1. Образ советского правительства, устремленного к реализации своих «гигантских планов по индустриализации России», в этом контексте ясно предстает «наследником» английских достижений.
В то же время, в глубине этого отношения работал старый «политический» слой мифа о России, получивший распространение примерно веком ранее и акцентировавший смысловые моменты внешнеполитической агрессивности российского государства.
С 1907 г. – времени подписания англо-русской Конвенции – историки отмечают беспрецедентное политическое сближение двух стран. В статье об англо-русских связях периода 1907–1913 гг. («Рашн Ревью» (Russian Review), 1913) это сближение связывается с проигрышем России в русско-японской войне и соответственно со смягчением образа «страшного» (даже «непобедимого») врага в глазах англичан. Статья говорит в целом 0 взаимном движении двух наций друг к другу и о стремлении к взаимопониманию. Вспоминая недоброжелательность англичан, проявившуюся в 1907 г. в недовольстве Конвенцией, автор статьи Борис Лебедев подчеркивает «значительное изменение» общего отношения англичан к русским на момент 1913 г.: «В настоящее время можно услышать на любом митинге протеста оратора, который, критикуя Российскую империю, обязательно добавляет, что он не имеет ничего против русских людей»1. Как видим, для русского дипломата не прошел незамеченным факт растождествления образа российского государства и русского народа в начале XX века.
Интерес публики, безусловно, повышался в связи с присутствием и антироссийской деятельностью в Британии русских либеральных деятелей2. О близости контактов между британской интеллектуальной элитой и русскими либералами можно судить по тому факту, что знаменитая переводчица полного собрания сочинений И.А. Тургенева, а затем и произведений Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого и А.П. Чехова Констанс Гарнетт начала изучать русский язык под непосредственным влиянием С.М. Кравчинского и Ф.В. Волховского1. Показателен и пример журналиста Дж.Г. Перриса, руководившего в 1908–1910 гг. международным отделом известной либеральной газеты «Дейли Ньюс» (Daily News). В начале XX века он очень тесно сходится с русскими политическими эмигрантами, присоединяется к либерально-революционному «Обществу друзей русской свободы» (Association of Friends of Russian Freedom) и в 1905 г. публикует книгу для широкого круга читателей «Революционная Россия» (Revolutionary Russia).
О первоначальном движении к провидению в современном «русском» «своего» (британского или – шире – западного) можно судить по популярной среди интеллектуальных читателей книге журналиста и писателя, проведшего в России около шести лет (!), Дональда Маккензи Уоллеса «Россия» (Russia, первое издание вышло в 1877 г, всего книга выдержала десять изданий). В статье, открывающей первый выпуск журнала «Славоник ревью» (Slavonic Review) говорится об этой книге Уоллеса как о «первом очерке» «современного россиеведения» в Британии2. Написанная в жанре записок путешественника, она делает попытку беспристрастного описания современной писателю российской действительности. И уже в первой части ее появляется характерное наблюдение: «Я ... всегда бывал поражен в русском крестьянине его здравым смыслом, добродушием, полуфаталистической самоотверженностью и сильным желанием узнать что-нибудь о другой стране»3. Как видим, Уоллес видит в русском простом человеке те черты «здравого смысла» и «добродушия», которые традиционно признавались закрепленными за английской концептосферой.