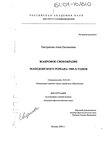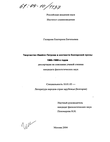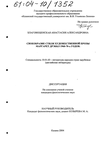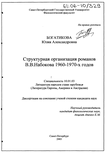Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Две программы «гиперреализма» стр.13
1. Исторический факт как ценность. Контексты и способы обоснования стр. 15
2. Опыт газеты: pro и contra.
2а. «Литература факта»: газета как ориентир стр.29
26. «Новый журнализм»: восстание против «объективности» стр.34
3. Опыт романа: избирательное сродство стр.40
За. «Новый журнализм»: реабилитация реализма в контексте постмодерна стр.41
36. «Литература факта»: ревизия русской реалистической традиции стр.58
Глава II. Писатель как «антенна века»: автотехнологии В.Шкловского и Т.Вулфа
1. Амплуа «полномочного представителя» литературного авангарда стр.70
2. Остранение 1. Скандал как прием стр.78
3. Остранение 2. Стиль, или Эстетизация быта стр.84
4. После «звездного десятилетия» стр. 104
Глава III. Опыт экспериментально-исторического письма: «Сентиментальное путешествие» и «Электропрохладительный кислотный тест» стр.116
1. Парадокс вовлеченного свидетельствования стр. 120
2. Гротеск как стилевой аналог «революционного карнавала» стр. 148
Заключение стр. 169
Приложение стр. 172
Библиография стр. 180
- Исторический факт как ценность. Контексты и способы обоснования
- Опыт газеты: pro и contra.
- Амплуа «полномочного представителя» литературного авангарда
Введение к работе
Актуальность и научная новизна работы определяются тем обстоятельством, что предпринятые нами сопоставления прежде не становились предметом академической рефлексии: исследований, где «литература факта» (которую невозможно рассматривать вне связи с формалистическим движением) сравнивались бы с «новым журнализмом», а фигура Шкловского соотносилась с фигурой Вулфа, не существует. Специфика материала побудила нас ставить вопросы, остававшиеся на протяжении последних десятилетий в центре теоретических дебатов: присущ ли момент вымысла всякому повествовательному тексту вне зависимости от того, лежит в его основе последовательность вымышленных или реальных событий? Актуально ли разграничение «литературы» и «нелитературы» применительно к романическому, историческому и биографическому повествованиям? Возможно ли в связи с одними текстами говорить о правде запечатления фактов жизни с тою же определенностью, с которой мы говорим о вымысле в связи с другими? Сопоставление фигур Шкловского и Вулфа раскрывает жизнь «литературного пограничья», позволяя рассуждать
о вариантах «экзистенциализации литературы», продолжая всегда своевременный разговор о природе творчества как такового.
Методологическая основа работы. При рассмотрении проблемы фактуальности и фикциональности (в терминологии Ж.Женетта), проблемы литературности, близости и различия исторического и литературного письма мы опирались на опыт современной нарратологии - прежде всего таких ученых, как Р. Барт, Ж. Женетт, М.Риффатер, Х.Уайт, В.Шмид.
Устанавливая соотношение формализма и «литературы факта», мы опирались на обобщающие работы таких исследователей, как О.Ханзен-Лёве, М.Заламбани, В.Эрлих, К.Поморски , а также конкретные разработки Я.Левченко, А.Дмитриева, Д.Устинова, К.Кобрина, И.Калинина, Б.Парамонова, С.Зенкина, И.Сироткиной, А.Разумовой, А.Галушкина, А. и М.Чудаковых, И.Сухих, М.Ямпольского.
Теоретический образ «нового журнализма» в нашей работе сформирован на основе работ Р.Вебера, Д.Хеллмэнна, Д.Холлуэлла, М.Джонсона, М.Вайнгартена, М.Дикстайна, Ф.Фрас, У.Маккина, Б.Рэген, К.Маккини. Ввиду того, что в России история и теория «нового журнализма» до сих пор не оказывались в фокусе пристального внимания, мы сосредоточились на американских исследованиях, отобрав из множества написанных за полстолетия работ наиболее принципиальные, методологически ориентированные.
Научно-практическая значимость работы. Исследование может быть использовано при подготовке курсов и спецкурсов, посвященных истории литературы и культуры XX века, в частности - проблемам «литературного поведения» и «литературного быта».
Апробация диссертации. Работа обсуждалась на заседании кафедры истории зарубежной литературы филологического факультета Московского
1 Ханзен-Лёве О. Русский формализм. - М: Языки русской культуры, 2001. Заламбани М. Литература факта. От авангарда к соцреализму. - С-Пб.: Академический проект, 2006. Эрлих В. Русский формализм: история и теория. - С-Пб.: Академический проект, 1996. Pomorska, К. Russian Formalist Theory and its Poetic Ambience. - Paris, 1968.
государственного университета имени М.В. Ломоносова (9 октября 2009 года).
Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, приложения и библиографического списка из 137 позиций.
Исторический факт как ценность. Контексты и способы обоснования
Центральным для занимающих нас форм письма стало понятие «факта». В составленном редакцией ЛЕФа предисловии к сборнику «Литература факта» говорится: «Отвращая от литературы праздной выдумки, преподносимой под флагом заповедного и раз и навсегда мистически предначертанного «художества», мы всячески обращаем внимание наших товарищей на новую, пробивающую уже себе дорогу литературу — литературу не наивного и лживого правдоподобия, а самой всамделишной и максимально точно высказанной правды» (ЛФ, 5). Эта оппозиция (в качестве тезиса не выдерживающая, как мы увидим, критики и во многом определившая скорый крах литературы факта) - краеугольный камень фактографической теории: «прямая работа над реальностью» противопоставляется «вредному натаскиванию их (молодых писателей — ДХ) внимания в сторону литературы вымысла». Реализм XIX века, несмотря на претензии на правдивость, объявляется идеализмом, поскольку живет вымышлением. В желаемом пределе литературная деятельность должна стать одним из участков жизнестроения: действительность следует не отображать и даже не познавать (обращаясь к традиционным обобщению, типизации и психологизму), а создавать и править словом. В XIX веке, полагает Н.Чужак, один из авторов анализируемого сборника, вымысел в русской литературе был исторически оправдан и даже отчасти прогрессивен: бедственное состояние науки и публицистики, «скудость действительной жизни» (цитируется А.Писемский), николаевская цензура, которую требовалось обходить художественной хитростью, — вот фон, на котором можно было некоторым образом мириться с присутствием вымысла, беллетристикой: самая жизнь была такова, что не допускала и даже не слишком заслуживала достоверного — вернее, сверхдостоверного - запечатления. Но «дальше (после октябрьского переворота — ДХ) очень изменились времена» - и потребность в вымысле отпала, так как «революция в корне упразднила те предпосылки, которые отгоняли писателя от факта и толкали его к вымыслу»; новое социалистическое бытие ни в коем случае нельзя осквернять индивидуально-творческим произволом, - оно нуждается в сотворчестве, основанном на бережном отображении фактов, причем отбор фактов (материала) должен производиться с учетом по-новому осознанной ценности повседневного бытия: «Не нужно бояться «неинтересных» моментов как предмета изложения. «Неинтересного» в природе не бывает. Нужно только уметь это «неинтересное» подать. У нас существует еще мнение, что целый ряд предметов для писательства «не подходит». Не подходит все простое, обыденное» (ЛФ, 23). Такое отношение, с точки зрения автора статьи, необходимо преодолеть.
Статья Чужака в сборнике идет первой по счету и называется «Писательская памятка» - по аналогии с «Солдатской памяткой», которую "когда-то усердно распространяли большевики»1; тон ее - соответствующий, не столько даже наставительный, сколько командный: «Да, мы хотели бы, чтобы каждый неиспорченный писатель был действительно «солдатом» нового строительства» — а не продолжателем, вольным или невольным, старой, исчерпанной традиции: «Писатели слишком долго «преображали» мир, уводя пассивного и эстетически одурманенного читателя в мир представлений, - когда же, как не сейчас, перестраивать этот мир, внося в него совершенно конкретные и нужные пролетариату изменения?» (ЛФ, 11).
Чужак ставит писателям-солдатам жизнестроительного фронта «боевую задачу»: 1) «Решительная переустановка всей новой, подлинно советской литературы на действенность. Писатель не пописывает больше, а читатель не почитывает. Долой отрыв писателя от производства, долой совращение хороших рабкоров в делателей литературного обмана. Литература - только определенный участок жизнестроения»; 2) «Полная конкретизация литературы. Никаких «вообще». Долой бесплотность, беспредметность, абстракцию. Все вещи именуются собственными именами и научно классифицируются. Только так возможно познавать и строить жизнь»; 3) «Перенесение центра внимания литературы с человеческих переживаний на организацию общества» (ЛФ, 21): внутренний мир личности больше не интересен - интересна ее социальная функция, характер ее участия в социальном производстве.
Основа новой литературы, как уже было сказано — факт; в своей следующей статье (под названием «Литература жизнестроения») Чужак сошлется на «новую науку об искусстве», которая предполагает изменение реальности путем ее перестройки. Использование старых форм может даже навредить самой действительности, которая, в логике пишущего, напрямую от литературы зависит: «Кто сколько-нибудь знаком с диалектикой литературных жанров, может засвидетельствовать, что всякая исторически необходимая форма ощущается впервые как факт, во второй же раз она работает только как пародия. Форма неотделима от социальной функции. Вот почему, перетаскивая чужую форму, мы естественно заимствуем нечто и от функции» (ЛФ, 28).
Таким образом, писатель, попавший в плен реакционной эстетики, в лучшем случае просто не поучаствует в созидании новой жизни, а в худшем — будет невольно содействовать ее разрушению. Литературная деятельность здесь непосредственно смыкается с деятельностью социальной, а социальная 18 деятельность немыслима вне категорий идеологического конфликта и политической борьбы, оставаться в стороне от которых нельзя, — отсюда заключение Чужака: «Борьба литературных жанров есть такая же борьба общественных групп и классов, как и всякое иное столкновение надстроек» (ЛФ, 21). Действенным призывом к низвержению чуждых приемов начинается и кончается «писательская памятка».
Американская действительность 1960-х годов зачаровывает Т.Вулфа и сторонников его метода не меньше, чем жизнь советской республики 1920-х зачаровывала редакцию ЛЕФа, но характер и качество этих чар различны. Ангажированные и лояльные к советской власти фактовики полагают, что вымысел в современной им литературе - явление столь же эстетического, сколько и политического толка, причем в обоих измерениях явление опасное, разновидность идеологической диверсии. «Новый журнализм» едва ли следует рассматривать через призму отношения его представителей к администрации Джона Кеннеди и его преемников: бурный социальный темперамент был присущ одним, например, радикальным либералам Н.Мейлеру и Х.Томпсону, в других подобные страсти, похоже, не бушевали
— и системной роли это не играло; «новый журнализм» не мог вовсе оказаться вне политики, но не политические обстоятельства определили его формирование и развитие.
Опыт газеты: pro и contra.
Во второй половине 1920-х годов формалисты, ведомые идеей об исторически обусловленном повышении статуса «малых жанров» ввиду кризиса «большой формы», проявляют явный интерес к публицистике, видя в ней альтернативу традиционному литературному методу: «Оценка газеты и журнала как «литературной формы», как автономного жанра может производиться и с точки зрения социологии литературы (журнал как коммуникативное средство «литературного быта», «рынка»), и с чисто эстетически-интранзитивной точки зрения, как «комбинация стилей», как монтаж разнородных жанров в одном «сверх-жанре». Отсюда остается только один шаг до трансформации этого гибридного журнального жанра в самостоятельный литературный жанр, в котором «журнальность» как стилизация оказывается уже не фактором «быта», а эстетическим явлением»1. Газета вторгается в систему литературы и рассматривается как средство ее обновления. В статье Шкловского «К технике внесюжетной прозы» (1929), среди прочего, говорится о «разроманивании материала» (перенесении повествовательного фокуса с героя на рассказчика, что означает частичный отказ от традиционных романных мотивировок) и о том, что роман будет вытеснен газетой, опознанной в качестве самостоятельного жанра. В «Литературе факта» этому сверхжанру — «коллективному «осознавателю» строительства наших дней» - отведен раздел «Лицом к газете», в который вошли статьи, призванные наставить на верный путь «рабочего корреспондента» (пролетария или крестьянина, не имеющего отношения к письму как профессии, чье сотрудничество с газетой могло быть и однократным). Рабкор представлял собою, по словам Заламбани, «новую литературную фигуру, на то время главную во всей советской литературе»1 (рабкоры, сообщается в одной из статей этого раздела, делились на желдоркоров, военкоров, селькоров и т.д.) — и фактовики стремились не допустить его «развращения» традиционным литературным методом. Среди статей, задающих тон всему сборнику — статья С.Третьякова, идущая второй по счету и называющаяся «Новый Лев Толстой». В этой статье звучит важнейший для теории литературы факта мотив — непригодность традиционных форм письма для решения современных задач. Условный «индивидуальный» Лев Толстой («широчайший описатель плюс учитель жизни») противопоставляется более прогрессивному механизму работы с действительностью: «Нам нечего ждать Толстых, ибо у нас есть наш эпос. Наш эпос - газета». «Медленный толстовский подход» в новых условиях невозможен, писатель, задумавший эпос, не поспеет за газетой в том, что касается фиксации и распространения фактов: «У любого Толстого, т.е. человека, пишущего романы (ускорь он даже в сто раз темп своей работы) Зорич вырвет тему, а Сосновский (известные фельетонисты - ДХ) перехватит организационный вывод». Для советского активиста (который есть «идеальный читатель» и адресат сборника, абстрактный человек «настоящего-будущего») газета является тем, чем была Библия для средневекового христианина и «учительный роман» для русского интеллигента либеральных взглядов — то есть «указателем на все случаи жизни». Современный писатель, констатирует Третьяков, в основном идет работать в газету (а того, кто не желает туда идти, требуется втянуть в нее «с максимальным подчинениям его мастерства ее условиям и задачам»); именно безымянный газетчик, представляющий анонимный коллектив, а не писатель-индивидуалист, останется в истории (неприязнь к писателю-«реакционеру», манкирующему организованной газетной работой и лелеющему свою «субъективность», отразилась и в статье Брика «Против «творческой» личности»). Газетный механизм требуется отладить, довести до совершенства: «В чем дефекты газеты и что в ней должны делать мастера слова — одна из важнейших тем» (ЛФ, 33).
Приоритету газетного письма над художественным посвящен раздел «Лицом к газете», содержание которого раскладывается на ряд практических указаний по обучению рабкора производству литературы факта и «переподготовке» литератора (беллетриста и/или журналиста), чьи профессиональные навыки уже не соответствуют нуждам времени.
Раздел открывается статьей В.Шкловского «О писателе и производстве», в которой высказывается ряд весьма значимых для советской фактографической теории положений. Чтобы писать, учит Шкловский, нужно иметь другую, «внелитературную» профессию, хорошо ее знать и в ней работать: тогда автор будет описывать явления и процессы сообразно с теорией остранения - с точки зрения тех производственных отношений, в которых он с ними состоит: так гоголевский Вакула видит дворец Екатерины глазами кузнеца и маляра. Профессия (в идеале) позволяет взглянуть на предмет под «необщим» углом, обеспечивает «своеобразное отношение к вещам», противопоставляемое «старо-литературному» отношению, «позволяет видеть вещи как неописанные и ставить их в ненаписанные прежде отношения», прививает от обращения к штампу и модели: «Заниматься только одной литературой — это даже не трехполье, а просто изнурение земли. Литературное произведение не происходит от другого литературного произведения непосредственно, а нужно ему еще папу со стороны» (ЛФ, 195). Только на точном - выражаясь в стиле фактовиков, не 32 на абстрактно-точном («чужом»), а на конкретно-точном («своем») описании предмета, явления, процесса может быть выстроена новая литература, которая победит старую: «Не нужно лезть в большую литературу, потому что большая литература окажется там, где мы будем спокойно стоять и настаивать, что это место самое важное. ... Большая литература - это не та литература, которая печатается в толстых журналах, а это литература, которая правильно использует свое время, которая пользуется материалом своего времени» (ЛФ, 197). Давление времени для писателя-фактовика - то же самое, что ветер для корабля в море: без него никуда; чтобы ветер «работал», необходимо уметь правильно поставить парус.
Отдельно требуется учиться читать - т.е. понимать, как сделан текст (например, зачем у Толстого в сцене между княжной Мэри и ее отцом визжит колесо) — и писать, при этом начинать учение следует не с романа объемом в восемь листов (удачно дебютировать которым «так же невозможно, как, не смотря ни разу в телескоп, начертить карту звездного неба»), а с газетных текстов: с корреспонденции, хроник, статей, фельетонов, театральных рецензий, бытовых очерков - и лишь в последнюю очередь браться за «то, что будет заменять роман». Нужно, заканчивает Шкловский, обучаться работать на будущее - на форму, которой предстоит быть созданной.
Амплуа «полномочного представителя» литературного авангарда
Было бы неверно представлять себе «литературу факта» отдельно от контекста, в котором она существовала; в данном случае мы имеем в виду не столько широкий контекст (авангард), сколько контекст относительно узкий — формализм. «Литература факта» подводит итог обоим явлениям: М.Заламбани называет «литературу факта» лебединой песней русского авангарда и последней ступенью в истории формализма. Несмотря на то, что теория и практика «литературы факта» не могут быть представлены исключительно в свете формальной теории, они тесно с нею связаны: подробно говорить об одном, не упоминая другого, едва ли возможно (не только Заламбани в «Литературе факта», но и Ханзен-Лёве в «Русском формализме» представляет «литературу факта» как один из «способов» формалистского творческого поиска). Схождения и противоречия между формальным и производственным компонентами фактографической теории и практики нагляднее всего воплощены в фигуре В.Шкловского. В целом разделяя пафос радикального обновления литературы (через преодоление романной формы, опору на газету, создание «бессюжетной» прозы и проч.), он, в отличие от лефовцев, делал упор на эстетическом, а не онтологическом характере этого процесса: там, где производственники хотели видеть уничтожение границы между литературой и внелитературной действительностью, Шкловский видел переустройство литературных рядов.
Мы не станем здесь рассматривать роль Шкловского в судьбе «литературы факта», не станем и анализировать значение формалистского элемента в ее системе. В рамках проводимого нами сравнения «литературы факта» и «нового журнализма» Шкловский интересен в личном и одновременно публичном качестве — как эмблема созданного им культурного направления и человек-стиль; именно в этих свойствах он «совпадает» с Вулфом. Понятие «антенны века» (мы перефразируем Э.Паунда, назвавшего творцов «антеннами расы») кажется применимым к обоим: и Шкловский, и Вулф создают не только новые литературные направления, но и себя в «представительском», «звездном» качестве — они суть «концентраты» новой экзистенциальной и профессиональной чувствительности. Принцип устранения границы между текстом и жизнью реализуется, в том числе, и в технологии жизнетворчества.
Шкловский воплотил в себе не только дух своего поколения, писал в книге «Мой временник» Б.Эйхенбаум, но и предельно «экзистенциализировал» формальный метод, буквально воплотил его в жизнь как его главный пропагандист, представитель, теоретик и практик. О центральной роли Шкловского в культурной жизни 1920-х годов пишет А.Чудаков: «Все создавшие обширную литературу теоретические споры 1920-х годов прошли под знаком предложенных Шкловским дефиниций, спровоцировавших статьи (книги)-ответы В.М.Жирмунского, Б.М.Энгельгардта, Бахтина - Медведева, Л.С.Выготского, Б.В.Томашевского - фундаментальные для теоретической поэтики»1. Наиболее сильным генератором идей того времени называет Шкловского и его ученица
Л.Гинзбург1, а Н.Оцуп вспоминает о том, как Шкловский, соприкоснувшись с группой филологов-«революционеров», «стал их вождем и вдохновителем. Он сумел, благодаря своему темпераменту и дарованию, заменить кабинетную деятельность новых ученых широкой борьбой в печати и на открытых собраниях»". Формальный метод, предполагающий, по словам Ханзен-Леве, 1) интеграцию научных и художественных методов в фигуре «исследователя-поэта» и 2) реализацию научной позиции в экзистенциальной, предполагал и «выразителя», фигуру, которая наиболее полно отразила бы совмещение бытового, художественного и научного рядов»3). Такой фигурой - «публичным представителем формализма перед общественностью (вроде public relations)» - оказался Шкловский; в свое время он писал Р.Якобсону: «Я не торгую, я танцую наукой»5. «Танцевать» можно было исключительно такой, по выражению Ницше, «веселой наукой», как формализм, дискурс которой сложился в последовательной борьбе с дискурсом академическим; Ханзен-Леве отмечает «свободную, игровую, веселую и молодежную атмосферу формалистических кружков, где царил интимный, личный, персональный тон семинарских занятий»6. В Шкловском наиболее явно проявилось основное, наверное, противоречие формализма -противоречие между «художественным» устремлением, творческой импульсацией, неотделимой от отрицаемого как формалистами, так и фактовиками «психологизма», и редукционизмом и демонстративным техницизмом, созвучным конструктивистскому и «несентиментальному» тону времени.