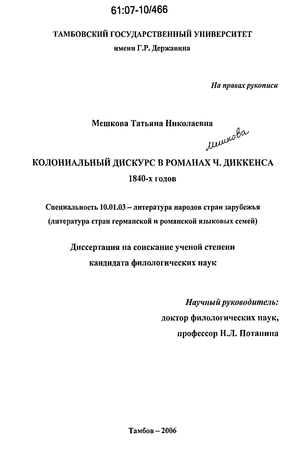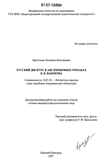Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. ОБРАЗ ДОМА В РОМАНАХ Ч. ДИККЕНСА 1840-Х ГОДОВ: ИДЕОЛОГИЯ И ПОЭТИКА 13
1.1 Дом как образ мира 13
1.2 Дом (жилище): грани "своего" и "чужого" 23
1.3 Дом (семья): "этическая цитадель Диккенса" под натиском "чужого" 45
1.4 Британская империя как общенациональный дом: диалектика "своего" и "чужого" 67
ГЛАВА II. КОЛОНИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА И СПОСОБЫ ЕЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОПЛОЩЕНИЯ В РОМАНАХ Ч. ДИКЕНСА 1840-Х ГОДОВ 81
2.1 Концепт путешествие за границу в романах Диккенса 81
2.2 Принципы создания образа иностранца в Англии 88
2.3 Колониальные владения как сфера бизнеса: особенности художественного изображения 96
2.4 Колонисты и колонизаторы 108
2.5 Колониальные владения и социальный апартеид: взаимодействие колониального, социально-критического и криминального дискурсов 134
2.6 Образ туземца и традиция изображения "маленького человека" 146
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 159
ПРИМЕЧАНИЯ 161
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 172
- Дом как образ мира
- Дом (жилище): грани "своего" и "чужого"
- Концепт путешествие за границу в романах Диккенса
Введение к работе
«Интересно, какой бы из меня вышел колонист? Интересно, если бы я, со своей головой, руками, ногами и здоровьем, отправился в какую-нибудь новую колонию, удалось ли бы мне вынырнуть и всплыть наверх общественного молочника и добраться до самых сливок?»,'- пишет в 1841 году своему другу великий английский романист Чарльз Диккенс (Charles Dickens, 1812-1870).
В последние десятилетия в свете развивающегося диалога культур намечена мощная тенденция к изучению имперской истории Британии. Исследователи полагают, что без осмысления событий, относившихся к колониальной эпохе, нельзя до конца понять процессы, происходящие в современном мире. При этом империя рассматривается не только как экономическое и политическое, но и как культурное явление.
Колоссальную роль в изучении Британской империи на современном этапе играет развитие теории колониального дискурса. В этом смысле тема диссертации «Колониальный дискурс в романах Ч. Диккенса 1840-х годов» связана с важнейшими тенденциями современных научных исследований: актуализацией проблемы колониального дискурса, определением художественнык функций колониальных образов в английской литературе имперского периода.
К середине XIX века имперский феномен все очевиднее становится достоянием широких кругов английского общества, и литературе пришлось обратиться к осознанию эстетической природы данного явления.
По мнению Ю.М. Лотмана, язык пространственных представлений писателя в большей степени принадлежит «времени, эпохе, общественным и художественным группам»,2 нежели индивидуальному авторскому воплощению. Лотман полагает, что «любая динамическая система погружена в пространство, в котором размещаются другие столь же динамические системы, а также обломки разрушившихся структур, своеобразные кометы этого пространства. В результате любая система живет не только по законам
саморазвития, но также включена в разнообразные столкновения с другими культурными структурами».3
Критический реализм, выступивший ведущим направлением в 1830-40-е годы XIX века в английской литературе, значительно раздвинул географические рамки художественного произведения.4 Неслучайно, Б.М. Проскурнин данное десятилетие в истории литературы называет открытием «макромира», «большой действительности».5 Сама «всеобъемлющая форма романа»,6 оказавшегося в этот период «во главе литературного процесса», значительно способствовала этому.
Роман, являясь, по словам К.Д. Левис, искусством, «на которое в большей степени воздействует национальная жизнь во всех ее минутных
обстоятельствах», не мог не отразить перемен в викторианском отношении к колониальным проблемам. Произведение художественной литературы, будучи порождением определенной культурной эпохи, неизбежно воспроизводит ее образы мышления и модели поведения. Так, Т.И. Воронцова пишет: «Любое литературное произведение по своей сути является фактом истории литературы и отражает черты эстетической культуры своей эпохи, и его ценность возрастает от того, что оно выступает в сознании человека как явление эпохи и дает возможность изучать эстетическую культуру прошлого через произведение искусства».9
Романы Ч. Диккенса 1840-х годов («Лавка древностей» ("The Old Curiosity Shop"; 1840), «Барнаби Радж» ("Barnaby Rudge"; 1841), «Жизнь и приключения Мартина Чезлвита» ("The Life and Adventure of Martin Chuzzlewit"; 1844), «Домби и сын» ("Dombey and Son"; 1848)) репрезентируют далеко не однозначное видение колониальных проблем. Это вполне соответствовало восприятию названных проблем в современном писателю обществе.
И.В. Саморукова отмечает: «В том, что мы называем художественным произведением, не все «художественно», в том смысле, что не все подчинено креативным, творческим стратегиям. Какая-то часть речевого мира
произведения определяется тем, что принято называть «конвенциями», устойчивыми и готовыми, надындивидуальными «правилами» разных дискурсов.10 По мнению П. Рикера, в области литературной дискурсивной практики свойство дискурса заключается в его способности «интерпретировать реальность»,11 или, выражаясь языком Р. Барта, в утверждении «Истории».12 Схожая мысль звучит и у Н.К. Даниловой: «Способность литературного (нарративного) дискурса создавать свой автономный мир», имеющий собственное измерение и границы, собственное время и собственное пространство, «мир со своими обитателями, предметами и мифами», не противоречит социальной открытости произведения». Важно также добавить, что в процессе художественной деятельности субъект занимает позицию вненаходимости тому или иному дискурсу, превращает его в «героя» (М. Бахтин).'4
Прежде чем перейти к определению термина «колониальный дискурс», необходимо рассмотреть понятие «дискурс» в целом.
«Дискурсом» в латинском языке называли беседы ученых. Именно в этом значении слово вошло в современные европейские языки: французское - discours и английское - discourse имеют значение «диалог».15 Широкое распространение термин «дискурс» получил во второй половине XX века. Сам термин ввел Ю. Хабермас, применивший его «для обозначения вида речевой коммуникации, предполагающей рациональное практическое рассмотрение ценностей, норм и правил социальной жизни».1б
На сегодняшний момент общепризнанного единого понимания дискурса не существует, что возможно и объясняет широкую популярность данной дефиниции в столь различных научных системах. Понятие «дискурс» разрабатывается на стыке лингвистики, философии, социологии, психологии и этнографии.
В диссертации дискурс трактуется как синтез речевого и социального поведения человека.
Так, Н.Д. Арутюнова дает следующее определение дискурсу; «...связный текст в совокупности с экстралингвистическими-прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами; текст, взятый в событийном аспекте; <...> речь, «погруженная в жизнь».17 Д.А. Силичев трактует дискурс как речь, наделенную «социокультурным измерением, или язык, преобразованный говорящим субъектом и включенный в конкретный социокультурный контекст. К.Ф. Седов под дискурсом понимает «объективно существующее вербально-знаковое построение, которое сопровождает процесс социально-значимого взаимодействия людей».
По определению Е.С. Кубряковой, дискурс есть «сложное коммуникативное явление, не только включающее акт создания определенного текста, но и отражающее зависимость создаваемого речевого произведения от значительного количества экстралингвистических обстоятельств - знаний о мире, мнений, установок и конкретных целей говорящего как создателя текста. Схожее определение дискурсу дают В.В. Петров и Ю.Н. Караулов, которые вслед за Т.А. ван Дейком (а ему, по мнению Л.С. Чикилевой, «принадлежит приоритет в описании дискурса» ) понимают дискурс как «сложное коммуникативное явление, включающее, кроме текста, еще и экстралингвистические факторы (знания о мире, установки, цели адресата), необходимые для понимания текста».22
Т.А. ван Дейк рассматривает дискурс как форму «социокультурного взаимодействия».23 Согласно ван Дейку, дискурс, представляя собой коммуникативное событие, «не ограничивается рамками конкретного языкового высказывания, то есть рамками текста или самого высказывания. Анализ разговора с особой очевидностью подтверждает это: говорящий и слушающий, их личностные и социальные характеристики, другие аспекты социальной ситуации, несомненно, относятся к данному событию». Таким образом, в дискурсе «отражается менталитет и культура, как национальная, так и индивидуальная».25
Дискурс позволяет дать «анализ типологических мировоззренческих аспектов всего текстового массива эпохи».26 Именно социально-историческая ткань, по М. Пешё, и создает определенный дискурс. Для изучения дискурса «необходимо проникнуть в культуру и в среду, в которых появляется исследуемый текст, и рассмотреть, осмыслить, понять условия порождения того или иного текста».
В понимании М. Фуко, дискурс представляет собой «контролируемый «властью» механизм порождения речи, формирующий знания и представления о реальности и тем самым полагающий ее». Сквозь призму теории дискурса Фуко рассматривает эволюцию всей западной культуры, акцентируя внимание на истории, науке, литературе и филологии.
Эдвард Сайд, используя идею Фуко о неразрывной связи знания об объекте с осуществлением власти над ним, «сделал вывод о том, что в период колониальной экспансии конструирование европейцами Востока как объекта знания было направлено на утверждение доминирования над ним и легитимизацию вмешательства в его внутренние дела». Эта идея Сайда положила основу теории колониального дискурса, «которая начиная с 1980-х годов рассматривает его в качестве предмета исследования».31 ;
В книге Э. Сайда «Ориентализм» (1978) проведен анализ способов действия колониального дискурса в качестве инструмента власти. Сайд, исследовав особенности текстов, написанных о Востоке в колониальный период, в большинстве из них обнаружил сходство «в риторической структуре».32 Оказывается, «писатели Запада (особенно с конца XVIII в.) конструировали Восток как «другое», низводя при этом изображаемых ими обитателей колонизованных стран до уровня объекта, себе же неизбежно отводили позицию субъекта - сильную, властную позицию».
А.Э. Афанасьева, характеризуя тексты, послужившие материалом для исследования Сайда, отмечает, что в центре его внимания «находились не только те откровенно джингоистские, расистские сочинения, нередкие в колониальной литературе XIX в., в которых туземцы низведены до уровня
подвида человека», но и «объективные» тексты «по филологии, истории этнографии, где заявлялось о стремлении понять феномен Востока, объяснить его западной аудитории, избегая преувеличений. Тем не менее, внешне объективные и беспристрастные, и эти тексты описывали Восток как низшее по отношению к Западу, отказывая населению Востока в полностью человеческом статусе. Заявляя о полной неспособности жителей Востока самим понимать и объяснять Восток, продуцировать знание о нем, писатели Запада утверждали за собой право представлять Восток западной аудитории. Таким образом, в колониальный период европейской истории неевропейский мир производился для Европы через определенный дискурс <...>, который объединял наборы вопросов и утверждений, методов анализа, видов письма и образов».34
Введенный в научный обиход Э. Саидом термин «колониальный дискурс» (англ. colonial discourse) служит описанию «такой системы, в рамках которой существует весь набор практик, подпадающих под определение колониальных».35 Интерпретируя данный термин, С. Миллз отмечает, что колониальный дискурс обнаруживает себя в «текстах художественной и научной литературы, написанных английскими писателями в контексте британского колониализма и империализма».
Характеризуя самоидентификацию Запада через его
противопоставление предполагаемому «другому», О.Г. Сидорова центральными в определении колониального дискурса называет понятия «другой», «чужой», «другость» (англ. other, otherness).37 По мысли Л.Г. Васильева, типичными когнитивно-лингвистическими стратегиями, используемыми для представления «других» являются: «а) отрицание похожести и равенства с «другими», б) стереотипизация «других», в) использование своей культуры в качестве отправной точки отсчета или универсального стандарта».
В диссертации понятия «чужой» и «другой» не дифференцируются. Под понятием «другой» («чужой») рассматривается все пространство,
расположенное вне Англии («своего»). Имперские территории, таким образом, являются составляющей «чужого» (или, как мы его еще называем, «большого мира»).
Актуальность работы обусловлена ее связью с ведущими научными направлениями, исследующими поликультурный контекст литературного произведения, потребностью определения функций колониальных образов в романах Диккенса 1840-х годов и закономерностей функционирования колониального дискурса в английской литературе этого периода.
Объект изучения - романы Диккенса 1840-х годов («Лавка древностей», «Барнаби Радж», «Жизнь и приключения Мартина Чезлвита», «Домби и сын»).
Предметом исследования является колониальный дискурс в романах Диккенса 1840-х годов.
Цель работы: исследовать содержание н закономерности функционирования колониального дискурса в романах Диккенса 1840-х годов.
Целью исследования определяются его задачи:
выявить истоки формирования колониального дискурса в творческом сознании Диккенса;
определить место имперского пространства в авторской картине мира;
проанализировать динамику образа дома в романах Диккенса 1840-х годов;
охарактеризовать способы изображения имперских реалий и их функции в романах Диккенса 1840-х годов.
Цель и задачи определили выбор методики исследования, в основе которой лежат элементы культурно-исторического, герменевтического, компаративного, социологического методов и подходов.
Теоретико-методологической основой работы стали труды литературоведов - исследователей колониального дискурса в литературе: А,Э. Афанасьевой, С. Миллз, MX Поповой, Э. Сайда, О.Г. Сидоровой,
СП. Толкачева; а также исследования, посвященные творчеству Диккенса: В.В. Ивашевой, И.М. Катарского, Н.П. Михальской, Н.Л. Потаниной, Т.И. Сильман, Э. Уилсона, К.Г. Честертона.
Теоретической базой в области исследования понятия «дискурс» стали работы Н.Д. Арутюновой, Т.А. ван Дейка, Ю.Н. Караулова, Е.С. Кубряковой, В.В. Петрова, К.Ф. Седова, Д.А. Силичева, М. Пешё, М. Фуко. Совокупный анализ их работ позволил сформулировать определение дискурса, которое используется в данной работе.
Научная новизна работы определяется тем, что романы Диккенса 1840-х годов (как и все творчество английского романиста) еще не становились предметом целостного анализа художественного осмысления колониальной проблематики.
Изучению колониальной темы в творчестве Диккенса посвящена статья С. Лилджегрена «Взгляд на Австралию в современной литературе», в которой исследуются принципы изображения эмиграции в романах Диккенса «Жизнь и приключения Мартина Чезлвита» и «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим».
Э. Сайд в книге «Культура и империализм» рассматривает колониальный дискурс в романе Диккенса «Большие ожидания».
О.Г. Сидорова в книге «Британский пост-колониальный роман» дает общую характеристику мотива колоний в творчестве Диккенса.
СП. Толкачев в диссертации «Мультикультурный контекст современного английского романа» указывает на связь имперских аллюзий с образами бизнесменов Диккенса.
В работе Н.Л. Потаниной «Колонии и колонисты в литературе; метаморфозы имперского сознания» на материале творчества Диккенса и Киплинга рассматривается эволюция колониальной топики в английской литературе.
В данной работе предпринята попытка целостного анализа колониального дискурса в романах Диккенса 1840-х годов.
Структура работы включает в себя Введение, две Главы, Заключение, Примечания и Список литературы (400 наименований, из них 106 на английском языке).
В первой Главе: «ОБРАЗ ДОИЛ В РОМАНАХ Ч. ДИККЕНСА 1840-х годов: ИДЕОЛОГИЯ И ПОЭТИКА» обозначены принципы изображения «своего» в романах Диккенса 1840-х годов. Названы ментальные особенности сознания англичан. Дан экскурс в историю ранневикторианской Англии. Освещены основные принципы колониальной политики середины XIX века. Обозначен масштаб образа мира в романах Диккенса 1840-х годов. Исследовано художественное воплощение дома-жилища и дома-семьи в романах данного периода. Изучены способы изображения метрополии в романах Диккенса 1840-х годов.
Во второй Главе: «КОЛОНИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА И СПОСОБЫ ЕЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОПЛОЩЕНИЯ В РОМАНАХ Ч. ДИККЕНСА 1840-х годов» дан анализ художественного освоения имперского пространства в романах Диккенса. Охарактеризован концепт путешествие за границу и его художественное воплощение. Определены принципы изображения образа иностранца и сопоставлены с принципами создания образов колониста и колонизатора. Выявлены художественные функции колониального дискурса в изображении имперских владений как бизнеса и как места наказания. Проанализирована связь образа туземца с традициями «естественного человека» и «маленького человека».
В Заключении сделаны выводы, соотнесенные с целью и задачами работы.
Практическая значимость работы заключается в том, что ее материалы могут быть использованы в общих курсах по истории зарубежной литературы XIX века, по истории английской литературы, в вузовских спецкурсах и спецсеминарах по проблемам творчества Диккенса, на уроках литературы и мировой художественной культуры в гимназиях и лицеях.
Дом как образ мира
Образ мира - это «целостная многоуровневая система представлений человека о мире, других людях, о себе и своей деятельности».39 А.А. Леонтьев, называя ситуацию встречи человека с миром «непрекращающимся движением сознания в актуально воспринимаемом образе мира» , оговаривает, однако, существование «глобального» образа мира полностью рефлексивного, отделенного от восприятия. Такой образ мира, по мысли ученого, репрезентирует «образец целостного мира», «схему мироздания».41
По мнению Г.Д. Гачева, многообразие таких образцов целостного мира определяет существование национальных культур, каждая из которых имеет свое собственное, исключительное и неповторимое «глобальное» представление о мире. В книге «Национальные образы мира» Гачев отмечает: «При том, что все народы под одним солнцем и луной и почти одинаковым небом ходят, вовлечены в единый мировой исторический процесс ... , они ходят по разной земле и разный быт имеют, из различной почвы вырастают, жизненными темпоритмами различны. А отсюда ценности, общие для всех народов (жизнь, свет, дом, семья, слово, бог и т.д.), располагаются в разном соотношении. Эта особая структура общих для всех элементов (хотя и они в каждом национальном мире понимаются по-разному, имеют свой акцент) и составляет национальный образ».42
Географическая среда - «непременное условие возникновения и функционирования этноса».4 Согласно концепции этногенеза Л.Н. Гумилева, на характер народов определяющее воздействие оказывают ландшафты. Территория как важнейший фактор существования народов45 обусловила и формирование английской национальной культуры. Так, в работе В.Г. Зинченко, В.Г. Зусмана, З.И. Кирнозе «Межкультурная коммуникация» островное положение страны названо решающим обстоятельством для формирования английского характера.46
Географическая обособленность англичан породила в национальном сознании ощущение отдаленности от мира. Островному мышлению, по мысли A.M. Иванова, всегда сопутствует образ «чужого, непривычного» пространства, отличного от «своего, привычного».47 Вот почему в ментальном образе мира англичан - жителей острова - деление на «свое» / «чужое» приобретает особое значение. Мир, расположенный «вне острова», для англичан представляется необычным. Они воспринимают его как «игровую площадку, где взаимодействуют некие команды - группы народов, каждый со своими обычаями и культурой - и можно на все это либо смотреть со стороны и развлекаться, либо использовать себе во благо, либо просто списать со счетов за ненадобностью - в зависимости от желания» (Э. Майол, Д. Милстед)48. Антитезы «мы / они», «отечественное / заморское», «дома / на континенте» являются доминантами английского национального сознания. Этим объясняется настороженность, подозрительность, а иногда нескрываемая неприязнь, которую было свойственно проявлять англичанам к иностранцам и всему иностранному.
Однако к середине XIX столетия Англия перестает «быть группой ничтожных островов» (Дж. Коллиэр), превратившись в крупнейшую колониальную державу. Горделивое выражение «империя, над которой никогда не заходит солнце» (Р.М. Мартин),50 широко бытовавшее в то время, вполне отражало ее масштабы. По замечанию Дж.Р. Сили, мощным стимулом роста британского имперского строительства на протяжении всей истории ее существования являлась торговля51. Колониальная торговля, служившая целям «первоначального накопления» (Н.А. Ерофеев),52 сыграла определяющую роль в создании предпосылок промышленного переворота в стране.
Если, по словам К.А. Фурсова, в начале 1840-х годов Англия оставалась еще сельской страной, то иллюстрации конца 1840-х годов представляют уже индустриальную державу. С завершением промышленного переворота Англия занимает место всемирной мастерской, что актуализировало для нее значение колоний. Колонии, выражаясь языком Н.В. Дроновой, рассматриваются теперь как «артерии британской торговли и капиталовложения».54 Зависимые владения становятся важным источником дешевого сырья и материала для развивающейся промышленности, позволяющим сберегать огромнейший капитал страны. В Англию по сниженной цене поступают «ценные сорта дерева, масса золота, драгоценные камни, индиго, хлопок»55 и вообще все, что теперь носит название «колониальных товаров». «Товары эти, как из рога изобилия, полились в амбары, магазины и фабрики англичан и расходились оттуда по всему миру» (Г. Виллиам).
Эра фабричного производства потребовала и хорошо отлаженного механизма рынка сбыта. В условиях циклических кризисов перепроизводства, охвативших Англию во второй четверти XIX века (Н.А. Халфин),57 захват новых колониальных владений представлялся реальной возможностью расширения рынка сбыта английской продукции. Известный публицист и историк А. Алисой, анализируя в 1840 году английскую внешнюю торговлю за последние двадцать пять лет, связывает изменения к лучшему исключительно с увеличением колониальной экспансии. Он пишет: «Давайте оставим безуспешные попытки обезоружить торговое завистничество европейских государств. Но, смело глядя в лицо положению, направим наши основные усилия на упрочнение, умиротворение и расширение нашей колониальной империи».
Проблема внешнеторгового баланса, представленная в экономической жизни страны вопросом первостепенной важности, заставляет англичан по-новому взглянуть на колониальные владения. Колонии перестают мыслиться как нечто экзотическое. Теперь сохранение колониальной гегемонии представляется зримым основанием для поддержания и преумножения могущества страны. Англичане начинают видеть в колониях основу престижа Англии. Так, по словам Уэйкфилда, английского политического деятеля середины XIX века, значение колоний заключается уже в том, что «великая империя в руках Англии делает само имя Англии реальной и мощной силой»,
Парламентская реформа 1832 года, укрепившая позиции торгово-промышленного класса в Англии, во многом содействовала дальнейшей колониальной аннексии. Одержав первую победу в утверждении избирательного права, индустриальная Англия своего полного торжества достигает в 1840-е годы. Благодаря пересмотру тарифных ставок в духе фритредерской программы (1842) и устранению «хлебных законов» (1846) принципы свободной торговли распространяются на всю империю.60 Реформы колониальной экономической системы существенно изменили положение дел в имперской экономике. Ликвидация монопольных компаний и упразднение имперской таможенной системы открыли путь в колонии широкому кругу английских купцов и промышленников, позволив им раскинуть «свои сети по всему миру» (Е.Л. Ланн).
Дом (жилище): грани "своего" и "чужого"
Однако сама формула «дом - крепость», созвучная островной психологии англичан, прочно закрепилась в национальном сознании. Англичане, по замечанию В.В. Овчинникова, любящие свою землю, прежде всего, как родной дом, уделяют огромное внимание обустройству своего жилища. Очень личное и трепетное отношение англичан к дому хорошо иллюстрирует, например, тот факт, что «почти все дома в Англии имеют имена» (А.В. Павловская).100 Английский дом, представляя собой «микромодель острова» (В.Г. Зинченко, В.Г. Зусман, З.И. Кирнозе), есть небольшое уютное пространство, отгороженное от всего остального мира. Неприкосновенность частной жизни, возвеличивание домашнего очага, культ частной собственности являются важнейшими составляющими английского национального характера (Е.В. Кваскова). Жилища в произведениях Диккенса нередко наравне с людьми выступают в качестве полноправных героев. Они передвигаются, гримасничают и испытывают чувства, живут жизнью своих владельцев, а нередко имеют и свою собственную.
Диккенс, вводя в повествование романа нового героя, как правило, описывает его местожительство, что, безусловно, акцентирует мысль о значении дома в бытии человека.
Дом в изображении Диккенса очень часто наделяется свойствами его хозяина, помогая раскрыть особенности характера персонажа. Так, мистер Домби, показанный «главным образом в стенах своего дома» (Н.П. Михальская),103 оказывается одним целым со своим ледяным жилищем. Н.П. Михальская замечает: «Особенность характера мистера Домби — чопорного английского буржуа - прекрасно передана благодаря тому, что Диккенс постоянно обращает внимание читателя на холод, исходящий от Домби, на ту атмосферу замораживающего холода, которая царит в его доме».104 От одного только взгляда мистера Домби в комнатах его дома может изменяться температура. Температура в помещении, например, резко падает, если мистер Домби холодно взирает на свою дочь Флоренс. Тема холода подчеркивается даже в мельчайших предметах домашнего обихода. Автор сообщает нам, что «из всех прочих вещей несгибаемые и холодные каминные щипцы и кочерга как будто притязали на ближайшее родство с мистером Домби...» (т. 13, с.74).
Возможный перечень жилищ, имеющих сходства со своими владельцами, в романах Диккенса 1840-х годов видится весьма внушительным.
Так, дом мистера Хардейла («Барнаби Радж»), мучимого тяжестью несправедливого обвинения в причастности к убийству брата, представляет собой мрачный, безмолвный особняк, «где все обветшало и постепенно разрушалось», где даже жилая часть дома, «которая содержалась в порядке, наводила тоску той же мрачностью и запустением», где трудно было вообразить себе «ярко пылающий огонь в камине, трудно было поверить, что в этих неприветных стенах чье-то сердце может узнать счастье или беспечное веселье» (т.8, с.129). Отмечая мрачность дома, Диккенс подчеркивает, что она вызвана «смертью прежнего владельца и характером нынешнего» (т.8, с. 130).
Комментарий автора получает и описание жилища мистера Каркера («Домби и сын»). Дом коварного Каркера «построен и отделан со вкусом»; его окружение - лужайка, мягкий и отлогий склон, цветник, купы деревьев -«наводят на мысль об изящном комфорте, какой, вероятно, можно найти только во дворце»; внутреннее убранство дома также «отличается изяществом и роскошью» (т.14, с.47). Однако, несмотря на все богатство и комфорт, «в воздухе чувствуется что-то нездоровое», и Диккенс этот факт объясняет тем, что хозяин дома «незаметно распространяет свое влияние на все, что его окружает» (там же).
Дом доктора Блимбера («Домби и сын») - человека с неограниченным запасом учености - имеет снаружи «педантический и ученый вид» (т.14, с. 174). Внутри в этом доме мебель выстроена рядами, «словно цифры в арифметической задаче» (т.13, с.179). Дом некрасивой и зловредной миссис-Пипчин («Домби и сын») уподоблен замку людоедки.
Хозяева всех вышеперечисленных домов так или иначе связаны с «чужим» миром. Может быть, именно поэтому их дома нельзя назвать по-настоящему уютными жилищами. Мистер Домби более двадцати лет возглавляет торговую фирму «Домби и сын». Положение руководителя фирмы, ведущей торговые сделки с заморскими странами, ставит его в близкие отношения с «чужим». Он человек, чье имя «пользуется известностью и почетом в отдаленных британских владениях» (т.13, с.161) ["that is known and honoured in the British possessions abroad"105]. По сравнению с ним «настоящий турецкий паша» (т.13, с.518) ["quite а Bashaw"106] и даже «индийский император» (т.13, с.479) ["the Emperor of India" 7], невинный младенец. Обучение мистера Хардейла в Париже сближает его с «чужим» миром. На эту связь указывает и факт его побега за границу после дуэли с мистером Честером. Мистер Хардейл отправляется «в один монастырь, известный во всей Европе строгостью режима и беспощадно суровыми правилами» (т.8, с.736). Мистер Каркер соединен с «чужим» не только как управляющий фирмы мистера Домби, но и в силу собственных торговых операций, благодаря которым «мелкая рыбешка, окружающая китов восточной торговли, почитала его богатым человеком» (т.14, с.238) ["the minnows among the tritons of East, a rich man" ]. Чрезмерное увлечение доктора Блимбера римской историей также ставит его в близкое положение «чужому». Связь миссис Пипчин с «другим» миром обнаруживает себя как в том, что она является вдовой «человека, который умер из-за Перуанских копей» (т.13, с.173) ["a man who had died of the Peruvian Mines"109], так и в том, что эта пожилая леди - владелица «заведения для обеспеченных детей, присланных родными из Индии» (Э. Уилсон).11
Совсем по-другому изображается дом слесаря Вардена («Барнаби Радж»), «самого цветущего, уютного, веселого, добросердечного и всем довольного человека во всей Англии» (т.8, с.719). Его жилище - «самый уютный домик в Клеркенуэле, в Лондоне, даже во всей Англии» (т.8, с.49).
Несовместимость домашнего уюта с «чужим» миром хорошо иллюстрирована мрачностью дома кузена Финикса («Домби и сын»), которому воздух Англии «редко приходился по вкусу» (т. 13, с.515). Дом человека, проживавшего «большей частью за границей» (там же) описан следующим образом: «...темно-коричневая ... окраска, и картины, пятнавшие стены подобно мемориальным доскам, и двадцать четыре черных стула, украшенные гвоздями в таком же количестве, напоминающие столько же гробов и ожидающие на краю турецкого ковра подобно наемным участникам похоронной процессии, и два истощенных негра, поддерживающие два ветхих канделябра на буфете, и пропитывающий комнату затхлый запах, словно прах десяти тысяч обедов был погребен в саркофаге под полом» (там же). Огромное значение жилища подчеркивает и факт того, что они, несмотря на свою прочную связь с хозяевами, могут также претендовать и на определенную долю независимости от своих жильцов. Свидетельством этого г может быть, например, следующее рассуждение автора, указывающее на самостоятельную жизнь харчевен и их посетителей: «Если рассказать хотя бы о половине курьезных старых харчевен, влачивших дремотную, скрытую от мира жизнь по соседству с пансионом, то получилась бы целая толстая книга, а второй, не менее объемистый том можно было бы посвятить старым чудакам, завсегдатаям этих неприглядных заведений» (т.10, с.167). Иллюстрацией обособленности жизни жилищ от тех, кто их заселяет, является и эпизод прощания Поля Домби («Домби и сын») с домом доктора Блимбера. Поль планирует день отъезда так, чтобы у него осталось время еще раз заглянуть в комнаты наверху и «подумать о том, как будет в них пусто, когда он уедет; и поинтересоваться, сколько безмолвных дней, недель, месяцев и лет будут они оставаться такими же торжественными и тихими» (т.13,с.240).
Персонифицируя дома, Диккенс наделяет их как положительными чертами (скромность дома слесаря Вардена, который «не глазел нахально на" прохожих большими окнами, а застенчиво щурился» (т.8, с.48), так и отрицательными (снобизм домов Лондона, толкающих здание пансиона М. Тоджерс («Жизнь и приключения Мартина Чезлвита») «своими кирпичными штукатуренными локтями, не давая ему вздохнуть и вечно загораживая от него свет» (т.10, с. 165)).
Концепт путешествие за границу в романах Диккенса
Популярный общественный деятель XVIII века, составитель первого серьезного словаря английского языка доктор Сэмюэль Джонсон говорил: «Любое путешествие имеет свои преимущества. Если вы попадете в лучшую страну, вы сможете научиться улучшить свою собственную, если в худшую 247 научитесь ее ценить».
Э. Уилсон в книге «Мир Диккенса» пишет: «Нет лучшего способа увидеть свой мир со стороны, чем заграничное путешествие: в чужой стране мы по необходимости шире и глубже судим об общих понятиях, поскольку у нас нет непосредственного, субъективного знания страны - не то что дома, когда мы в плену знакомых мелочей и собственной памяти». Современный отечественный историк А.В, Павловская одним из многочисленных парадоксов английской жизни называет характерное для англичан благополучное сочетание неприятия иностранного с повышенным интересом к внешнему миру и любовью к путешествиям. Путешествие для жителей туманного Альбиона, по мнению Павловской, всегда было лучшим способом борьбы с английскими национальными недостатками - «предубеждением против всего чужеземного, отсутствием интереса к иностранным языкам и нравам, национальной замкнутостью, узостью мировосприятия».
Однако даже путешествующий за границей англичанин не может полностью освободиться от «островных» стереотипов. «Натура островитянина не в силах преодолеть недоверие, настороженность, сталкиваясь с совершенно иным образом жизни...» (В.В. Овчинников). Англичанину, для того чтобы чувствовать себя комфортно за рубежом, «образно говоря, нужно возить свой дом с собой, отгораживаться от местной действительности непроницаемой ширмой привычного уклада жизни» (Е.В. Кваскова).251
Дж.С. Милль в труде «Система логики силлогической и индуктивной» (1843) пишет: «Сведения, выносимые средним путешественником из чужой страны, в качестве его личных впечатлений, почти всегда в точности подтверждают те его мнения, с какими он отправился в путь. Он имел глаза и уши только для того, что он ожидал увидеть и услышать».
Сам Диккенс, часто выезжавший за границу, хотя и хорошо понимал «необходимость «поправки» на особенности восприятия иной культуры» (Н.В. Ткачева) (в «Американских заметках», например, писатель отмечает: «Глазу англичанина, привыкшему к Вестминстер-Холлу со всеми его аксессуарами, американский суд покажется таким же странным, каким, наверно, кажется американцу английский суд» - т.9, с.71), однако, вместе с тем, в своих путевых очерках 1840-х годов делает акцент не столько на фиксации увиденного, сколько на донесении «до читателя собственного взгляда, впечатления» (там же).
Не случайно Г.К. Честертон в книге «Чарлз Диккенс», называя писателя «закоренелым англичанином», поясняет это следующим образом:" «Он был истинным человеколюбцем и относился справедливо ко всем народам, насколько понимал их, но человеколюбие его и справедливость -чисто английские. ... Он почитал катакомбы и гондолы, но само почтение это было английским. Он восхищался вулканами и разбойниками, но английским было и восхищение. Только англичанин думает, что Италия состоит из гондол, вулканов и разбойников».
В письме одному из своих знакомых из Венеции (1835), например, Диккенс откровенно признается: «...в Англии я чувствую себя дома, Венеция же для меня и впрямь чужбина» (т.29, с. 12).
Нужно отметить, что Диккенсу, всегда остававшемуся в своих поездках за границу «просто английским путешественником» (Г.К. Честертон), удалось все же подняться над островным мышлением своих соотечественников, которые, путешествуя, проявляют, по словам писателя, «просто чудовищно наглое самомнение и уверенность в собственном превосходстве», а «по грубой фамильярности обращения, по бесцеремонному любопытству» «превосходят любой туземный экземпляр» (т.9, с. 141).
Так, в романе «Крошка Доррит» (1857)257 Диккенс, комментируя степень образованности миссис Дженерел, занимающейся «шлифованием ума» (т.21, с.27) ["form the mind"258] благородных девушек, сообщает, что она около семи лет провела в Европе «и повидала весь пестрый ассортимент вещей и явлений, на которые положено посмотреть каждому светскому образованному человеку, причем не собственными глазами, а чужими (курсив мой - Т.М.)» (т.21, с.28) ["and saw most of that all persons of polite cultivation should see with other people s eyes, and never with their own"259]. Острота иронии Диккенса относительно английского восприятия «чужого» усиливается карикатурностью самого образа миссис Дженерал -воспитательницы, назначившей себе «отменно высокую цену» (т.21, с.27) ["a very high figure"260], но никогда не имевшей никакого спроса.