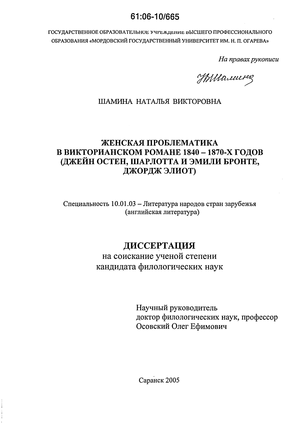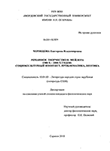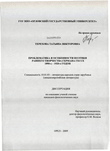Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Исторические и социокультурные параметры трансформации места и роли женщины в викторианскую эпоху
1.1. Мировоззренческие ориентиры викторианской эпохи 22
1.2. Социальный статус англичанки и специфика женского движения в викторианской Англии 37
Глава 2. Предвикторианская трактовка женской темы в романах Дж. Остен
2.1. Специфика репрезентации атрибутов «традиционной женственности» в произведениях Дж. Остен 69
2.2. Представители «сильного пола» глазами Дж. Остен и ее героинь 95
Глава 3. Художественное своеобразие трактовки образов мужчины и женщины в произведениях сестер Бронте
3.1. Специфика взаимоотношений мужчины и женщины в романе Э. Бронте «Грозовой перевал» 111
3.2. Своеобразие реализации женской проблематики в раннем творчестве Ш. Бронте («Учитель», «Джейн Эйр») 126
3.3. Способы разрешения «женского вопроса» в романах Ш. Бронте «Шерли» и «Городок» 151
Глава 4. Новая интерпретация женской темы в романном творчестве Дж. Элиот
4.1.Тема невозможности самореализации женщины в романе «Мельнице на Флоссе» 171
4.2. Образ Доротеи Брук и проблема женского самосознания в романе «Миддлмарч» 185
Заключение 199
Список использованных источников 207
- Социальный статус англичанки и специфика женского движения в викторианской Англии
- Специфика репрезентации атрибутов «традиционной женственности» в произведениях Дж. Остен
- Специфика взаимоотношений мужчины и женщины в романе Э. Бронте «Грозовой перевал»
Введение к работе
л» Английская литература XIX века и, прежде всего, викторианский ро-
ман, по праву считается одной из самых значительных и вызывающих постоянный научный интерес страниц истории европейской литературы: писатели-викторианцы, одновременно опираясь на традиции своих предшественников и разрабатывая новые темы, мотивы и приемы, обогатили английскую реалистическую прозу, их произведения явились фундаментом для важнейших открытий англоязычной литературы XX столетия. При этом нет никаких сомнений в том, что важнейшая роль в становлении викторианского романа и шире - реалистической эстетики - наряду с Ч. Диккенсом, У. М. Теккереем,
(^ Т. Гарди и др., принадлежит и женщинам-писательницам XIX столетия
(Дж. Остен, сестры Ш. и Э. Бронте, Дж. Элиот, Э. Гаскелл). Их убежденность в необходимости изменения идеологических установок эпохи, общественного устройства, традиционных семейных норм и уклада, готовность к утверждению новых социокультурных установок нашли вполне закономерное и адекватное выражение в их художественном творчестве.
Женская тема является одной из доминирующих в литературном процессе Англии эпохи викторианства (1837 - 1901 гг.). И хотя определенные шаги в разработке и научном осмыслении данной проблемы зарубежными и отечественными литературоведами уже сделаны, выяснение характерных особенностей отражения женской темы в творчестве женщин-писательниц заслуживает специального рассмотрения. Именно в необходимости многоаспектного рассмотрения художественной интерпретации женской темы в движении литературы, в выявлении характера эволюции художественной концепции личности женщины в ее историко-литературном развитии, изменения места в семье и в обществе в литературно-художественной практике писательниц Великобритании, творчество которых приходится на 1840 - 1870-е гг., видится нам актуальность представленного исследования.
Проблема «женщина и общество» представляется сложной и многоас-пектной и оттого до сих пор вызывающей многочисленные дискуссии. Из
сферы общественной и социально-политической она выдвинулась в настоящее время, в первую очередь, в область научно-теоретических философских, социологических, исторических, культурологических и даже экономических и юридических исследований, в которых находит применение так называемый гендерный подход (являющийся, заметим, не только частью современной гуманитарной науки, но непосредственно влияющий на анализ отношений -социальных, духовных и т. д., на структурно-функциональный статус мужчины и женщины) к осмыслению тех или иных аспектов человеческой деятельности и бытия: сфера чувств, эмоциональные реакции, поведенческие стереотипы, специфика взаимоотношений с миром, формы освоения и присвоения культурных ценностей существуют в мужском и женском вариантах [см. об этом: 27, 36, 41, 45, 47, 49 и др.].
В то же время полновесное научное осмысление этой проблемы в современном литературоведении происходит лишь в последние десятилетия [см., например: 31, 63, 64, 290 и др.]. Женская тема во всей ее полноте (положение женщины в семье и обществе, идея женской эмансипации, тема облегчения развода для женщин, их права на гражданский брак), характерная для социокультурного сознания Западной Европы XIX в., в том числе, литературы и публицистики, занимает важное место в творческом наследии викторианских писателей, являясь одним из измерений историко-культурного процесса и закономерностей развития художественного сознания и творчества. Как одна из доминирующих тем английской литературы середины XIX столетия она дает ключ к пониманию места женщины в обществе, ее роли в развитии общественного прогресса, выяснению типичности или специфики вопроса о ее правах и свободах.
Проявляя значительный интерес к судьбе англичанки, исследуя особенности женского начала, женского взгляда на мир, женских ценностей, изучая роль женщины в различных областях общественной жизни, викторианские писательницы в своих произведениях стремились объективно отразить жизнь современниц, проблемы женской эмансипации и зарождающегося феминиз-
ма, а также показать развитие новых приоритетов и общественных ценностей, что позволяет рассматривать их литературное творчество как своеобразную реакцию на изменения духовного содержания всей викторианской эпохи.
Характерной особенностью ситуации второй половины XIX столетия является то, что в семейной сфере женщина в Англии продолжала оставаться эксплуатируемым существом, а привлечение ее к профессиональному труду превратило эту эксплуатацию в двойную, поскольку нормы, действовавшие в семье и на производстве, строились по патриархальной модели. Патриархальная ориентация культуры проявилась в том, что власть, понимаемая в широком смысле как причастность к принятию решений, находилась в руках мужчин и осуществлялась по «мужскому образцу» [подробнее см.: 36, 181, 182, 192, 198, 203, 208, 338, 243, 366]. По утверждению Э. Фромма, «господство мужчин над женщинами - это первый акт завоевания и первое использование силы с целью эксплуатации: во всех патриархальных обществах после победы мужчин над женщинами эти принципы легли в основу мужского характера» [128, с. 164-165].
В области морали и нравственности приоритетное место отводилось таким ценностям, как индивидуальная свобода, обладание правами, которыми в полной мере могут пользоваться одни мужчины, однако постепенно у наиболее передовой и образованной части англичанок созрела решимость добиваться равных с мужчинами прав на образование, свободу профессиональной деятельности, права распоряжаться собственностью и воспитывать детей, свободы развода, избирательного права. Идея женского равноправия во второй половине XIX в. охватила достаточно широкие круги английской общественности и нашла свое выражение в феминистском и суфражистском движениях, которые впервые обратили пристальное внимание на женские проблемы, а также выявили социальную детерминанту, связанную с социопо-ловой принадлежностью, точнее, теми ролями, которые общество определяет мужчине и женщине. Менялся не просто социальный, но, прежде всего - эти-
6 ческий, психологический статус женщины, что требовало непосредственного описания и осмысления.
Безусловно, проблема места женщины в обществе и, главным образом, вопрос о ее правах и свободах, отчетливо начинает прослеживаться в литературах Западной Европы и Америки лишь на рубеже XIX-XX вв., когда феминистские движения набирают особую силу и обретают весьма значительное социальное влияние (достаточно вспомнить романы Э. Золя, Г. де Мопассана, Дж. Лондона, Т. Фонтане, драмы Г. Ибсена и т. д.), однако в эволюции «женского вопроса» важнейшее место как некоей исходной точке принадлежит именно викторианским писательницам, которые ранее, нежели их современники-мужчины, обратились к описанию и исследованию роли и места женщины не только в социуме, но в самом порядке бытия. И хотя тема женщины, ее ценностей, морали, соотношения мужского и женского начала, художественное осмысление «женского вопроса» занимала достаточно важное место в творчестве целого ряда английских писателей, особенно «поздних» виктори-анцев (от Т. Гарди и Э. Троллопа до О. Уайльда), мы сосредоточили внимание на творческом наследии Джейн Остен (не подпадая под хронологические границы викторианской эпохи, писательница, заметим, тем не менее, достаточно органично вписывается в ее социокультурный и литературный контекст), Шарлотты и Эмили Бронте, Джордж Элиот, на произведениях, наиболее репрезентативных с точки зрения заявленной проблемы и ее отражения в литературе. Естественно, что рассмотрение этих вопросов невозможно вне историко- и социокультурного контекста, который, собственно, и предопределил своеобразие формирования и воплощения женской темы в английском викторианском романе.
Значительное количество художественных произведений сестер Бронте, Дж. Элиот свидетельствует о том, что викторианские писательницы ощущали необходимость показать процесс становления «новой женщины», эволюцию ее жизненных установок: изображая жизненный путь своих героинь, они фокусируют внимание на изменении ролевых функций женщины в английском
обществе середины XIX столетия, поскольку именно в этот период наиболее
, % ярко проявились перемены в различных сферах социума: на культурном (из-
менение норм и ценностей, связанных с образом женщины и ее поведением), институциональном (в сфере семьи, работы, образования), межличностном (в области взаимоотношений мужчины и женщины) уровнях.
Степень научной разработанности проблемы. Проблемное содержа
ние нашего диссертационного исследования по самой своей сути носит ком
плексный характер и потому может быть осмыслено в различных аспектах:
помимо собственно литературоведческого, это философский, социально-
психологический, культурологический и др. Соответственно, признавая осо-
«ч бо значимой разработку женской темы в литературоведении, укажем на ряд
работ обобщающего характера, в которых рассматриваются социокультурные аспекты проблемы «женщина и общество», рассмотрим научную разработанность женской темы в работах отечественных и зарубежных исследователей-литературоведов, а, кроме того, предпримем попытку осмысления исследований, касающихся тех или иных аспектов викторианской эпохи, к которой не просто относится творчество названных нами писательниц, но на фоне которой непосредственно развиваются сюжеты большинства их романов.
Изучением и разрешением «женского вопроса», точнее вопроса об общественном положении женщины, о возможностях и путях ее полной эмансипации и устранении всех форм дискриминации, об уравнении в граждан-ских, экономических и социальных правах с мужчиной, о защите ее интересов, занимаются представители почти всех областей общественных наук. В западной науке, прежде всего - социологии, политологии и философии -основательное и многоаспектное изучение «женского вопроса» представлено уже в исследованиях конца XIX - начала XX столетия - трудах Л. Брауна [48], А. Бебеля и др. На протяжении последующих десятилетий проблема женщины обретает принципиально иное измерение: появляются тендерные исследования, отмеченные переходом от анализа патриархата и специфиче-ского женского опыта к анализу тендерной системы; на первый план выдви-
гаются подходы, согласно которым все аспекты человеческого общества, культуры и взаимоотношений являются тендерными [237, 292, 299]. К 1980 — началу 1990-х гг. происходит рост тендерных теорий (в первую очередь, в связи с институционализацией женских исследований в университетах Европы); тендер как культурологическая интерпретация начинает присутствовать в ряде западных исследований [см., например: 49, 66, 105, 308, 309, 362]. Особо значимыми для нас стали труды представителей феминистской критики Э. Сиксу [190], Л. Иригарэй [256], Ю. Кристевой, А. Колодни, Л. Робинсон [201], в которых одним из главных является вопрос, отличается ли текст женского автора от текста автора мужского какими-нибудь внешними, то есть формальными признаками. Так, согласно идеям Л. Иригарэй, «женщина не может говорить вне маскулинного дискурса и, следовательно, не имеет женственного языка» [256, с. 76]. По мысли большинства представителей феминистской литературной критики, необходимость для женщины писать очевидна. В этой связи Э. Сиксу заявляет, что «женщина должна писать о женщинах, должна способствовать тому, чтобы другие женщины приобщились к литературному творчеству» [190, с. 72].
Известный французский семиотик, культуролог, литературовед, теоретик психоаналитического направления в современной деконструктивистскои критике Ю. Кристева, характеризуя этапы женского движения, справедливо констатирует, что оно «глубоко уходит корнями в социополитическую жизнь того или иного государства» [201, с. 474]. Значительное влияние на изучение творчества женщин-писателей оказали работы С. М. Гилберт и С. Губар, в которых при осмыслении роли и места женщины в различных дискурсах применяется тендерный подход. В одной из статей С. М. Гилберт цитирует широко известные строки из письма Р. Саути, адресованного Ш. Бронте: «Литература не является делом жизни женщины, она и не может им быть» [233, с. 489]. Размышляя о доминировании так называемой «мужской традиции» в литературе, исследовательница склонна рассматривать писательскую деятельность с половой и даже с физиологической точек зрения.
Отношение мужчин к женским текстам рассматривает в одной из своих
статей А. Кол одни: «Читатель-мужчина, открывая произведение, написанное
женщиной, попадает в странный и незнакомый мир, полный символического
смысла» [201, с. 502], причем, полагает исследовательница, мужчина вряд ли
способен его понять, поскольку он является неотъемлемой частью жизни
женщины, ее специфического опыта. По этой причине мужчина-читатель и
мужчина-автор рассматривает его как неразборчивый, тривиальный и не
имеющий смысла; именно поэтому, по мнению Колодни, литературоведы-
мужчины не склонны включать произведения, написанные женщинами, в
число классических текстов. Конгениальной оказывается позиция Л. С. Ро-
u бинсон, отмечающей, кроме того, что «современные феминистские исследо-
вания склонны рассматривать писательниц и их героинь как активных деятелей, а не как пассивных <...> жертв» [201, с. 577].
Что же касается традиционного литературоведения и литературной критики, то женская тема, в первую очередь, в викторианской литературе, остается предметом осмысления преимущественно западных исследователей [см., например: 150, 151, 156, 159, 163, 171, 178, 191, 223, 267, 268, 278, 286, 304, 318, 331, 340, 366]. Руководствуясь целями и задачами нашей диссертации, мы не считаем необходимым описывать подробно весь массив литературоведческих и культурологических исследований, затрагивающих различные аспекты эпохи викторианства, но полагаем вполне уместным остановиться на работах, непосредственно касающихся женской литературы и связанной с ней проблематики, в частности.
Так, одним из первых исследователей викторианской женской литературы вполне объективно следует признать Генри Льюиса. В «Эссе о романистках» ("Essay on Female Novelists" (1852)) Льюис пытается осмыслить понятие «женская литература»: «Мужчины не способны описать жизнь, если они ее не знают, <.. .> появление женской литературы привнесет новые элементы - женский взгляд на жизнь, женский опыт» [276, с. 28; здесь и далее перевод наш. - Н. Ш.]. Этот «новый элемент», по мнению Льюиса, обусловлен тем,
что женщины обладают особым «знанием» человеческого сердца. Имея чет-
,, кое представление о половых различиях, он утверждает: «Мужской ум харак-
теризуется преобладанием интеллекта, а женский - преобладанием эмоций»
[276, с. 27]. Принципиальное различие между «мужским» и «женским» ти
пами письма, по его мнению, сводится к следующему: «Женщина, благодаря
своей нежности, любви и глубокой душевности, великолепно подходит для
изображения эмоциональной стороны жизни <.. .>. Писать, как пишут муж
чины - это цель и главное искушение для женщин; писать, как женщины -
это их истинный долг, который они обязаны выполнять <...>. Нам не нужно
большее количество писателей-мужчин; нам нужны подлинный женский
<» опыт и мастерство. Предубеждения, взгляды, чувства и привычки мужчин
уже достаточно иллюстрированы, давайте получим в этом отношении полную картину жизни женщин» [276, с. 28]. Согласно логике Льюиса в «Романистках» ("Lady Novelists"), самая великая литература повествует, прежде всего, правду о человеческих чувствах; женщины более эмоциональны, чем мужчины, и, значит, лучше могут изображать эти чувства, следовательно, женщины имеют большую склонность к созданию великой литературы: «Те немногие, кто постиг вселенские истины человечества, - Мария Эджуорт, Джейн Остен, Жорж Санд, Каррер Белл и Элизабет Гаскелл - это первооткрыватели глубоко эмоционального литературного голоса, одновременно и вселенского, и женского» [276, с. 29].
Ключевой фигурой в изучении истории английской литературы, в частности, викторианского романа, по праву считается Дж. Сэйнтсбери. Его труды («История литературы XIX в., 1780-1895» (1896), «Английский роман» (1913)) стали основой для литературной критики начала XX века. В главах труда «Английский роман», посвященных викторианскому роману, Сэйнтсбери предлагает свой взгляд на характерные черты творчества отдельных писателей. Вместе с тем, литературовед исследует их на фоне бурно меняющейся
исторической обстановки. Пытаясь абстрагировать роман от социальному
политической жизни общества, Сэйнтсбери не интересовался идеологической
11 стороной художественной литературы, полагая при этом, что викторианский роман не должен был вмешиваться в общественные дискуссии: «Роман не имеет ничего общего ни с какими верованиями и убеждениями <...>. Его сущностью всегда должна быть жизнь» [цит. по: 350, с. 22]. Дж. Сэйнтсбери подразумевал, что читатель рассматривает роман как описание универсального личного опыта и не связывает его с определенными историческими или политическими событиями. В целом, Дж. Сэйнтсбери признавал за викторианской литературой главенствующее место во всей истории развития литературы английской. Кроме того, исследователь пытался установить взаимосвязи между романами и их создателями. Придавая существенное значение литературному наследию, традиции и взаимовлиянию романистов, Дж. Сэйнтсбери считал творческой основой для создания викторианских романов (в первую очередь, произведений Ш. Бронте) нравоописательный роман Дж. Остен и героический роман В. Скотта.
Другой достаточно заметной фигурой в литературной критике Англии начала XX столетия является писатель и критик Э. М. Форстер. В монографии «Аспекты романа» (1927) исследователь представил собственное видение литературного процесса, созвучное с мнением Дж. Сэйнтсбери: он полагал, что художественная литература должна быть абстрагирована от социологии, политики, истории, она должна стоять «вне истории, как литературной, так и нелитературной» [цит. по: 350, с. 29]. Это суждение литературоведа подкреплялось его верой в вечные литературные ценности. Фостер был нетерпим к распределению романов по категориям и расположению их в хронологическом порядке. По его словам, великие романисты и великие романы всегда вне времени и пространства: «Время всегда является нашим врагом. Мы не должны представлять английских романистов несущимися в едином потоке. Они будто бы сидят в одной круглой комнате, вроде читального зала Британского музея, и все одновременно пишут свои романы <...>. Факт в том, что главным аргументом является перо в их руках» [цит. по: 350, с. 30].
Весьма значительное исследование викторианской литературной эпохи
(в том числе, и «женской» ее линии) представлено в сборнике эссе «Ранние викторианские романисты» (1934) Дэвида Сесила, который предпринимает попытку ее рассмотрения на широком историко-культурном фоне. Показательно, на наш взгляд, что работа Сесила создавалась в период негативного отношения в английском обществе к викторианской литературе, однако автор достаточно адекватно и проницательно характеризует ранний этап развития викторианского романа и его создателей. «Они [викторианцы. - Н. Ш.] были выдающимися людьми - иначе как бы они сделали все то, что сделали? - с ненасытным аппетитом к жизни, безмерной способностью смеяться и плакать, пристальным вниманием к каждому явлению под небесами, полным вдохновения, смелости, эксцентричности и решительности. В то же время, они были тщеславными, назидательными и упрямыми. И как у всех людей, которые вынуждены сами прокладывать дорогу в жизни, у них не было традиций стиля, мышления и поведения. При том, что их достижения часто оказывались великими, они сохраняли узость и ограниченность взглядов <...>. Все эти обстоятельства неизбежно отражались в раннем викторианском романе. Так как это была первая ступень его развития, он был технически несовершенен. Он еще не развил свои собственные законы и, все еще, был связан с условностями и традициями комедии и героического романа, <...> с их искусственными интригами, набором ситуаций и надуманным счастливым финалом. Поскольку на него смотрели как на легкое чтиво, его читатели не ожидали высокого уровня мастерства (и не важно, если время от времени он встречался), особенно, учитывая то, что у них самих не был развит литературный вкус <...>. С другой стороны, им [читателям. -К Ш.] не рекомендовалось тратить время на легкое чтиво, которое считалось внушающим беспокойство и приводящим к умственному напряжению» [цит. по: 350, с. 39].
Исследованием викторианского романа, его художественного своеобразия занимался один из наиболее значительных английских литературоведов середины XX в. Ф. Р. Ливис, считавший викторианский роман своеобразным эталоном романного жанра и основной формой литературного искусства. В
отличие от предшествующих исследователей, Ливис был убежден, что художественная литература (fiction) в полной мере заслуживает пристального изучения и критического исследования, причем важнейшее внимание необходимо уделять изучению «мужского» и «женского» типов письма как отличных друг от друга, в связи с психологическими, эстетическими, социальными, и, наконец, половыми различиями личностей мужчины и женщины [подробнее см.: 271].
Устойчивое внимание западных литературоведов и критиков на протяжении последних десятилетий привлекает язык викторианского романа. Так, с 1970-х гг. начинают пристально изучаться стилистические особенности крупнейших романистов эпохи викторианства (Диккенса, Теккерея, Гарди, Бронте, Элиот), причем, как правило, при этом используются методы дескриптивной лингвистики [см.: 167, 168, 170, 254, 301, 328, 329, 338, 339, 361]. В 1970-х - 1990-х гг. создается ряд работ, в которых представлен общий анализ викторианской эпохи и литературного процесса, не касающийся творчества отдельных писателей [см.: 155, 157, 159, 174, 184, 210, 251, 372]. Основное внимание в них, заметим, сосредотачивалось на репрезентации речи, а в последнее десятилетие XX в. первостепенными объектами изучения стано-; вятся и особенности речи персонажей, и специфика авторского повествования. В конце 1990-х гг. продолжается активная разработка и применение методов дескриптивной лингвистики; наряду с этим углубляется понимание языковой теории М. М. Бахтина в применении к лингвистическому подходу, имеющему отношение к гендерным и классовым особенностям языка викторианского романа [см.: 149, 181, 198, 210, 323].
Несомненно, в литературоведении важны поиск и научный эксперимент - этим требованиям в полной мере соответствует современное изучение викторианской литературы и культуры зарубежными литературоведами. Исходя из этого, мы считаем принципиально необходимым подчеркнуть и систематизировать некоторые закономерности современных научных подходов, предпринимаемых западными исследователями. Во-первых, следует по-
казать и проанализировать современные научные подходы к изучению викторианской эпохи и - в более широком смысле - всего XIX столетия. Для этого нами были отобраны и детально проанализированы наиболее репрезентативные работы, отражающие актуальную проблематику в гуманитарном знании сегодня [более подробный обзор викторианской проблематики в англоязычном литературоведении последних лет см.: 136]. Заметим, что значительное количество работ посвящено не только «женской» литературе, но и литературному исследованию викторианской эпохи в целом. В этой связи, прежде всего, упомянем монографии Л. Доулинг «Вульгаризация искусства» [210] и Т. Лутенс «Потерянные святые» [280]. В последней проводится параллель между литературными и религиозными канонами; здесь, кроме того, представлены идеологические основы викторианской литературной канонической традиции и анализируются причины ее возникновения; внимание автора акцентируется на тендерном аспекте и социополовом неравенстве женщин и мужчин в историко-культурном процессе Англии XIX столетия. Г. Т. Хьюстон в работе «Королевская власть. Королева и викторианские писатели» [253] рассматривает образ королевы Виктории, созданный выдающимися писателями XIX столетия, показывая при этом сложность и многогранность викторианских представлений о половой принадлежности, власти и личности.
Многие англоязычные литературоведческие издания последних лет посвящены пристальному рассмотрению творчества того или иного писателя, поэта, искусствоведа, критика викторианской эпохи [см., например: 162, 167, 168, 170, 188, 207, 233, 236, 241, 244, 248, 334 и др.], причем в большинстве из них весьма многогранно и полно представлена социокультурная обстановка викторианства и, что особенно значимо для нашей диссертационной работы, воссоздан интеллектуальный климат эпохи.
Отчетливо осознавая ту значительную роль, которая принадлежит в становлении викторианского романа и реалистической эстетики английским женщинам-писательницам XIX в., многие западные исследователи предпринимают попытки осмысления тех или иных аспектов творчества Дж. Остен,
сестер Бронте, Дж. Элиот, характеризуя сюжетно-тематические, композиционные особенности их произведений, а также определяя их значение в становлении английской литературы [см., например: 243, 248, 254, 259, 263, 266, 278, 283, 303, 314, 322, 328, 329, 326, 327, 338, 340 и др.]. Так, в своей книге «Женский политический роман в викторианской Англии» [243] Б. Ли Харман исследует классические романы женщин-писательниц в непосредственной взаимосвязи друг с другом и с зарождавшимся в Британии «женским движением» ('women's movement'). Автор рассматривает деятельность «поборниц равноправия», которые стремятся к участию в общественной жизни, традиционно являющейся привилегией мужчин. Книга Э. Кейс «Пишущие женщины» имеет подзаголовок «Пол и повествование в британском романе XVIII-XIX веков», ориентирующий читателя на суть авторского повествования, — осмысление романного творчества именно женщин-писательниц Британии [подробнее см.: 181].
Безусловный интерес в свете заявленной нами темы представляют изданные в последние годы сборники статей «Женщины и британский эстетизм», «Женщины и писательство в Британии XIX в.», «Женская вера в викторианской культуре», содержащие весьма любопытные материалы, касающиеся не только различных аспектов существования женщины в социуме (женщина и семья, женщина и проблема развода, женщина и мужчина), но и посвященные женскому литературному творчеству, которое представляет собой сочетание теории феминизма и структурных основ повествования; здесь же затрагивается вопрос о сущности и специфики понятия «гендер» в произведениях Дж. Остен и ее последовательниц [подробнее см.: 369, 370, 371].
Ряд англоязычных исследований последних лет посвящен интересующей нас проблематике - «женскому вопросу» в контексте эпохи викторианст-ва - проблемам отношения к женщинам в семье, социуме и непосредственному отображению их в художественной литературе и публицистике. Так, в работе Д. А. Логан «Падшая женщина в произведениях викторианских пи-
16
сательниц. Выйти замуж, вышивать, умереть или сделать еще хуже»,
посредством осмысления литературной критики и художественных текстов
XIX в. прослеживается отчетливая связь между писательницами и образами
падших женщин в их произведениях. Д. А. Логан также акцентирует внима
ние на взаимосвязи между материальными потребностями и половой
распущенностью, причем весьма расхожее в XIX столетии понятие «виктори
анский ангел» исследовательница считает «не вполне правдоподобным» [278,
с. 112]. Монография С. Джонстон «Женщины и дом в политической художе
ственной литературе викторианской эпохи» посвящена исследованию влия
ния художественной литературы политического содержания на формирование
женского самосознания, причем, полагает автор, «частная жизнь не может
существовать отдельно от общественной, политической и экономической
сфер» [259, с. 35], независимо от эпохи, поэтому даже в XIX в. в Англии,
женщины оказались вовлеченными в общественно-политическую жизнь. Ли-'
тературной культуре поздневикторианской Англии посвящена работа культу-
ролога и литературоведа Т. Шеффер «Забытые женщины-эстеты» [323], в ко- '
торой анализируется творчество малоизвестных писательниц викторианской
эпохи. г
Существенной представляется монография «Их собственная литература» [327] социолога, культуролога и литературоведа Э. Шоуолтер, предложившей принципиально новое видение процесса эволюции английской женской литературы от викторианства и до современности. К представительницам «женственного» (the Feminine) этапа исследовательница причисляет сестер Бронте, Э. Гаскелл, Э. Баррет Браунинг, Г. Мартино, Дж. Элиот, Ф. Най-тингейл и др., женщин, пытавшихся интегрироваться в общественную сферу, подражавших «мужской» традиции в литературе, и в результате на себе испытавших противоречивое состояние «подчинения и сопротивления», которое занимает значительное место и в их романах.
Различные аспекты викторианства (социо- и историко-культурный, историко-литературный и др.) осмысливаются в литературоведческой и культу-
рологической периодике: достаточно упомянуть выходящий каждые полгода журнал «Викторианская литература и культура», а также многочисленные сборники статей, посвященные исследованию практически всех видов искусства викторинства (в том числе, музыки и живописи), демонстрирующие применение инновационных подходов к изучению художественных текстов и творчеству отдельных писателей [см.: 349, 350, 351, 352,353].
Немалое количество разнообразных «викторианских сайтов» представ
лено в Интернете - это, в первую очередь, серьезные академические проекты,
. созданные усилиями ученых-гуманитариев: от постоянно пополняющейся
энциклопедии викторианской культуры Дж. Лэндо [см.: 355] до материалов,
и касающихся викторианской эпохи в различных ее ипостасях («викторианский
вкус», понятие «джентльменства», расовые и религиозные дискуссии, Лондон как главный европейский мегаполис и индустриальный центр XIX в. и т. д.) [подробнее см.: 347, 348, 354, 356 и др.]. Весьма показательно в свете заявленной проблематики, что викторианские женщины-писательницы и их художественное наследие стали предметом описания и исследования в масштабном интернетовском проекте "Victorian Women Writers Project", причем на этом сайте представлены, кроме того, и публицистические тексты малоизвестных викторианских писательниц [см.: 357].
При решении задач, поставленных в настоящей работе, мы опирались также на исследования отечественного литературоведения, где существует немало работ о жизни и творчестве интересующих нас викторианских писательниц. Сразу оговоримся, что объектами исследования ученых являются, в большей мере, биографические материалы, хотя некоторые литературоведы в определенной степени затрагивают проблемы авторского стиля, проблемы эволюции творчества, особенности проблематики и поэтики произведений [см., например: 26, 35, 52, 56, 65, 62, 74, 91, 93, 94, 100, 106, 107, 108, 109, 117,118,134, 135,145,148].
История английской литературы XIX в. продолжает пристально изу-чаться крупнейшими представителями отечественного литературоведения:
А. А. Аникстом, H. И. Бушмановой, Е. Ю. Гениевой, А. А. Елистратовой, 3. Т. Гражданской, В. В. Ивашевой, Н. П. Михальской, М. И. Николой, Н. И. Соколовой, М. П. Тугушевой, М. В. и Д. М. Урновыми, которые в контексте историко-литературных, историко-культурных проблем нередко затрагивают и женскую тему.
Социокультурные реалии английского общества явились достоверным источником жизненных впечатлений и духовного опыта, отразившихся в произведениях писательниц, связанных с темой «женщина и общество», темой равноправия женщин. Именно поэтому нами использован метод интеграции гуманитарных знаний через соотнесенность теоретических параметров темы с ее объективными эмпирическими данными в художественном осмыслении писательниц, обратившихся в своем творчестве к женской теме. При этом обязательной предпосылкой объективного исследования нами признается изучение художественных явлений на основе их взаимосвязи и идейно-эстетического единства произведения в целом. В этой связи в центр изучения выдвинута не изолированно взятая женская тема, а сами произведения с присущими им художественно-эстетическими особенностями. Научная новизна диссертации заключается в том, что
впервые в отечественном литературоведении монографически пред
ставлено исследование женской проблематики в английском викторианском
романе на историческом, социокультурном и идеологическом фоне эпохи;
анализ проблемы осуществляется посредством интеграции традицион
ных методов отечественного сравнительно-исторического литературоведения
с новыми подходами отечественной и англоязычной науки о литературе —
тендерным, социокультурным, феминистским;
исследуются художественные особенности интерпретации образа
«новой женщины» в романах Дж. Остен, Ш. и Э. Бронте, Дж. Элиот;
выявляется зависимость характера восприятия и художественного во
площения женской проблематики от тендерной принадлежности и самоощу
щения автора;
дается развернутая интерпретация романов «Чувство и чувствитель
ность», «Гордость и предубеждение», «Мэнсфилд-парк», «Эмма», «Нортен-
герское аббатство», «Доводы рассудка», «Грозовой перевал», «Учитель»,
«Джейн Эйр», «Шерли», «Городок», «Мельница на Флоссе», «Миддлмарч».
Целью работы является определение главных тенденций в разработке женской проблематики в английской литературе, выявление художественного своеобразия ее воплощения в викторианском романе на фоне общего изменения места и роли женщины в английском обществе XIX в.
Цель работы определила задачи исследования:
выявить общественно-исторические предпосылки возникновения женской проблематики в английской литературе;
проанализировать основной круг проблем, связанных с положением женщины в викторианском обществе под воздействием экономических, социальных, политических факторов, оказавших влияние на изменение статуса женщины в обозначенный период;
дать развернутый идейно-художественный анализ конкретных про
изведений в контексте литературного процесса и историко-культурного раз
вития Англии;
исследовать особенности изображения «викторианской женщины»
английскими писательницами XIX в. - Дж. Остен, Ш. и Э. Бронте, Дж. Элиот.
Объект исследования - женская проблематика в ее взаимосвязи с общественным статусом женщины в викторианском обществе и ее художественная интерпретация в английской литературе XIX в.
Предметом исследования стали наиболее значимые в идейно-художественном плане романы Дж. Остен («Чувство и чувствительность» / "Sense and Sensibility", 1811; «Гордость и предубеждение» / "Pride and Prejudice", 1813; «Мэнсфилд-парк» I "Mansfield Park", 1814; «Эмма» / "Emma", 1816; «Нортенгерское аббатство» I "Northenger Abbey", 1818; «Доводы рассудка» I "Persuasion", 1818), III. Бронте («Учитель» I "The Professor", 1857; «Джейн Эйр» I "Jane Eyre", 1847; «Шерли» I "Shirley", 1849; «Городок» I "Vil-
lette", 1853), Э. Бронте («Грозовой перевал» / "Wuthering Heights", 1847), Дж. Элиот («Мельница на Флоссе» / "The Mill on the Floss", 1860; «Мидцл-марч» / "Middlemarch", 1872).
Хронологические параметры исследования. В хронологическом плане викторианская эпоха охватывает период с 1837 по 1901 гг. Однако, сам объект исследования побудил несколько расширить эти хронологические рамки к началу XIX в., ибо говорить о викторианском романе, минуя Дж. Остен, было бы ошибочно, поскольку ее творчество сыграло немаловажную роль в формировании «женской» прозы викторианской эпохи, оказав заметное влияние на произведения ее последователей.
Теоретико-методологической основой работы явились принципы сравнительно-исторического литературоведения, получившие обоснование и развитие в трудах крупнейших отечественных ученых (М. П. Алексеева, М. М. Бахтина, В. М. Жирмунского, Д. С. Лихачева и др.). Методологическую значимость для нашего исследования имели работы общетеоретического и частного характера в области литературоведения, принадлежащие ведущим отечественным и зарубежным историкам литературы Великобритании, прежде всего занимающимся литературным процессом XIX в. (А. А. Аникст, Е. Ю. Гениева, А. А. Елистратова, 3. Т. Гражданская, В. В. Ивашева, А. М. Зверев, Н. П. Михальская, М. И. Тугушева, М. В. и Д. М. Урновы и др.), а также труды историков и социологов, непосредственно касающиеся женской проблематики и вопросов феминизма (С. Айвазова, А. А. Белик, Ю. М. Резник, Г. Т. Бокль, Л. Ю. Бондаренко, О. Вейнингер, Г. Виллиам, А. Дэвис, Л. Е. Кертман, Дж. Крэмб, Дж. Р. Сили, А. Л. Мортон и др.).
Положения, выносимые на защиту:
Женская проблематика занимает важнейшее место в английском викторианском романе. Она предстает одной из доминирующих тем в литературе эпохи, что определяется историческими, социокультурными, экономическими и политическими особенностями данного периода.
Поскольку литературные достижения писательниц, интерпретирую-
щих женскую проблематику, достаточно различны, присутствует необходимость в более объективной оценке идейно-эстетических и художественных принципов их творчества.
Освещение женской проблематики писательницами викторианского периода являлось отражением объективной действительности английского общества и, вместе с тем, выражением авторской женской психологии и художественного мышления.
Ключевыми моментами, определяющими характер функционирования, поведенческую мотивацию героинь викторианских романов, являются пуританское, консервативное мировоззрение, с одной стороны, и признание права на существование сильной, независимой, образованной женщины, с другой.
Английские писательницы XIX в. одними из первых воплотили в своих романах идею возможности самореализации героини не только в традиционной сфере семьи, но и за ее пределами, в частности, в общественной, профессиональной, благотворительной и иных сферах.
Теоретическая значимость работы заключается в том, что ее результаты могут послужить основой для дальнейшего изучения процесса эволюции женской темы в английском романе XX столетия.
Практическая значимость работы состоит в том, что материалы диссертационного исследования, его основные положения и выводы, анализ конкретных произведений могут быть использованы при чтении лекционных курсов по истории английской литературы, зарубежной литературы XIX в. в спецкурсах и семинарах, посвященных углубленному изучению викторианского романа, творчеству Дж. Остен, сестер Бронте, Дж. Элиот.
Структура работы. Настоящее исследование состоит из введения, четырех глав, заключения и списка использованных источников, включающего 377 наименований, в том числе 242 на английском языке.
Социальный статус англичанки и специфика женского движения в викторианской Англии
Хотя образ жизни представительниц отдельных социальных слоев существенно различался, в целом британские женщины оставались юридически неполноценными гражданами своей страны: так, их права на наследство и владение имуществом были серьезно ограничены, процедура расторжения брака также предоставляла множество преимуществ мужчинам, в результате чего на протяжении XVIII-XIX вв. парламент удовлетворил иски лишь четырех англичанок, требовавших развода [см.: 208, с. 223]. Наконец, женщины не участвовали в парламентских выборах, в деятельности правительства. Любопытно, что сама королева Виктория была сторонницей подчиненного статуса женщин в семье и противостояла идее наделения последних политическими правами. Так, в 1846 г. в своем журнале она заметила: «Воистину, когда кто-либо настолько счастлив и благословен в своем домашнем кругу, как я, политика может быть только на втором месте» [цит. по: 160, с. 165]. Образ идеальной женщины, заботливой жены и чуткой матери нашел отражение в многочисленной викторианской литературе (весьма показательным примером может служить поэма К. Пэтмора «Ангел в доме»); протестантская этика также настаивала на необходимости ограничения свободы женщины, удел которой — рождение и воспитание детей. В связи с этим в викторианской Англии широко велись дискуссии о женщине и политике, женщине и образовании, женщине и семье (актуальным становился вопрос «воспитания» «организатора совершенного дома и будущей матери крепких и красивых детей» [подробнее см.: 31]) и даже — женщине и спорте. По поводу последнего необходимо отметить, что еще в XVIII в. представительницы различных сословий принимали самое активное участие в спортивных развлечениях, в качестве как зрителей, так и непосредственных участников. Однако уже в конце XVIII столетия ситуация изменилась: женщины почти перестали выходить из дома, спорт же перешел в разряд исключительно мужских занятий, противопоказанных представительницам «слабого пола», которым была отведена роль «полуинвалидов» с весьма ограниченными физическими и интеллектуальными возможностями. В рамках новой идеологии настоящая женщина, хрупкий «ангел в доме», по определению, не могла обладать крепким здоровьем. Еще в 1797 г. Джон Грегори, давая наставления своим дочерям, писал: «Хотя доброе здоровье является одним из величайших жизненных благ, никогда им не хвалитесь, но наслаждайтесь в благодарном молчании», поскольку когда «дама говорит о своей силе, отменном аппетите и способности выдержать серьезные нагрузки», мужчина отступает, потому что он «естественным образом склонен связывать идею женской мягкости и изящества с соответствующей хрупкостью организма» [подробнее см.: 358]. Таким образом, здоровье рассматривалось как нечто вульгарное, недостойное утонченной женской натуры. В данной связи Л. Алябьева констатирует: «Вынужденная пассивность женщины была подтверждена "доказанными" наукой фактами физической и эмоциональной слабости прекрасного пола, состоятельные представительницы которого превратились в идеальных пациенток для целой армии докторов ... . Психофизическая неполноценность женщины стала основанием для формирования своеобразного "медико-коммерческого комплекса" и, как следствие, для рождения огромной индустрии с многочисленными клиниками, санаториями и специализированными курортами, которые были призваны обслуживать зачастую мнимые потребности постоянно растущего потока пациенток» [31, с. 95-96; см. об этом также: 242]. Справедливости ради, отметим, что представительницы аристократических кругов, в отличие от своих современниц из промышленного и коммерческого сословия, принимали более активное участие в общественной жизни, в том числе и в спортивных развлечениях (верховая езда или охота, которыми и ограничивался круг спортивных развлечений для представительниц прекрасного пола - на остальных спортивных мероприятиях женщины могли присутствовать только в качестве зрительниц, правда, и в этом пространстве их передвижения были весьма ограниченными и строго регламентированными). Лишь в 1860-е гг. представительницы среднего класса начали постепенно открывать для себя мир спортивных развлечений. Первым легитимным видом спорта, признанным приличным и безвредным для хрупкого женского организма, стал крокет, для игры в который не требовалось ни физической силы, ни дорогостоящего оборудования, ни специального костюма, кроме того, эта игра открывала новые возможности для контактов между мужчинами и женщинами, которые могли играть вместе в саду или даже внутри помещения. Таким образом, именно крокет выполнил важнейшую социальную функцию, впервые сведя мужчин и женщин среднего класса (которые до этого встречались разве что в бальных комнатах или в театре) на одном поле и в гораздо более неформальной обстановке. В 1875 г. популярность в Англии обретает «ринкомания» (от англ. "rink" - каток), английские барышни ненадолго, но весьма серьезно увлеклись катанием на роликовых коньках [подробнее об этом см.: 302]: «Для их нужд спешно приспосабливались самые разные площадки на открытом воздухе и здания, потому как катались и зимой и летом, при этом основной заботой катавшихся девиц было не столько само упражнение, сколько возможность свести знакомство с представителями противоположного пола» [31, с. 99]. Но вскоре ролики вышли из моды и дамы стали обзаводиться ракетками для игры в теннис, который оказался в эпицентре спортивных интересов женской аудитории. В отличие от большинства видов спорта, теннис всячески поощрялся обществом и с самого начала был признан безвредным для хрупкого женского организма занятием. Теннисный корт (равно как и лужайка для игры в крокет или каток) стал местом встреч мужчин и женщин, мало того, для молодой девушки, находившейся в поисках мужа, участие в теннисной партии могло стать первым шагом на пути к замужеству.
За относительно невинным увлечением теннисом последовали такие силовые командные виды спорта, как крикет, футбол и хоккей, которые требовали от участниц гораздо большей концентрации на игре, физической активности и свободы телодвижений. В отличие от тенниса, женский крикет, который всегда считался исключительно мужской игрой, вызвал крайне негативную реакцию в обществе. Женщины-крикетистки не раз становились предметом насмешек, их обвиняли в мужеподобно сти и грозили необратимыми последствиями здоровью: «Красота лица и фигуры особенно важна для женщины, однако не знающее ограничений увлечение такими жесткими видами спорта, как крикет, езда на велосипеде и .. . хоккей, самым пагубным образом воздействуют на ум и внешность девушки ... . Пускай, соблюдая меру, девушки ездят верхом, катаются на коньках, танцуют и играют в теннис ... , оставив полевые виды спорта тем, для кого они и предназначены, — мужчинам» [цит. по: 242, с. 62-63]. Между тем, дамы не спешили соглашаться с ограничениями и были полны, решимости отстоять крикет, в связи с чем в 1890 г. было основано «Общество первых английских крикетисток» ("Original English Lady Cricketers"), призванное доказать, что крикет служит «подходящим времяпрепровождением для представительниц прекрасного пола» [цит. по: 302, с. 13], точнее, для его юных представительниц, поскольку подавляющее большинство женщин старшего возраста по-прежнему оставалось в стороне от спортивных занятий.
Специфика репрезентации атрибутов «традиционной женственности» в произведениях Дж. Остен
Творчество Джейн Остен (1775-1817), вобравшее в себя просветительские, романтические и реалистические тенденции, явилось центром пересечения различных литературных течений и направлений. Романы Дж. Остен, по сути, стали связующим звеном между творчеством романистов эпохи Просвещения и реалистами XIX столетия. По общепризнанному мнению российских и западных литературоведов, как явление переходное, они обнаруживают тенденцию к освещению не столько движения героя в пространстве и времени, сколько к его характеру, взаимоотношениям с окружающими, к фиксации настроений и чувств [см., например: 58, 148, 168, 263, 310, 322, 361 и др.]. По утверждению одного из крупнейших историков английской литературы Дж. Сэйнтсбери, «Джейн Остен создает новый тип бытового романа, который не повествует ни о чем, кроме обычной жизни, и полагается, главным образом, на художественную презентабельность и трактовку отношений» [цит. по: 350, с. 25].
Искусство писательницы, не только предвосхитившее классические образцы XIX в., но, что особенно показательно для нас, - открывающее «женскую» линию в викторианской литературе и во многом предопределившее основные тенденции развития «женского» романа викторианства с его сугубо специфической тематикой и проблематикой, требует особого разговора. Каждый из романов Дж. Остен («Чувство и чувствительность», 1811; «Гордость и предубеждение», 1813; «Мэнсфилд-парк», 1814; «Эмма», 1816; «Нортенгерское аббатство», 1818; «Доводы рассудка», 1818) состоит из картин семейной жизни героев, принадлежащих к среднему классу; продолжая традиции Ричардсона, Филдинга, Стерна, писательница развивает форму нравоописательного романа, преломляя в конкретных ситуациях повседневности явления, наиболее значимые (мораль, воспитание, пороки и добродетели), уделяя пристальное внимание, прежде всего, женской теме.
J Пожалуй, одно из самых проницательных суждений принадлежит пер вому критику Джейн Остен Вальтеру Скотту, опубликовавшему в 1816 году в «Куортерли ревью» рецензию на роман «Эмма»: «На смену временам, когда от автора романов ждали, чтобы он по большей части ступал между концентрическими кругами правдоподобия и вероятности, с творчеством Джейн Остен явилось искусство воспроизводить мир, каков он в действительности в проявлениях обыденной жизни, и взамен блистательных сцен мира воображаемого представлять читателю изумляющее верностью изображение того, что изо дня в день совершается вокруг него» [цит. по: 58, с. 7].
. " Вслед за В. Скоттом личность, манера письма, литературные вкусы и
пристрастия «несравненной Джейн» стали объектом пристального и тщательного изучения многих поколений литературоведов и критиков. Отсюда - богатейшее собрание исследований, рассматривающих различные аспекты жизни и творчества писательницы.
Современный английский прозаик и литературовед Э. Уилсон придерживается следующего мнения: «Она [Дж. Остен], на мой взгляд, - один из полдюжины величайших английских писателей (остальные - это Шекспир, Мильтон, Свифт, Ките и Диккенс)» [цит. по: 90, с. 34]. Самые великие «вик-торианцы», по убеждению значительного английского литературоведао Ф. Р. Ливиса, — это Джейн Остен, Джордж Элиот, Генри Джеймс и Джозеф
Конрад. В отличие от Д. Сесила, который называет Дж. Элиот первой викторианской романисткой, Ливис подчеркивает значение Дж. Остен и ее бесспорное влияние на трех последующих авторов, упомянутых выше. Подобная точка зрения сближает его с Дж. Сэйнтсбери, который также считал «несравненную Джейн» великой создательницей традиции английской художественной прозы. Однако причины, по которым Ливис видел ее таковой, отличались от причин Сэйнтсбери. По его словам, она была первым писателем, " показавшим «сильное внутреннее напряжение» ("intense moral preoccupation"), выраженное в совершенной форме» [цит по: 350, с. 46]. И, следовательно, как таковая, она стала центральной фигурой в развитии викторианского романа.
Классическими трудами, освещающими жизненный путь Остен являются «Воспоминания о Джейн Остен» [165] и «Джейн Остен. Ее жизнь и письма» [166], авторы которых - Остен Ли - состояли в родстве с писательницей. К ним также можно причислить книгу К. Хилл «Джейн Остен. Ее семья и друзья» [249] и исследование Р. У. Чэпмена «Факты и проблемы» [183]. Среди наиболее известных авторов монографий, также изданных за рубежом, - X. Райт [376], У. Литц [277], У. Крейк [200], Ф. Брэдбрук [173], М. Лэсселз [270], К. Пилгрим [307]. Представляется несправедливым обойти вниманием и других англоязычных писателей и литературных критиков, в то или иное время занимавшихся изучением писательской деятельности Дж. Остен: нельзя не упомянуть такие имена, как Р. Б. Джонсон [258], В. Вулф [374], У. Аллен [152], М. Мадрик [293], А. Кеттл [79], У. Маршалл [282], Ф. Уэлдон [122]. Большое значение для данной главы нашего исследования имели работы П. Бир [168] и Д. Кэплан [263].
В. Вулф, одной из первых заметившая наличие большого подтекста в романах Остен («Она заставляет читателя додумать то, что она недоговаривает» [374, с. 17]), в эссе о писательнице обозначила те моменты, с которыми трудно не согласиться: «Очаровательная и несгибаемая, пользующаяся любовью домашних и внушающая страх чужим, острая на язык и нежная сердцем - эти противоположности вовсе не исключают одна другую, и если обратиться к ее романам, то и там мы наткнемся на такие же противоречия в облике автора. .. . Ни у кого из романистов не было такого точного понимания человеческих ценностей, как у Джейн Остен. На ослепительном фоне ее безошибочного морального чувства, и безупречно хорошего вкуса, и строгих, почти жестких оценок отчетливо, как темные пятна, видны отклонения от доброты, правды и искренности, составляющих самые восхитительные черты английской литературы» [54, с. 859]. В целом, творчество Джейн Остен нельзя отнести к малоизученным страницам истории литературы. Оно представляет значительный интерес и по сей день. Искусство Остен и поныне продолжает быть живой традицией, а ее суждения о романе, произведении, в «котором выражены сильнейшие стороны человеческого ума» и дано «проникновеннейшее знание человеческой природы» [58, с. 13], не потеряли своего значения и в сегодняшних литературных спорах. Так, специальному обзору подлежат зарубежные издания последних лет. Их отличает новый взгляд на личность и произведения писательницы, внимание авторов фокусируется на тех аспектах ее искусства, которые ранее не рассматривались или были недостаточно исследованы. В данном отношении представляется уместным назвать монографии «Джейн Остен и изображение Англии времен регентства» Р. Сейлза [322] и «Джейн Остен и художественная литература ее времени» М. Уолдрон [361]. Создательница последней представляет Дж. Остен как радикального новатора. Автор исследует природу ее противоборства с популярными романистами эпохи и демонстрирует изменения, которые ее вызов привнес в художественную литературу. М. Уолдрон показывает также, что романы Остен служат примером строгого скептицизма в отношении современных ей понятий о надлежащем содержании и цели художественных произведений, что явствует из семейных писем и других источников. Таким образом, определяя ее литературные мотивы и побуждения, эта книга предлагает новый взгляд на ее произведения.
Специфика взаимоотношений мужчины и женщины в романе Э. Бронте «Грозовой перевал»
Не считая возможным, в первую очередь, в силу ограниченности объема нашего диссертационного исследования, подробно анализировать весь пласт научной и научно-критической литературы, касающейся тех или иных аспектов творчества сестер Бронте, наметим, прежде всего, некоторые вехи в рецепции их творческого наследия в российском и зарубежном литературоведении. «Феномен сестер Бронте» (этим термином традиционно принято обозначать творчество писательниц, авторов романов и стихотворений Шарлотту Бронте (1816-1855), Эмили Бронте (1818-1848), Энн Бронте (1820-1849)) - уникальное явление в английской литературе середины XIX века, на что неоднократно указывали российские и западные исследователи [см., например: 33, 52, 62, 88, 129, 168, 188, 212, 275]. В произведениях сестер Бронте получили выражение и последующее развитие характерные особенности литературной эпохи: в них органически сливаются и легко просматриваются линии, соединяющие романтическое искусство начала XIX в. (Байрон, Шелли) с реализмом 1840-х гг. (Диккенс, Теккерей), а также формируются тенденции новых художественных открытий в жанре романа второй половины столетия (Дж. Элиот, Мередит). Сразу оговоримся, что, несмотря на значительность творческих достижений, мы не считаем необходимым рассматривать в контексте женской проблематики творчество Энн Бронте, являвшейся, на наш взгляд, менее заметной (по сравнению с Ш. и Э. Бронте) фигурой литературы эпохи викторианства (ей принадлежат стихи и лишь два романа - «Агнесса Грей», 1847 и «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла», 1848).
Показательно, что уже первая публикация сестер Бронте, бывшая совместной, - сборник «Стихотворения Каррера, Эллиса и Эктона Белл» («Poems by Currer, Ellis and Acton Bell», 1846) - вышла под мужскими псевдонимами, что в контексте викторианской эпохи было весьма примечательно: мужской псевдоним становился неким своеобразным «знаком» радикальных исторических перемен, в результате которых повышался статус женщины и она получала возможность непосредственно участвовать в литературном процессе. И хотя далее творческий путь каждой писательницы был индивидуален, сестры Бронте исследовали в своих романах положение женщины в особой, почти поэтической форме, что выделяет их произведения из прочих викторианских романов, с их вполне традиционным подходом к созданию женских образов.
Еще при жизни сестер их поэтическое и прозаическое наследие явилось предметом обсуждения в английских литературно-критических работах, наиболее же пристальный интерес в середине XIX в. вызывал писательский опыт Ш. Бронте, в силу достаточно широкой ее известности в литературных кругах, о чем свидетельствует, в частности, биографическая книга Э. Гаскелл, «Жизнь Шарлотты Бронте», опубликованная через два года после смерти писательницы [см.: 228]. Э. Гаскелл немало общалась и переписывалась с ней, в ее распоряжении была деловая и семейная корреспонденция Ш. Бронте, поэтому ее работа - источник важнейших сведений не только о жизни сестер, но и о восприятии их романов критикой и писательской средой (У. М. Текке-реем, Дж. Г. Льюисом, Г. Мартино, отклики ведущих журналов «Антениум», «Экзэминер», «Этлас» и т. д.). Как справедливо отмечает Р. Сэлмон, в биографических и автобиографических трудах XIX столетия, написанных о женщинах-романистках или же созданных женщинами, достаточно расхожим являлось представление о связи между личностью автора и домашней сферой [подробнее см.: 350, с. 146]. Так, Ч. Диккенс считал уход мужчины-писателя в домашнюю сферу «разрушающим элементом» для его авторской индивидуальности, влекущим за собой разделение личной и общественной сфер, между которыми успешный романист находит баланс. Традиционная для викторианской эпохи репрезентация женского авторства представляет собой радикальный раскол между этими противоположными сферами; наиболее известный же пример развития подобного «сценария» как раз и представлен в книге
Э. Гаскелл: «С этого времени существование Шарлотты Бронте становится разделенным на два параллельных течения: ее жизнь Каррер Белл — автора и ее жизнь Шарлотты Бронте - женщины. Для каждого образа существовали отдельные обязанности, не противоречащие друг другу однако с трудом сопоставимые. Когда мужчина становится писателем, для него, вероятно, это лишь смена деятельности. Он берет часть того времени, которое до сих пор было посвящено какому-нибудь другому предмету или занятию. Он бросает нечто вроде профессии юриста или врача, с помощью которой до сих пор служил другим людям, или же частично отказывается от торговли, бизнеса, с помощью которых он зарабатывал на жизнь. В этих случаях еще один торговец, или юрист, или доктор занимает освободившееся место и, вероятно, выполняет работу так же хорошо, как и тот, кто был до него. Но никто другой не может взять на себя скромные, ежедневные обязанности дочери, жены или матери кроме женщины, который Бог предназначил занять определенное место. Главная работа в жизни женщины едва ли зависит от ее выбора; она не может оставить домашние обязанности, возложенные на нее как на личность, ради того, чтобы найти применение самым ярким способностям, которыми она была одарена» [228, с. 231]. Представители литературных кругов викторианской Англии, придерживающиеся весьма различных позиций относительно роли и места женщины в социуме, и возможности ее творческой реализации, тем не менее, отчетливо осознавали, что именно в произведениях сестер Бронте «женский» роман стал особым способом самораскрытия личности. В XIX в. произведения сестер Бронте привлекли внимание Дж. Элиот, М. Арнольда, У. Батлера, Э. Троллопа. Особый интерес к романам Бронте проявили прерафаэлиты Д. Г. Россетти, Ч. А. Суинберн, У. Пейтер, для которых наиболее ценными в прозе писательниц оказывалось их романтическое восприятие и весьма специфическая образность поэтики [подробнее см.: 228]. На рубеже XIX-XX вв. усиливается интерес к творчеству Эмили Бронте, недооцененной при жизни: эстетизация страдания, элементы мистицизма, подчеркнутый индивидуализм, представленные в «Грозовом перевале», оказываются родственными художественным исканиям символистов (примечательно, что немаловажное место в собственных критических работах ей уделил М. Метерлинк [подробнее см.: 85]), причем роман Эмили Бронте, «не имеющий ничего общего с литературой своей эпохи» [89, с. 214], стал восприниматься как роман-пророчество, сама же писательница удостаивается причисления к «великой традиции» английского классического романа.
В начале XX столетия, в связи с появлением огромного количества работ, посвященных семье Бронте, вполне оправданно возникает термин "Bronte-land" (У. Тернер), к середине прошлого века складывается целая индустрия «бронтоведения» (Дж. Хьюиш) - пласт научной и научно-критической литературы, посвященной исследованию биографических подробностей и художественного наследия сестер Бронте. Весьма показательным представляется нам исследование художественного своеобразия романа «Грозовой перевал» в контексте проблемы «литература и зло» достаточно заметной фигурой французского литературного бомонда первой половины XX в., критиком, философом и искусствоведом Ж. Батаем, который, не ограничиваясь привычными рамками морали, предпринимает попытку осмысления не только творчества писательницы, но и сущности оппозиции Добро/Зло. Исследователь дает собственное объяснение возникновению весьма необычного в контексте викторианской эпохи романа «Грозовой перевал»: «От прочих женщин Эмили Бронтэ отличалась, видимо, тем, что на ней лежало особое проклятье. Нельзя сказать, что ее короткая жизнь была так уж несчастна. Однако, сохранив моральную чистоту, она спустилась на самое дно бездны Зла. Мало кто мог бы сравниться с ней в стойкости, отваге и прямоте. В познании зла она дошла до самого конца. ... Несмотря на то, что Эмили Бронтэ была красива, она, по всей видимости, ни разу не изведала любви, и то, что она знала о страсти, тревожило ее: в представлении Эмили любовь была связана не только с ясностью, но и с жестокостью и смертью, так как, наверное, в смерти — истина любви. Так же как в любви - истина смерти» [37, с. 17-18]. Будучи человеком религиозным, отмечает Ж. Батай, писательница, тем не менее, разворачивает повествование в противоречии со сложившейся христианской моралью. Вопросы вины, наказания, спасения рассматриваются автором очень своеобразно, так как она выдвигает концепцию личностного волевого решения, христианские постулаты не являются исходным моментом в поступках персонажей, противоположные понятия звучат почти синонимично. Категории добра и зла, нравственности и безнравственности теряют свою значимость перед союзом главных героев романа - Кэтрин и Хитклифа.