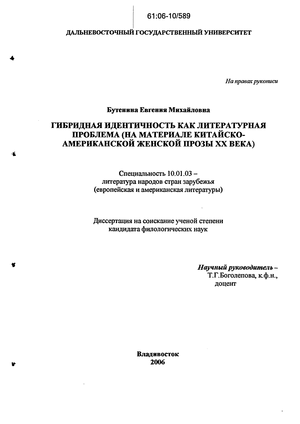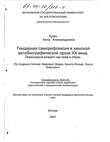Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Репрезентация темы китайской иммиграции в литературе американского мейнстрима конца XDC — начала XX веков 32
Глава 2. Зарождение китайско-американской литературы и становление проблемы гибридной идентичности. Рассказы Эдит Итон 52
Глава 3. Проблемно-тематический аспект отражения гибридного сознания в китайско-американской женской прозе второй половины XX века
3.1 Внешние приметы поиска: соединение элементов бытовой культуры Китая и Америки 67
3.2 Стремление к «внутреннему синтезу» как способ преодоления фрагментарности сознания 83
3.3 Сфера бытования пограничного «я»: пространственные метафоры как отражение китайско-американского культурного опыта 104
Глава 4. Особенности воплощения пограничного сознания в художественной структуре китайско-американской женской прозы
4.1 Принцип инь-ян как основа гибридной ментальности сино-американца 121
4.2 Жанровый синтез как способ моделирования гибридности: традиции американской автобиографии и китайского устного сказа в китайско-американской прозе 154
Заключение 173
Библиография 177
Приложение. Интервью, данное М. Хонг Кингстон автору работы 200
- Репрезентация темы китайской иммиграции в литературе американского мейнстрима конца XDC — начала XX веков
- Зарождение китайско-американской литературы и становление проблемы гибридной идентичности. Рассказы Эдит Итон
- Внешние приметы поиска: соединение элементов бытовой культуры Китая и Америки
Введение к работе
В современной культуре все большую значимость приобретают мультикультурные явления, что обусловило в последние десятилетия активизацию их осмысления отечественными и зарубежными гуманитариями. Особенно актуально это стремление для американистов, поскольку в сегодняшней американской литературе формируется «дискурс культурного многообразия»: смена «американо-центристской» культурной модели, представленной ядром (мейнстримом) и пограничьем, на плюралистичную, в которой прежние «литературы пограничья» («маргинальные литературы») играют одну из наиболее важных ролей [Тлостанова, 2000: 3-4]. С 1970-х годов в этом процессе активно принимает участие азиато-американская литература
Одной из ключевых проблем литературоведения эпохи мультикультурализма становится изучение гибридной идентичности. Настоящее исследование посвящено проблеме репрезентации гибридной идентичности в китайско-американской художественной литературе. Выбор темы обусловлен актуальностью вопросов мультикультурализма и гибридности в современных гуманитарных науках в целом и в литературоведении в частности. Кроме того, тема работы вписывается в межкультурный исследовательский проект Института иностранных языков ДВГУ по изучению гибридных языковых образований как следствия взаимопроникновения культур Востока и Запада. Материалом исследования является китайско-американская женская проза в период с 1912 по 2000-е годы, главным образом, произведения пяти наиболее значительных китайско-американских писательниц: Эдит Мод Итон (Edith Maude Eaton), Дайаны Чанг (Diana Chang), Максин Хонг Кингстон (Maxine Hong Kingston), Эми Тан (Amy Tan) и Гиш Джен (Gish Jen)1.
1 В отечественной американистике пока не установилось единообразия при передаче имен китайско-американских писателей и исследователей на русский язык. Некоторые синологи руководствуются правилами китайской фонетической традиции: С.Г.Коровина, например, фамилию «Tan» передает как «Тань», объясняя свое решение тем, что «китайское происхождение играет важную роль в жизни американского автора» [Коровина, 2002: 3]. В то же время, передавая другие имена, в частности Максин
4 Следует оговориться, что избранный материал в качестве предмета
исследования не предполагает специфичности китайско-американского жхнского письма, в первую очередь потому, что, как будет показано ниже, тендерный аспект интересующего нас литературного материала в наибольшей степени разработан. Наше обращение к женской прозе обусловлено тем, что именно китайско-американские писательницы изображали и мужской, и женский иммигрантский опыт. В мужской китайско-американской традиции, конечно, тоже можно выделить яркие имена, например, Луи Чу (Louis Chu), автора сатирического романа «Вкуси чашу чая» {Eat a Bowl of Tea, 1961), и особенно драматургов Фрэнка Чина и Дэвида Генри Хванга (David Henry Hwang). Однако в современном азиато-американоведении широко принято мнение, сформулированное китайско-американским литературоведом и поэтессой Эми Линг: в китайско-американской литературной традиции «женщины не только численно превосходят мужчин», но их книги «подлиннее, гармоничнее и просто -лучше» [Ling, 1991: xii]. Поскольку зарождение китайско-американской женской прозы приходится на период активного суфражистского движения (конец Х1Х-начало XX века), а расцвет - на десятилетия, последовавшие за укреплением позиций феминизма (1970-1990-е годы), вполне вероятно, что женские голоса, вырвавшиеся из-под двойного гнета - патриархального уклада азиатской культуры и расизма «белого» американского социума, -действительно оказались сильнее и звонче мужских. Таким образом, материал произведений Эдит Мод Итон, Дайаны Чанг, Максин Хонг Кингстон, Эми Тан и Гиш Джен не создает тендерную ассиметрию при анализе гибридной этнической идентичности. Хочется также привести слова известного украинского американиста Т.Н.Денисовой об универсальности
Хонг Кингстон и Фрэнка Чина (Frank Chin), исследовательница транслитерирует их как английские слова, опираясь на практику работ по этническим литературам США, написанных ранее, в частности, труды А-В.Взщенко и М.В.Тлостановой. Имена Максин Хонг Кингстон и Фрэнка Чина часто встречаются в российских исследованиях именно в таком написании, журнал «Иностранная литература» представил читателям китайско-американскую писательницу Эми Тан. Представляется логичным в данной работе пользоваться только транслитерацией в соответствии с правилами английского языка при передаче имен сино-американцев. При первом упоминании в скобках будет даваться английский вариант написания имени.
5 женского взгляда на мир: «Интерес к женщине ведет к максимальному
познанию реальности, ибо если жизнь слагается из «паутины бьгга», то женщина во всех смыслах матрица этой паутины. А из-за паутины быта, или, точнее, из паутины быта, вырастают общечеловеческие проблемы» [Денисова, 1996: 380].
Признание значительности творчества перечисленных китайско-американских писательниц в американском литературоведении и все возрастающее внимание к ним в отечественном также подтверждают актуальность настоящего исследования. Кроме того, в американском литературоведении отмечается «ренессанс азиато-американской литературы в последние десятилетия» и в то же время «меньшее количество критических работ, чем по любой другой этнической литературе США» на начало 1990-х [Peck, 1992:176].
Цель работы - выявление способов репрезентации гибридного сознания в художественном тексте. Реализации поставленной цели послужит решение следующих задач:
- выявление степени изученности проблемы гибридной идентичности
на основе обзора литературоведческих исследований по азиато-американской
литературе;
- изучение истоков китайской темы в «белой» американской
литературе (на материале произведений Френсиса Брега Гарта, Марка Твена,
Джека Лондона) и ее развитие в творчестве Перл Бак для обозначения социо
культурного контекста, в котором зарождалась китайско-американская
литературная традиция и формировалась проблема этнического
самосознания;
рассмотрение генезиса китайско-американской женской прозы и проблемы гибридной идентичности в творчестве Эдит Мод Итон;
исследование темы поиска идентичности в китайско-американской женской прозе второй половины XX века (Дайана Чанг, Максин Хонг
6 Кингстон, Эми Тан и Гиш Джен) на различных уровнях текста: проблемно-тематическом, жанровом, стилевом.
Методологической основой исследования стала концепция о современной идентичности как «текучей» и «гибридной», сформулированная, в частности, в работах Стюарта Холла и Хоми Бабы. Стюарт Холл в статье «Вопрос культурной идентичности» (Question of Cultural Identity) выражает мнение, что культурную идентичность следует искать в диалогических отношениях между непрерывностью истории и ее постоянным изломами. В то время как прерывистость истории и противоречивость идентичности - неизбежные спутники постоянных общественных трансформаций, взгляд на историю как на прямую непрерывную линию дает людям чувство идентичности и принадлежности своей культуре. В эпоху глобализации отличительными чертами идентичности становятся динамизм и нестабильность. С одной стороны, это дает возможность выбора среди широкого круга идентичностей, обретения сугубо индивидуального «я», а не искусственно навязанного традицией. С другой стороны, утрата четкого чувства идентичности приводит к ее фрагментации. Поэтому британский культуролог подчеркивает, что нужно говорить не об идентичности как о чем-то законченном, а об идентификации, рассматривая ее как постоянный процесс [Question of Cultural Identity, 1996: 119-125].
В центре теории крупнейшего постколониального критика Хоми Бабы лежит идея культурной гибридности, порождающей «внедомность», в которой существует современный индивид [Bhabha, 1995: 212-217]. В работе «Местоположение культуры» {The Location of Culture, 1995) Хоми Баба утверждает, что мировую литературу необходимо рассматривать через призму таких всеобщих тем, как историческая травма, рабство, геноцид, изгнание, потеря культурной идентичности. При этом «культурная инакость» проявляется в «смешанном и расколотом гибридном тексте» [Bhabha, 1995: 85].
Литературоведческий анализ проводился с применением культурно-исторического, компаративного, герменевтического методов. Труды М.М. Бахтина, Д. Дюришина, Ю.Б. Борева выступают теоретико-методологической основой работы. В теории ММ Бахтина для данного исследования наиболее важна мысль о гибридизации текста при столкновении различных культурных языков. В работе «Из предыстории романного слова» ММ Бахтин отмечал, что «всякий намеренный стилистический гибрид в известной мере диалогизирован. Это значит, что скрестившиеся в нем языки относятся друг к другу как реплики диалога; это спор языков, спор языковых стилей» [Бахтин, 1975: 439]. В исследовании «Слово в романе» ученый выражает мысль, что «часто даже одно и то же слово принадлежит двум языкам, двум кругозорам, скрещивающимся в гибридной конструкции, и, следовательно, имеет два смысла, два акцента» [Бахтин, 1975:118].
Для анализа внедрения инокультурного материала в англоязычный художественный текст применялись положения «Теории сравнительного изучения литературы» Диониза Дюришина о способах выявления текстуальных связей и адаптации «чужого стиля» [Дюришин, 1979:153-159]. Существенно и замечание Дюришина о принципиальной полигенетичности литературных явлений, часто восходящих одновременно ко множеству разных источников [Дюришин, 1979: 117-118].
Ю.Б. Борев обобщает методологические возможности герменевтики, выделяя ряд операций истолкования художественного текста, из которых для задач настоящей работы особенно значима операция включения в процесс понимания «третьего элемента». Первый элемент - это личность читателя, второй - авторский текст, а третий отличает принципиальная многоаспектность: это может быть и социальная действительность, породившая текст (социальный анализ), и аналогичные художественные тексты (сравнительный анализ), и другие факторы культуры (историко-культурный анализ), и личность автора (биографический анализ). «Третий элемент» для герменевтики, делает вывод Ю.Б.Борев, - «это то, что роднит
8 первый и второй элементы» [Борев, 1988: 439-440]. Применение
герменевтического метода, таким образом, приближает к комплексному
анализу текста
Новизна нашей работы состоит в исследовании проблемы
репрезентации гибридной идентичности в художественном тексте на
материале развития китайско-американской женской прозы от ее зарождения
до последних десятилетий.
Научно-практическая значимость исследования видится нам в возможности включения материалов диссертации в курсы по литературе США XX века, подготовки монографии и спецкурса по азиато-американской литературе для студентов-филологов Института иностранных языков ДВГУ. Основу спецкурса составят произведения китайско-американских писательниц, исследуемые в диссертации.
Апробация основных положений работы осуществлена в докладах на международных научных конференциях ОИКС в Москве и ДВГУ во Владивостоке, а также на семинаре в Калифорнийском государственном университете города Фресно, и в одиннадцати публикациях.
Осмыслению феномена гибридной (пограничной) идентичности посвящены многие литературоведческие исследования последних десятилетий. Как отмечает М.В.Тлостанова, к числу первых попыток в этом направлении относится книга мексикано-американской писательницы и критика Глории Ансальдуа «Пограничье/фронтир: новая метиска» {Borderlands/La Frontera: The New Mestiza, 1987). Ансальдуа так описывает своих героев-маргиналов: «люди с раскосыми глазами, странные, неугомонные, безродные «дворняжки», мулаты и метисы, полукровки и полумертвые...». Сфера их бытования - культурное пограничье, «неопределенное и расплывчатое место, возникающее в результате
9 эмоциональной реакции на неестественную, навязанную кем-то границу»
[Цит. по Тлостанова, 2000:217J.
He-географический характер пространства культурного фронтира подчеркивает концепция существования в современном мировом сообществе «трансграничных культурных ареалов», что, по мнению социолога И. В. Семененко, «порождает новые формы гибридной культурной идентичности, уже не привязанные к определенной территории» [Семененко, 2003: 7]. Работы последних десятилетий, посвященные проблеме идентичности, подтверждают такую концепцию. Исследователей интересует изучение коллективной (общинной) идентичности с приставкой «транс-»: транснациональной, объединяющей представителей одной диаспоры из разных регионов США [Chow, 1998], или трансэтнической, включающей различные этнические группы [Chandra, 2001; Mardberg, 1998; Suzuki-Martinez, 1996]. Творчество китайско-американских писательниц, чаще всего Максин Хонг Кингстон и Эми Тан, включается в контекст исследований обоих направлений. Так, Карен Чоу прослеживает трансформацию азиато-американской идентичности от моноэтнической в транснациональную, опираясь на произведения ЇСингстон и Тошио Мори. Гити Чандра сосредоточивает внимание на «жанре нашего времени» - «нарративах насилия и коллективных идентичностей» Тони Моррисон, Эми Тан, Максин Хонг ЇСингстон.
В нашей стране проблема национальной идентичности активно изучается на базе Воронежского государственного университета С конца 1990-х в Воронеже ежегодно проводятся конференции или школы-семинары, посвященные этой тематике: «Проблема национальной идентичности в культуре и образовании России и Запада» (2000), «Проблемы национальной идентичности и межкультурной коммуникации» (2001), «Взаимопонимание в диалоге культур: условия успешности» (2004). Исследователи сосредоточивают свое внимание на изучении национальных характеров, сопоставлении их, выявлении маркеров идентичности. Вопрос бикультурной
10 личности подробно освещает М.КПопова в монографии «Национальная
идентичность и ее отражение в художественном сознании» (2004). Исследовательница рассматривает проблему национальной идентичности в широком контексте, начиная с момента становления этнико-культурного сознания в средневековой (английской) литературе и выявляя образ инокультурного «другого» еще в исторических хрониках Шекспира Гибридную идентичность современного американца этнического происхождения МХПопова анализирует на примере творчества афро-американского поэта и прозаика ЛХьюза и индейско-американской писательницы Л.М. Силко. Исследовательница приходит к выводу, что афро-американская идентичность для Хыоза включает в себя «этнокультурную составляющую, нередко выраженную через образ негра в ночных гарлемских кабаре», а также «социально-политический компонент, понимание афро-американцев как униженной и бесправной части американского населения». При этом через блюзовую форму стихов Л.Хьюз передает, как эти элементы тесно переплетаются друг с другом и составляют сущность афро-американской идентичности [Попова, 2004: 87]. Мировосприятие и своеобразие характера коренного населения Америки МХПопова рассматривает в романе Л.М. Силко «Ритуал», в котором репрезентация этнической идентичности происходит через оппозицию «свой/чужой». Интересно наблюдение исследовательницы о том, что только мексикано-индейцу Бетони удается провести героя романа - еще одного мексикано-индейского «полукровку», Тайо, - через целительный индейский ритуал. Бетони объясняет действенность своего ритуала тем, что он его модифицировал. В этом, по мнению М.КПоповой, состоит ключевая идея Л.М.Силко: «Индейцы, сохраняя верность своим культурным ценностям, должны отказаться от слепого, догматического следования традициям. Не нужно бояться нового, надо быть открытым для мира...» [Попова, 2004: 122]. Мысль Силко о том, что сложное переплетение этнических составляющих в идентичности иногда порождает большую гармоничность в
и ней, окажется созвучной размышлениям китайско-американских
писательниц второй половины XX века, о чем пойдет речах в главах.
Большое внимание вопросу пограничной идентичности уделяет М.В. Тлостанова в работе «Проблема мультикультурализма и литература США конца XX века» (2000). Исследовательница стремится «оценить новую мультикультурную парадигму, а также связанный с ней дискурс «культурного многообразия», которые складываются в США в последние два-три десятилетия, с точки зрения их влияния на литературный процесс и эволюцию национальной традиции» [Тлостанова, 2000: 3]. М.В.Тлостанова предлагает интересный взгляд на национальную американскую идентичность. По ее мнению, американская идентичность формировалась «как бы во многом от противного, обретала очертания в определениях того, что не было американским, что было чужим для «воображаемой» культуры-идеала... и, стало, должно было быть из нее исключенным» [Тлостанова, 2000:33].
Мотив «отрицания идентичности» или ее определения от противного характерен и для многих писателей пограничья. Пограничной идентичности свойственна фрагментарность, которую еврейско-американская поэтесса Адриана Рич охарактеризовала яркой метафорой «рассечения от самых корней». М.В. Тлостанова обращает внимание на то, что и А. Рич, и некоторым другим представителям пограничья - О. Лорд, Г. Ансальдуа, М. Филипу - близка идея «рассечения», «связываемого с органическими метафорами роста, вырывания корней из почвы, пересаживания», в отличие от «общепостмодернистского», «углубленного в личностном смысле психического «расщепления» [Тлостанова, 2000: 371]. Так истолкованная метафора рассечения, несомненно, несет в себе плодотворное начало, ибо органическая природа оставляет надежду на возможность срастания и исцеления.
Для исследователей пограничных литератур важнейшее значение приобретают принципы репрезентации гибридной идентичности в
12 художественных текстах. Грегори Джей в книге, посвященной анализу роли
и места современной американской литературы в культурных войнах
последних десятилетий, заметил: «Литература - прекрасная сфера для
практической проверки идеалов и противоречий репрезентации, потому что
она занята главным образом изучением и пересозданием идентичностей и
различных возможностей самовыражения. Не случайно поэтому
репрезентация стала ключевым понятием едва ли не всей литературной
критики, начиная с 60-х годов» [Цит. по Тлостанова, 2000:196].
До последнего времени в научной мысли, как зарубежной, так и отечественной, было принято выделять две основные модели репрезентации: «западную», основанную на индивидуализме, и «незападную», связанную с групповым сознанием. Современный мультикультурный подход открыл, что возможны различные промежуточные образования, пограничные феномены, гибриды, которые, очевидно, и являются наиболее характерными для сегодняшней культурной ситуации.
«Мультикультурные персоны» (если воспользоваться термином
американского искусствоведа Роберта Хьюза), принадлежащие той или иной
этнической группе США, белым большинством автоматически относились к
«незападной» репрезентативной модели, ассоциируемой исключительно с
коллективным мышлением. Поэтому этническим писателям в понятии
идентичности необходимо было, с одной стороны, акцентировать
личностное начало, а с другой, - отобразить групповой культурный опыт. Герой литературы пограничья, таким образом, соединяет в себе общинное и индивидуальное сознание и испытывает настоятельное стремление осмыслить все пласты своей фрагментарной идентичности.
Одной из важнейших жанровых форм литератур пограничья, как и литературы США в целом, является автобиография. Автобиография пограничья часто представляет собой «критико-художественный гибрид литературоведческого эссе, философского трактата, публицистики и исповеди», и при этом исповедальный элемент часто превалирует, поскольку
13 «одной из не всегда явных задач автобиографии «маргинала» является
попытка заявить о себе... выработать, «наговорить», раскрыть свою
американскую идентичность» [Тлостанова, 2000: 208-209].
Исследовательница приходит к выводу, что «пограничное художественное сознание есть средоточие множества текучих идентичностей, не равный себе «трикстер», жонглирующий культурами не только поневоле, но нередко и по собственному выбору». Поэтому и литература пограничья характеризуется «жанровой и стилевой гибридностью, мультиязыковостью, в результате чего создается просторный, открытый, неправильный текст» [Тлостанова, 2000: 352].
В азиато-американском литературоведении и критике проблеме гибридной идентичности и способам ее отражения в тексте также уделяется большое внимание. Становление азиато-американоведения как отдельной области гуманитарного знания, представленной литературоведческими, этнографическими, социологическими исследованиями, датируют концом 1960-х годов - периодом расцвета борьбы за гражданские права и равноправие всех этнических групп американского социума [An Interethnic Companion, 1997: 1]. Естественным началом открытия азиато-американских писателей стало составление и издание антологий. В 1970-е годы было вьпгущено три наиболее важные и известные антологии азиато-американской литературы, считающиеся уже классическими. Редакторами первой, «Азиато-американские писатели» {Asian-American Authors, 1972), были специалист по китайской литературе и философии, преподаватель мировой литературы государственного колледжа Сан-Франциско Кай-ю Хсю (Kai-yu Hsu) и Хелен Палубинскас (Helen Palubinskas), учительница английского языка в школах для иммигрантов из Азии. По мнению критика азиато-американской литературы С.Э. Солберга, эта антология, хотя и «имела форму школьного учебника по социологии», повлекла за собой издание многих других сборников и, что более важно, вдохновила целое поколение азиато-американских писателей на создание новых произведений. Поэтому 1972 год
Солберг считает началом азиато-американского литературоведения как официальной дисциплины [The Asian Pacific Heritage, 1999: 413]. В свою антологию они включили произведения писателей китайского, японского и филиппинского происхождения как наиболее показательные для азиато-американской литературы того периода. Во вступительной статье составители подчеркивали существование двух совершенно различных миров, созданных азиато-американскими авторами: один, представленный, например, в автобиографии сино-американки Вирджинии Ли (Virginia Lee) «Дом, который построил Тай Минг» {The House That Tai Ming Built, 1963) или романах японо-американца Тошио Мори (Toshio Mori) - это «Азия, увековеченная белыми в устаревших школьных учебниках». Другой мир -это мир драматурга Фрэнка Чина или японо-американского поэта Лосона Фусао Инада (Lawson Fusao Inada), «ненавидевших слово «ассимиляция» и потому в полной мере испытавших кризис идентичности» [Asian American Authors, 1972:4-6].
В 1974 году Фрэнк Чин и Лосона Инада вместе с Джеффри Полом Чаном (Jeffery Paul Chan) и Шоном Вангом (Shawn Wang) издали свою антологию - «Айййиииии! Антология азиато-американских писателей» (Aiiieeeee! An Anthology of Asian-American Writers, 1974). Несколько позже редакторы этого сборника составили ядро группы «Проект объединенных азиатских ресурсов» (Combined Asian Resources Project - CARP), члены которой активно пропагандировали изучение азиато-американской литературы [Huntley, 1998: 27]. Как и Кай-ю Хсу и Хелен Палубинскас, в свой первый сборник они включили краткие сведения об авторах китайского, японского, филиппинского происхождения и отрывки из их произведений, а второй, изданный почти двумя десятилетиями позже, - «Большой айййиииии! Антология китайско-американской и японо-американской литературы» (Jhe Big Aiiieeeee! An Anthology of Chinese American and Japanese American Literature, 1991) - ограничили авторами китайского и японского происхождения. Этот подход отражает реальную картину развития
15 азиато-американской литературы, которая, «вследствие американской
политической и демографической истории», до настоящего времени остается
главным образом «китайско-американской и, в меньшей степени, японо- и
филиппино-американской»2 [The Asian Pacific Heritage, 1999: xxv].
В предисловии к своей первой антологии редакторы декларировали
отличие творчества азиато-американских писателей от творчества белых
американцев, «насаждавших белую культуру и изображавших желтого
мужчину скулящим и вопящим «айййиииии!». «Вот его «Айййиииии!» -
много лет подавляемый вопль», - заявляли авторы сборника [Ашеееее, 1974:
viii]. Несмотря на спорность многих заявлений «группы», или «школы
Айййииии!», как их называют в американской критике, и субъективность в
отборе текстов, их предисловие определяется как «манифест», а труд - как
«веха» в истории азиато-американской литературы [An Interethnic
Companion, 1997:40].
С начала 1990-х и по 2000 год включительно было издано немало антологий помимо «Большого айййиииии!», например, «Взрослеющий азиато-американец» (Growing Up Asian American, 1993) и «Азиато-американская литература. Антология» (Asian American Literature. An Anthology, 2000) под редакцией Марии Хонг и Шерли Джеок-Линг Лим соответственно, а также «Азиато-американская литература. Краткое введение и антология» (Asian American Literature. A Brief Introduction and Anthology, 1996) бывшего участника «Айййиииии!» Шона Вонга. В отличие от ранних антологий, располагавших авторов в зависимости от этнического происхождения (Кай-ю Хсу и Хелен Палубинскас) или просто по алфавиту (группа «Айййиииии!»), антологии 1990-х придерживаются тематической классификации, при этом их этнический спектр гораздо шире и охватывает многих американских писателей родом из стран Юго-Восточной Азии. Писатели этой группы, которая включает выходцев из Бирмы, Таиланда, Лаоса, Камбоджи, Вьетнама, Малайзии, Индонезии, набирают все большую силу в последние годы, о чем свидетельствует, в частности, антология с красноречивым названием «Наклоняя континент. Азиато-американская юго-восточная литература» (Tilting the Continent Southeast Asian American Writing, 2000). Ее редакторы Шерли Джеок-Лин Лим и Ченг Лок Чуа полагают, что произведения писателей родом из Юго-Восточной Азии «наклоняют» и азкато-американскую литературу, и американскую литературу мейнстрима в новом, другом направлении [Tilting the Continent, 2000: хіх]. Об интересе к этому явлению читающей общественности свидетельствует занятое данной антологией седьмое место в списке бестселлеров газеты «Лос-Анджелес Тайме» от 12 ноября 2000 года.
В конце 1980-х - 1990-х годах стали публиковаться антологии азиато-американской женской литературы. К наиболее значительным относятся антологии произведений писательниц корейского и индийского происхождения «Запретные строки: Азиато-американская женская антология» (The Forbidden Stitch: An Asian American Woman's Anthology, 1989) под редакцией Шерли Джеок-Лин Лим и Маюми Цутакава и «Обретенный дом: Азиато-американская женская литература» (Ноте to Stay: Asian American Women's Fiction, 1990) под редакцией Сильвии Ватанабе и Кэрол Бручах. Две известные антологии были изданы благодаря усилиям Объединения азиатских женщин Калифорнии (Asian Women United of California) - «Создавая волны: Антология произведений, написанных азиато-американскими женщинами и посвященных им» (Making Waves: An Anthology of Writings by and about Asian American Women, 1989) и «Создавая больше волн: Произведения азиато-американских женщин» (Making More Waves: Writings by Asian American Women, 1997). Последние сборники представили большее разнообразие жанров - мемуары, эссе, этнографические очерки - и писательниц различного, в том числе смешанного, происхождения. Перечисленные антологии не рассматриваются подробно, поскольку их составители не делали основной акцентна анализе феномена азиато-американской идентичности, составляющем предмет данного обзора.
Одним из ключевых положений этого манифеста, сохранившихся и во втором издании, является обвинение в адрес азиато-американских писателей в стремлении удовлетворять запросы белых читателей. Применительно к авторам китайского происхождения оно выражается в «подчиненности христианскому видению Китая как страны без истории и философии», вследствие чего «Китай и китайская Америка в их произведениях - продукты белого расистского воображения, а не китайская культура, не китайская или китайско-американская литература» [The Big Aiieeee, 1991: xi-xii]. Особенно резким обвинениям подвергались известные китайско-американские писательницы Максин Хонг Кингстон, Эми Тан и драматург Дэвид Генри Хванг.
В своем манифесте группа «Айййиииии!» впервые подвергает осмыслению феномен идентичности азиато-американца Члены группы отвергают понятие «двойственной личности», «перехода из одной культуры в другую» и провозглашают существование некоей особой «чувствительности» - не азиатской и не «бело-американской» - как основной черты азиато-американской идентичности [АШеееее, 1974: \и]. При этом «расовое единство» азиато-американцев они полагали само собой разумеющимся и считали объединяющей характеристикой азиато-американской идентичности «групповое исключение» из американского социума [Ашеееее, 1974: xxi]. Группе «Айййиииии!» свойственны и эпатажные утверждения. Так, Фрэнк Чин заявлял: «Я не китаец и не американец, я - китаеза» [Ашеееее, 1974: х].
Лидер группы «Айййиииии!» Фрэнк Чин составляет резкую оппозицию азиато-американской «женской» литературе и критике, представительницы которой, в свою очередь, определяют его взгляды и стиль как «агрессивно маскулиннные» [Ling, 1990: 149; Lee, 1999: 69]. Сегодня убеждения группы «Айййиииии!» многие критики считают «устаревшим культурным национализмом» или «пуристской школой», противопоставляя им «плюралистичную перспективу», предлагающую «множественное сознание,
17 и не шизофреническое, и не разделяемое на Восток и Запад, а просто
сохраняющее культуру предков и не растворяющееся в мейнстриме»
[Gonzalez, 2001: 225-228].
Первой критической работой, обрисовывающей панораму азиато-американской литературы и объединяющей под этим термином произведения писателей китайского, японского, филиппинского и корейского происхождения, является книга Элейн Ким (Elaine Kim) «Азиато-американская литература. Введение в произведения и их социальный контекст» (Asian American Literature. An Introduction to the Writings and their Social Context, 1982), уже признанная классической [An Interethnic Companion, 1997: 15]. Элейн Ким, как свидетельствует заглавие ее исследования, концентрирует свое внимание на взаимодействии литературных произведений и социальной обстановки в период их создания. Исследовательница утверждала существование «унитарной азиато-американской идентичности», полагая, что такой подход является «единственным эффективным способом сопротивления и самозащиты от маргинализации» [Kim, 1982: xi-xii].
Подобно группе «Айййииии», Элейн Ким утверждала некую единую, коллективную азиато-американскую идентичность, что было понятно и органично для конца 1970-х - начала 1980-х годов. Азиато-американская субкультура впервые могла заявить о себе как о новом явлении, и ее представителям необходимо было четко обозначить ее отличия от других этнических субкультур США и признаки, объединяющие иммигрантов из разных стран Азии. Уже в 1990-е годы представления об «унитарной» азиато-американской идентичности подвергаются переосмыслению, в том числе и теми, кто их создавал. Элейн Ким в предисловии к сборнику статей «Читая литературы азиатской Америки» {Reading the Literatures of Asian America, 1992) объясняла, что «культурный национализм» в ее первой книге был необходим, поскольку нужно было заявить об азиато-американской литературе и отделить ее от других субтрадиций, а на современном этапе в
18 определении и этой литературы, и этничности необходим акцент на
индивидуальности [Reading the Literatures, 1992: xi].
В конце 1990-х Дэвид Лейвей Ли (David Leiwei Li) в работе «Воображая нацию: азиато-американская литература и культурное согласие» (Imagining the Nation: Asian American Literature and Cultural Consent, 1998) исследует эволюцию термина «азиато-американский», соотнося ее с этапами развития азиато-американской литературной критики. Ли выделяет следующие три этапа, или фазы: «этнически-националистическая фаза» 1960-х и начала 1970-х; «феминистская фаза», начавшаяся с публикации художественной автобиографии «Воительница» (The Woman Warrior, 1976) Максин Хонг Кингстон и захватывающая 1980-е, и, наконец, фаза «гетероглоссии». Для наименования третьей фазы, продолжающейся по настоящее время, Ли воспользовался бахтинским термином, означающим «разнотолкование» [Li, 1998: 185-186]. С точки зрения Ли, этнически-националистическая фаза была обусловлена движением за гражданские права и появлением азиато-американского среднего класса Позиция националистов, представленных, главным образом, уже упоминавшейся группой «Айййиииии», была в чем-то парадоксальна: с одной стороны, они отвергали «англо-саксонское превосходство американской культуры», а с другой - их «шум сопротивления» стал «некритичным повторением доминирующих культурных ценностей универсальности и маскулинности» [Li, 1998: 186-187]. Националисты, как уже отмечалось при анализе взглядов группы «Айййиииии», утверждали существование единой азиато-американской идентичности.
Ли утверждает, что «идея азиато-американской идентичности практически не присутствует в общественном сознании» до публикации в 1976 году книги Максин Хонг Кингстон «Воительница». Об этой книге принято говорить, что она «навсегда изменила лицо и статус современной азиато-американской литературы» [Li, 1998: 44] и сделала то, чего не удавалось достичь ни одному из произведений этой субтрадиции прежде:
19 одновременно завоевала признание критики и читательскую популярность,
вследствие чего азиато-американская литература вошла в мейнстрим американской литературы XX века и получила по крайней мере одно «прочное место в каноне» [Huntley, 2001: 39, 57]. Поэтому именно с 1976 года начинается «феминистская фаза» в азиато-американской критике, которую Ли связывает со «значимым удвоением идентичности» [Li, 1998: 187]. Если в период этноцентризма всем азиато-американцам приписывалась исключительно «пан-этническая идентичность», то исследователи-феминисты выделяют элементы отличия внутри каждой азиато-американской этнической группы. В феминистскую фазу впервые признается и право азиато-американца на индивидуальную историю. Позднее, для фазы гетероглоссии, станет характерно преобладание «личных биографий над коллективной историей», и, более того, «идентичность становится не результатом нормативного регулирования и оспаривания, а скорее вопросом личного выбора» [Li, 1998: 194].
В этот же период более четко определяется смысловая наполненность термина «азиато-американский»: «азиатский» - это расовая характеристика, а «американский» - национальный показатель. Слово «азиатский» стало функционировать как прилагательное, а не элемент сложного существительного, и эта трансформация, по выражению Ли, «сместила геополитическую чашу весов диаспоры к извечно дифференцированной американской национальности» и стала «важным шагом на пути к возможности полного демократического согласия» [Li, 1998: 198-203].
Для работ 1990-х характерен максимально открытый взгляд на азиато-американскую литературу и идентичность. Так, Шерли Джеок-Лин Лим и Эми Линг (Shirley Geok-lin Lim, Amy Ling), редакторы сборника статей «Читая литературы азиатской Америки», вводят в свое исследование произведения азиато-канадцев, объясняя это желанием сделать шаг навстречу к расширению понятия северо-американской идентичности [Reading the Literatures, 1992:4].
20 Широта охвата при этом не означает стремления придать
искусственную однородность изучаемому материалу - напротив, как
указывает редактор сборника «Межэтнический справочник по азиато-
американской литературе» (An Interethnic Companion to Asian American
Literature, 1997) Кинг-кок Чеунг, современные критики «настаивают на
разнородности и разнообразии», в том числе в каждой отдельной подгруппе
[An Interethnic Companion, 1997: 25].
Утверждение индивидуальности и самобытности каждого автора не исключает, однако, возможности поиска точек соприкосновения. Сау-Линг Синтия Вонг предлагает интертекстуальное тематическое исследование «Читая азиато-американскую литературу. От нужды к расточительству» (Reading Asian American Literature. From Necessity to Extravagance, 1993). Исследовательница стремится выделить «смысловые» элементы, общие для азиато-американской и «доминирующих литературных традиций», и в то же время продемонстрировать своеобразие «развертывания» того или иного мотива азиато-американскими писателями [Wong, 1993: 12]. Вонг сосредоточивает свое внимание на четырех мотивах: пища, фигура двойника, мобильность (как вечное стремление американца к переездам) и искусство, и при этом ее интересует, главным образом, методика прочтения азиато-американских текстов. Однако, затрагивая. вопрос о термине «азиато-американский», она подчеркивает, что и при обозначении литературы, и при обозначении идентичности важно не сделать его синонимом оскорбительного ярлыка «ориентальный» и в то же время не «де-американизировать» [Wong, 1993: 6-9].
Помимо тематического родства, основанием для объединения азиато-американских текстов выступает тендерный подход. Патриция Чу, автор работы «Ассимиляция азиатов. Тендерные стратегии авторства в азиатской Америке» (Assimilating Asians. Gendered Strategies of Authorship in Asian America, 2000), признавая, что «азиато-американцы вошли в литературу тематически», и, выделяя, в частности, метафору выживания,
21 повторяющуюся у многих авторов, свое исследование сосредоточивает на
гендерном аспекте азиато-американских повествований об ассимиляции,
поскольку, по ее мнению, их «самопрезентации находятся под сильным
влиянием расы и пола» [Chu, 2000: 4]. Исследовательница приходит к
выводу, что авторы-женщины и авторы-мужчины используют разные
«риторические стратегии» для решения одной из своих главных
художественных задач: изобразить формирование личности азиато-
американца. Патриция Чу отказывается от модели «двойственной личности»,
создающей «невротического субъекта», который не может примирить
азиатскую и американскую половины своего «я», и видит два аспекта азиато-
американской идентичности органически связанными [Chu, 2000: 6].
Сходное мнение выражает и Рейчел Ли. В работе «Америки азиато-американской литературы. Тендерные повествования нации и транснации» (The Americas of Asian American Literature: Gendered Fiction of Nation and Transnation, 1999) она исходит из положения, что «пол и сексуальность остаются ключевыми понятиями, в которых азиато-американские писатели постигают Америку и пишут о ней» [Lee, 1999: 3]. Ли также подчеркивает, что разделение азиато-американской идентичности на азиатскую и американскую составляющие является «фальшивым», поскольку эти две половины могут быть в отношении оппозиции друг к другу, могут накладываться друг на друга, но они неизбежно находятся во взаимодействии [Lee, 1999:6].
Рейчел Ли, наряду с Кинг-кок Чеунг, Элейн Ким, Сау-Линг Синтией Вонг, представляет феминистское направление азиато-американской критики, на что она сама указывает в предисловии к своей книге [Lee, 1999: 4]. Кинг-кок Чеунг включает в эту группу и Шерли Лим [An biterethnic Companion, 1997:10]. Перечисленные авторы принадлежат к числу наиболее значительных исследователей азиато-американской литературы, авторами важнейших работ и редакторами коллективных трудов в этой области.
22 Именно тендерный подход позволил исследователям отметить
необыкновенное постоянство успеха, выпавшее на долю китайско-американской женской литературы и последовавшее за публикацией в 1976 году автобиографической книги Максин Хонг Кингстон «Воительница».
Первым опытом сведения отдельных имен китайско-американских писательниц и выявления примет традиции стало исследование Эми Линг «Между мирами: писательницы китайского происхождения» (Between Worlds: Women Writers of Chinese Ancestry, 1990). Эми Линг открывает многие имена и обозначает некоторые общие черты произведений тридцати четырех китайско-американских писательниц. Для Линг важен феномен «двойного сознания» авторов азиатского происхождения, близкий понятию «гибридная идентичность»: она подчеркивает, что эти писательницы многое вбирают из азиатской и англо-американской традиций, но их творчество нельзя ограничивать рамками только одной из них [Ling, 1990:170].
Творчество китайско-американских писательниц активно изучается в исследованиях последних лет. Обзор в данной работе ограничивается критическими работами, посвященными Эдит Мод Итон, Дайане Чанг, Максин Хонг Кингстон, Эми Тан и Гиш Джен.
Эдит Мод Итон (1867-1914) считается прародительницей не только китайско-американской, но азиато-американской литературы в целом, поскольку она была первым азиато-американским автором, писавшим, помимо автобиографических эссе, художественную прозу. В 1912 году Эдит Итон издала сборник рассказов «Миссис Весенний Аромат» (Mrs. Spring Fragrance), с которого и ведет отсчет своей истории китайско-американская женская проза
Дайана Чанг, как и Эдит Итон, - писательница евразийского происхождения, опубликовала несколько романов и стихи, но только в первом из них, «Границы любви» (Frontiers of Love, 1956), действуют герои китайского происхождения, а в остальных - белые американцы, поэтому только он обычно рассматривается в рамках китайско-американской прозы
23 [Ling, 1990: 119], и этот подход будет сохранен в настоящем исследовании.
Евразийское происхождение как проблема, усложняющая поиски своего «я»,
определила контекст для изучения романа. Обычно он рассматривается в
одном ряду с творчеством Эдит Итон, дочери китаянки и англичанина, и
американской писательницы бельгийско-китайского происхождения Хан
Суйин (Han Suyin), например, в названных выше работах Элейн Ким и Эми
Линг [Ling, 1990: 112-119; Kim, 1982: 283-284].
Наибольшее число исследований из всех изучаемых в данной работе
писательниц посвящено творчеству Максин Хонг Кингстон. По данным
американской Ассоциации современного языка (Modern Language
Association, MLA), ее произведения наиболее часто включаются в программы
курсов по мультикультурализму [Approaches, 1991: xxvi], а «Воительница»
является одним из самых изучаемых произведений американского автора
[Chun, 1991: 85]. Высокие оценки творчества Максин Хонг Кингстон
обусловили выход в 1991 году коллективного труда под редакцией Шерли
Джеок-Лин Лим «Подходы к преподаванию «Воительницы» Кингстон»
(Approaches to Teaching Kingston's The Woman Warrior). Авторы этого
издания полагают, что именно «Воительница», как «многоуровневый и
многоголосый текст», может быть удачной отправной точкой для открытия
азиато-американской литературы [Approaches, 1991: ix-x].
«Многоуровневость» первой и последующих книг Кингстон - «Китайские
мужчины» {ChinaMen, 1980) и «Обезьяна- мастер путешествий» (Tripmaster
Monkey, 1989) - определила их включение и в программы различных
университетских дисциплин помимо литературы - социологии,
культурологи, этнологии - [Approaches, 1991: 8-9], и в широкий
исследовательский контекст. Творчество Максин Хонг Кингстон
сопоставляется не только с творчеством других этнических писателей для
выявления родства тем, мотивов, образности этнических литератур
[Anderson, 2000; Chiu, 1999; Mackin, 2001] или творчеством других
писательниц различного происхождения при изучении особенностей
24 женской прозы [Chandra, 2001; Dzregah, 2002; Love, 2000; Meier, 2001;
Raffuse, 2000], что является достаточно традиционным подходом3.
Произведения Кингстон также удачно вписываются в современный
открытый взгляд на литературу, преодолевающий некоторые искусственные
барьеры. Сау-Линг Вонг, наверняка выражая стремление большинства
азиато-американских авторов и критиков, писала в уже цитировавшемся
исследовании о необходимости выхода азиато-американской литературы из
тесных рамок этнической [Wong, 1993: 12]. Темы диссертаций американских
исследователей за последние двадцать лет свидетельствуют о том, что по
крайней мере одному из азиато-американских авторов, Максин Хонг
Кингстон, это удалось. Ее книги изучаются в сопоставлении с
произведениями многих европейских и американских писателей: Джойса и
Фицджеральда [Chuang, 1995; Henson, 2000], Эзры Паунда и Перл Бак
[Huang, 1999; Zhou, 1996], Джонатана Свифта [Williams, 1998], Джона Барта
[Liu, 1993; Scala, 1996], Вирджинии Вульф [Rusk, 1995], Генри Джеймса,
Гертруды Стайн, Хемингуэя и Фолкнера [Bollinger, 1993], Владимира
Набокова [Ch'ien, 2000], а также включаются в исследования по китайской
литературе [Wei, 1999; Yue, 1993].
Максин Хонг Кингстон посвящены монографические исследования
[Huntley, 2001; Madsen, 2000; Simmons, 1999], а также многочисленные
статьи о жанровом [Juhasz, 1982; Karl, 1983; Nishime, 1995] и тематическом
своеобразии ее произведений [Amy Tan, 1999; Liu, 1996; Outka, 1997; Yu,
1996; Zackodnick, 1997]. Вокруг имени Кингстон не утихают и споры,
выходящие за рамки литературоведческих и затрагивающие идеологические
и политические аспекты ее успеха и творчества: к числу непримиримых
критиков Кингстон по-прежнему относится Фрэнк Чин и некоторые другие
исследователи (Глория Чун, Томинг Джун Лиу). Фрэнк Чин в предисловии к
своей второй антологии «Большой Айййиииии!» обвиняет Кингстон в
3 Например, часто сопоставляются автобиографические повествования Максин Хонг Кингстон и Джейд Сноу Вонг. Так, Эми Лннг рассматривает «межмирное сознание», основополагающее для обоих текстов [Ling, 1990: 119], а Марион Дункан Смит сосредоточивает свое внимание на именах как культурном знаке в творчестве обеих писательниц [Smith, 1996].
25 искажении китайских мифов и легенд и самом факте написания
автобиографии, «христианского жанра». По мнению Чина, Кингстон
«заменяет историю стереотипом», и поэтому и в ее собственных текстах, и в
произведениях ее «литературного потомства» Дэвида Генри Хванга и Эми
Тан нет ничего правдивого [The Big Aiiieeee, 1991: 50]. Томинг Джун Лиу
считает, что «средний американский читатель извлекает из текста Кингстон
утверждение «знания» - через отрицание иной, явно варварской, культуры -
что быть американцем - это культурное превосходство» [Liu, 1996: 16].
Таково же и мнение Глории Чун, утверждающей, что «книга Кингстон стала
эффективным средством насаждения доминирующего общественного
восприятия азиатов в Америке как низшего и экзотического Другого» [Chun,
1991: 90]. О том, что такое прочтение прямо противоречило задачам
писательницы, говорит она сама, в одном из своих эссе яростно протестуя
против эпитета «экзотический» и объясняя, что создавала
«трансформированные Америкой китайские мифы», потому что они не могли
не измениться после пересечения океана [Asian and Western Writers, 1982:
57]. Справедливо, что число поклонников и защитников творчества
Кингстон составляет «подавляющее большинство в академических кругах»
США [The Asian Pacific Heritage, 1999: 442], о чем свидетельствуют и уже
упомянутые работы многих исследователей, которых не перестает
вдохновлять сложность и изысканность произведений писательницы.
Младшие современницы Максин Хонг Кингстон Эми Тан (1952-) и
Гиш Джен (1956-) также вошли в литературу достаточно успешно. За ярким
дебютом Эми Тан последовали романы «Жена кухонного бога» {The Kitchen
God's Wife, 1991), «Сто тайных чувств» {The Hundred Secret Senses, 1995) и
«Дочь костоправа» {The Bonesetter's Daughter, 2000), получившие немало
положительных отзывов. Авторы некоторых из них полагают, что
«невиданный расцвет женской китайско-американской литературы в США»
последовал за «литературным и коммерческим успехом «Клуба радости и
удачи» Эми Тан» [Zia, 1991: 76], а сама книга «вырвалась из всех этнических
26 и литературных гетто» [Hughes, 1991: 38]. Критики не скупятся на щедрые
оценки таланта писательницы, в «Жене кухонного бога» находя даже
«толстовский поток событий и подробностей» [Dew, 1991: 9], а в «Дочери
костоправа» - «диккенсовскую галерею злодеев, целителей, ученых и
любовников» [Willard, 2001: 9]. Некоторые не очень убедительные
повествовательные приемы, отмеченные разными исследователями [Angier,
1989: 35; Dew, 1991: 9; Miner, 1989: 567; Pavey, 1996: 38; Young: 47;],
признаются простительными, ибо «прежде всего важна история, которую
она рассказывает» [Dew, 1991: 9].
Среди заслуг Эми Тан исследователи отмечают равноправное присутствие в них героинь и младшего, и старшего поколений, тогда как для женской литературы в целом характерно доминирование голоса дочери и молчание матери [Heung, 1993: 598]. Изучению именно женской темы в различных ее аспектах, в том числе в аспекте конфликта поколений, посвящено большинство работ о творчестве Эми Тан, которое, как и творчество Максин Хонг Кингстон, чаще всего рассматривается не изолированно, а в сопоставлении с произведениями других писательниц различного происхождения [Chandra, 2001; Guo, 1995; Но, 1993; Liu, 1997;Yu, 2001]. Произведения Эми Тан чаще включаются в контекст женской литературы, потому что она сосредоточивает свое внимание на мироощущении женщин, но они не ограничиваются рамками этнической литературы, поскольку, «хотя китайская культура образует фон ее романов, она не составляет главное их существо» [Huntley, 1998: 39]. Показательно в этом смысле, что обзоры статей и рецензий о Максин Хонг Кингстон, Эми Тан и Гиш Джен вошли в многотомное издание «Современная литературная критика» (Contemporary Literary Criticism), что свидетельствует о пересмотре однозначного подхода к китайско-американской литературе с «этнической маркировкой» [Huntley, 1998: 39]. Творчеству Гиш Джен пока посвящены, главным образом, рецензии. К настоящему времени писательница опубликовала дилогию о китайско-американской семье Чангов «Типичный
27 американец» (Typical American, 1991) и «Мона в земле обетованной» (Мопа
in the Promised Land, 1996), сборник рассказов «Это я - ирландка?» (Who is
Irish?, 1999) и роман «Любящая жена» (Love Wife, 2004). Поскольку первый
роман Джен вышел лишь два года спустя после шумного дебюта Эми Тан,
первые романы двух писательниц иногда сравнивают, находя, что Тан
«концентрирует в своем повествовании невероятно плотный сюжет,
характеры, драму и азиато-американскую атмосферу Западного побережья»,
тогда как Гиш Джен «интерпретирует испытания иммигрантов более
сфокусированно, глубоко и потому интимно» [Gish Jen, 1992: 72]. Критиков
особенно восхищают «манипуляции с синтаксисом» Джен, придающие ее
прозе «звучание американского джаза» [Gish Jen, 1992: 75] и
«эпиграмматическую легкость» [Gish Jen, 1992: 74]. Произведения Гиш Джен
также становятся объектом исследования отдельных диссертаций, например,
в контексте изучения взаимоотношений матери и дочери в китайской
литературе XX века [Wei, 1999], хотя ее произведения дают достаточно
интересный материал и для анализа отношений отца и дочери.
Исследования по азиато-американской литературе уже пересекли территориальные границы США. В Германии еще в 1987 году была опубликована работа Карин Мейсенбург «Надписи на стене», посвященная китайско-американской литературе. Приводящая эти данные Кин-кок Чен свидетельствует также, что в последние годы студенты из Италии, Польши, Франции, Испании приезжают в США «исключительно для изучения азиато-американской литературы» [An Interethnic Companion, 1997: 29].
Китайско-американская литература вызывает интерес и на исторической родине ее создателей. В середине 1970-х годов профессор Нанкинского университета Чжан Чжицин совместно с американским литературоведом Джеффом Твитчеллом создали серию «Китайско-американская литература», в которой на настоящий момент опубликованы произведения Максин Хонг Кингстон, Джейд Сноу Вон, Фрэнка Чина, Гиш Джен и некоторых других китайско-американских писателей на языке
28 оригинала, но с предисловиями на китайском языке. В январе 2003 года при
Пекинском университете зарубежных исследований (Beijing Foreign Studies
University) был создан Центр по изучению китайско-американской
литературы. Как пояснила директор Центра, профессор У Бин, в письме
автору настоящей работы, свою основную задачу сотрудники Центра видят в
активизация преподавания и изучения китайско-американской литературы в
Китае, в связи с чем планируют в том числе издать учебник для аспирантов и
переводить произведения китайско-американских писателей на китайский
язык. Профессор У Бин также выразила интерес к установлению контактов с
исследователями китайско-американской литературы в России.
В нашей стране наиболее ранним обращением к азиато-американской
литературе является, очевидно, работа крупного исследователя проблемы
мультикультурализма А.А.Ващенко «Америка в споре с Америкой» (1988).
Упоминая «Воительницу» Максин Хонг Кингстон и проводя аналогии между
творчеством американских и российских этнических писателей, автор делает
общий вывод о том, что «обращение к фольклорному началу своего этноса
способно помочь писателю совершить внезапное перенесение повествования
и конфликта в символический план» и «объяснить историческое единство
соплеменников» [Ващенко, 1998: 61-62].
В русле открытия имени в женской этнической литературе выстроен доклад ДН.Гореловой «Максин Хонг Кингстон и американо-китайская женская проза» на конференции Ассоциации по изучению культуры США при МГУ в 1996 году [Горелова, 1996: 136-137]. Несколькими годами позже на конференции этой Ассоциации Ю.Шамарина представила глубокий текстуальный анализ «Воительницы» в феминистском ключе [Шамарина, 2001: 124-125]. На той же конференции Н.А.Высоцкая предложила интересную текстуальную стратегию - прочтение азиато-американского текста сквозь призму литоты, «утверждения через отрицание», выступающую, по ее мнению, тропом азиато-американской идентичности [Высоцкая, 2001: 96-97]. Н.А.Высоцкой принадлежат и обзорные работы по
29 азиато-американской литературе, в которых анализируются некоторые общие
черты ее поэтики [Висоцка, 2001].
Знакомство российского читателя с азиато-американской литературой началось с романа Эми Тан «Клуб радости и удачи» и рассказов Гиш Джен. Перевод книги Эми Тан был опубликован в журнале «Иностранная литература» в 1996 (№9), а рассказы Гиш Джен - в этом же журнале в 1994 (№11) и 2002 (№5) годах.
Творчеству Эми Тан посвящено первое в нашей стране диссертационное исследование по азиато-американской литературе С.Г.Коровиной, в котором романы писательницы изучаются «как целостный художественный мир с точки зрения проблематики и поэтики», с учетом влияния «китайских и американских философских и литературных традиций» [Коровина, 2002: 9]. Романы Эми Тан рассматриваются и в отдельных работах, акцентирующих внимание на проблеме обретения национального самосознания в русле взаимодействия культур [Боголепова, 1999] или интерпретации темы «американской мечты» [Прозоров, 2001].
Если творчество Максин Хонг Кингстон и Эми Тан уже изучается российскими исследователями, то другим китайско-американским писательницам, достаточно известным и признанным в США, уделяется меньше внимания. Им посвящены отдельные страницы в работах российских литературоведов: Гиш Джен - в диссертации С.Г.Коровиной об Эми Тан(ь), Эдит Мод Итон и Гиш Джен - в работе о мультикультурализме в современной литературе США МВ.Тлостановои. С.Г.Коровина сопоставляет проблематику и поэтику произведений Эми Тан(ь), Максин Хонг Кингстон и Гиш Джен (Чжэнь) и приходит к выводу о сходстве творческой манеры Тан(ь) и Кингстон и «полном отсутствии линий соприкосновения произведений Э.Тань и Г.Чжэнь» [Коровина, 2002: 174]. М.В. Тлостанова лишь упоминает сборник рассказов Эдит Мод Итон «Миссис Весенний Аромат» [Тлостанова, 2000: 177] и роман Гиш Джен (Иен) «Типичный
американец», в кагором, на ее взгляд, «травестируются многие знакомые элементы традиционной американской культуры» [Тлостанова, 2000:181].
Из приведенного обзора видно, что только творчество Максин Хонг Кингстон и Эми Тан рассматривалось в русле исследования проблем этнической идентичности; в творчестве остальных интересующих нас писательниц изучались другие аспекты. Проблема китайско-американской гибридной идентичности и принципов ее репрезентации на материале произведений Эдит Мод Итон, Дайаны Чанг, Максин Хонг Кингстон, Эми Тан и Гиш Джен получила частичное освещение, но пока не выступала предметом специального внимания ни американских, ни российских исследователей и, несомненно, представляет интерес.
Таким образом, в проблеме азиато-американской идентичности можно выделить три основные тенденции ее формирования, через которые прошли все этнические субкультуры США. Первые две тенденции зародились в период движения за гражданские права конца 1960-х и связаны со становлением этнического самосознания. Они противоречат друг другу, но продолжают существовать параллельно. С одной стороны, это тенденция утверждения себя американцем, навеянная уитменовским пафосом отказа от всего неамериканского и связанная с болезненным отторжением прародины. С другой - тенденция сохранения корней, порой доходящая до агрессивного этноцентризма Третья тенденция проявляется с конца XX века и заключается в стремлении уравновесить две предыдущие. Тогда и возникает феномен гибридной, или пограничной, идентичности. Часто она принимает остродраматические формы, такие как «полукровка» Глории Ансальдуа или «китаеза» Фрэнка Чина
Но на проблему азиато-американской гибридной идентичности возможен и более оптимистичный взгляд. Г.Ш. Чхартишвили, например, излагая свою концепцию мировой литературы как восточнозападной и размышляя о глобализации мировой культуры, ее возможным последствием считает формирование нового человека - «универсально образованного, в
31 равной мере владеющего культурным наследием и Востока, и Запада»
[Чхартишвили, 1996: 262]. Мнению Чхартишвили созвучна и мысль
Т.П.Григорьевой: «Восток и Запад встретятся, когда эти крайности
уравновесятся в самом человеке, ибо в нем Все» [Григорьева, 1992: 25-26].
Азиато-американцу невозможно отказаться от одной из составляющих
своего «я», их необходимо примирить. Как подчеркивают авторы
«Кембриджской истории американской литературы» под редакцией Саквана
Берковича, «чтобы понять гибридность, необходимо совершить переход от
понимания, основанного на сочетании «или/или» к пониманию,
основанному на сочетании «и то/и другое» [The Cambridge History, 1999:
672]. Изучению способов отражения и художественного воплощения
гибридной китайско-американской идентичности в текстах писательниц
второй половины XX века Дайаны Чанг, Максин Хонг Кингстон, Эми Тан и
Гиш Джен и посвящена данная работа
Репрезентация темы китайской иммиграции в литературе американского мейнстрима конца XDC — начала XX веков
Для анализа проблемы китайско-американской идентичности представляется важным рассмотреть зарождение китайской темы в «белой» американской литературе, главным образом в произведениях Френсиса Брега Гарта, Марка Твена и Джека Лондона, и ее развитие в творчестве Перл Бак. Данный аспект позволит обозначить социо-культурный контекст, в котором начинали свое творчество китайско-американские писатели. Кроме того, карикатурные, почти гротескные образы китайцев, созданные классиками американской литературы более века назад, породили устойчивые стереотипы, отчасти сохранившиеся до сих пор. Первым и, возможно, единственным, белым автором литературы США, попытавшимся сломать эти клише, была Перл Бак. За достоверное и глубокое изображение Китая и китайцев, которому она посвятила всю жизнь, писательница была удостоена Нобелевской премии.
Китайцы начали осваивать Америку гораздо раньше, чем на них обратила внимание американская литература. Согласно одним данным, первые китайцы прибыли в Америку еще в 1571 году, это были судостроители [The Chinese in America, 1981: 88]; согласно другим, только около 1788-89 годов на западе США и Гавайях стали селиться китайские рабочие [Wong, 1993: 46]. До 1820 года в США не велись записи иммигрантского учета, в период между 1820 и 1840 годами было зарегистрировано менее тысячи китайских иммигрантов [The Chinese in America, 1981:88].
Первыми китайскими иммигрантами были преимущественно необразованные крестьяне, к которым в Америке относились как к дешевой рабочей силе и нанимали, главным образом, для строительства железных дорог. Некоторые китайцы открывали свое дело, в основном прачечные. Дешевый китайский труд составлял конкуренцию белым рабочим, и еще в конце 1870-х возник лозунг «Китайцы должны убираться» [The Chinese in America, 1981:89]. Американский историк культуры Гарольд Исааке, автор работы «Зарубки на нашей памяти: Образы Индии и Китая в Америке» назвал период с 1840 по 1905 «Веком Презрения» Америки к Китаю [Ling, 1990:18].
Массовый приток иммигрантов из Китая на запад США приходится на 1847-1850 годы и вызван, с одной стороны, засухой в провинции Кантон (1847-1850), а с другой - «золотой лихорадкой» в Калифорнии (1848) [The Chinese in America, 1981: 88-91]. В 1852 году в Калифорнии насчитывалось 11 794 китайцев [Ling, 1990: 13], а по данным переписи 1870 года всего в США проживало 105 000 китайцев [The Chinese in America, 1981: 89]. Калифорния до сих пор остается одним из штатов с наибольшим процентом американцев китайского происхождения [People of Asian Origin, 1988:177].
Неудивительно, что первыми к изображению китайцев обратились писатели, чье творчество было так или иначе связано с Калифорнией, -Френсис Брег Гарт, Марк Твен и Джек Лондон.
В 1870 году Ф. Брег Гарт опубликовал небольшое стихотворение «Простой язык от правдивого Джеймса» (Plain Language from Truthful James), больше известного как «Язычник-китаец» (The Heathen Chinee), и, по выражению Элейн Ким, «создал модель для описания китайцев, которая распространилась, как эпидемия в американских газетах и журналах» [Kim, 1982: 12]. «Эпидемия» продлилась до конца XIX, однако и в конце XX века, выражение «язычник-китаец» иногда воспринимается как оскорбительный ярлык для обозначения китайских иммигрантов. Например, Нин Ю, анализируя «низкую» и «высокую» культуры в книге Максин Хонг Кингстон «Китайские мужчины», упрекает американских ориенталистов в культивировании этого стереотипа [Yu, 1996: 1]. Эми Линг, автор первой работы о китайско-американских писательницах «Между мирами: писательницы китайского происхождения» (1990), открывает свою книгу воспоминанием о чувстве обжигающего унижения, испытанного ею при чтении учительницей этого стихотворения Брега Грата в классе.
Исследовательница вспоминает также о внезапном замешательстве учительницы от осознания того, что у девочки-китаянки может быть совершенно другое восприятие этой истории. «Но ей никогда не приходилось принимать во внимание китайское восприятие», комментирует Эми Линг [Ling, 1990: xi].
Герой стихотворения А Синь, китаец с «задумчивой детской улыбкой», играет в карты с рассказчиком и его приятелем Биллом Наем, в рукавах которого рассказчик в какой-то момент замечает большое количество тузов и валетов, что не мешает игре продолжаться. Однако чуть позже в длинных рукавах А Синя, по мнению белых игроков, ничего не понимающего в игре, обнаруживаются 24 колоды карт, а на кончиках конусообразных ногтей -- воск. Билл Най, «вздохнув», восклицает без видимой связи с ситуацией, что американцев «разрушает дешевый труд китайцев», и набрасывается на А Синя. Рассказчик заканчивает свою историю сентенцией, что «язычник-китаец странен (peculiar) из-за своих «темных способов и показных трюков» (for ways that are dark and for tricks that are vain) [Harte, 1912: 129-131].
Брег Гарт создал образ китайца, остававшийся клише более чем на столетие: по природе своей он хитер и ловок, поэтому опасен и не заслуживает доверия. Белый человек способен разоблачить трюки китайца, но ему стоит быть все время начеку.
Зарождение китайско-американской литературы и становление проблемы гибридной идентичности. Рассказы Эдит Итон
Современные исследователи азиато-американской литературы признают Эдит Мод Итон (1865-1914) «пионером» азиато-американской литературы: она была первым азиато-американским автором, писавшим, помимо автобиографических эссе, художественную прозу на английском языке [Doyle, 1994: 50; biterethnic Companion, 1997: 44; Ling, 1990: 11]. Ее заслуги высоко оценены американскими критиками. Элизабет Аммонс, например, в работе «Конфликтующие истории. Американские писательницы начала XX века», утверждает, что творчество Эдит Итон наряду с произведениями Кейт Шопен, Гертруды Стайн, Виллы Катер было одним из «триумфов американской литературы» в период «второго великого расцвета женской литературы в США» на рубеже XIX-XX веков [Amnions, 1991: vi, 105].
В 1912 году Эдит Итон опубликовала свой единственный сборник рассказов «Миссис Весенний Аромат», но писать начала в 1890-е годы. Ее первой печатной работой было письмо редактору газеты «Монреаль Дейли Стар», направленное против введенного правительством ужесточения законов, касающихся китайских иммигрантов. Это произошло в 1896 году, и в том же году писательница опубликовала первый рассказ под псевдонимом Суй Син Фар (Sui Sin Far) [Doyle, 1994: 51]. Биограф писательницы Анетта Уайт-Парке замечает, что уже ранние редакторы Эдит Итон видели в ее прозе «что-то отличающееся» от изображения китайцев в белой американской литературе, и приводит их оценки ее творчества. Так, издатель первых ее рассказов Уолтер Блэкбурн Гарт сравнивал их с рассказами Брега Гарта, отмечая, что последний писал о «Джоне-китайце так, словно тот не принадлежал человеческому роду», тогда как Эдит Итон «поразила новым взглядом на этого тихого персонажа». И Чарльз Ламмис, редактор газеты
«Лэнд ов Саншайн», высказал подобное наблюдение: «Для других писателей чуждые жители Поднебесной в лучшем случае служили «литературным материалом», тогда как для Эдит Итон они просто были людьми» [White Parks, 1995: 22]. Эдит Итон отдавали должное и китайские иммигранты, о чем она с гордостью пишет в своем автобиографическом очерке: «Мое сердце забилось от радости, когда однажды я прочитала статью китайца из Нью-Йорка, где он утверждал: «Китайцы в Америке в вечном долгу благодарности перед Суй Син Фар за смелую позицию, которую она занимает для их защиты» [Eaton, 1995:223].
Тем не менее, творчество писательницы оказалось забытым на несколько десятилетий. Возрождение интереса к нему на североамериканском континенте началось в 1970-е годы. Редакторы антологии «Айййиииии!» (1974) признавали роль Эдит Итон в формировании «достоверной» (authentic) традиции китайско-американской литературы, которая контрастировала с «белой традицией новой литературы о китайцах» (white tradition of Chinese novelty literature), превалировавшей в ее эпоху [АШеееее, 1974: хіі]. В 1976 году известный исследователь азиато-американской литературы С.Е.Солберг выступил на Тихоокеанской Северозападной конференции азиато-американских писателей в Сиэтле с докладом о писательнице, который считается «пионерской» критической работой по творчеству Эдит Итон [White-Parks, 1995: 31]. Несколько лет спустя Солберг опубликовал статью в наиболее авторитетном американском литературно-критическом издании, занимающемся проблемами этнических литератур, - журнале Общества изучения мультиэтнической литературы США (The Journal of the Society for the Study of the Multi-Ethnic Literature of the United States, MELUS) «Суй Син Фар/Эдит Итон: первый китайско-американский беллетрист». В этой статье исследователь утверждал, что в своей прозе Эдит Итон стремилась «не использовать, но запечатлевать, объяснять и придавать смысл опыту китайцев в Америке» [Solberg, 1981: 33]. Двумя годами позже у Эми Линг вышла работа «Эдит Итон: первая китайско-американская писательница и феминистка», в которой отмечалось, что до Эдит Итон никто «не писал о китайцах в Америке так много и с таким сочувствием, предлагая при этом взгляд изнутри» [Ling, 1983: 288]. Среди наиболее значительных работ об Эдит Итон следует назвать также книгу Анетты Уайт-Паркс, «Суй Син Фар/Эдит Мод Итон: литературная биография», написанную по материалам докторской диссертации автора Анетта Уайт-Паркс и Эми Линг подготовили и первое после 1912 года переиздание избранного Эдит Итон - рассказов, автобиографических эссе, газетных заметок и очерков [Eaton, 1995]. В этом издании исследовательницы приводят подробную библиографию работ 1970-1990-х годов по творчеству писательницы и некоторые факты, свидетельствующие о ее растущей популярности за пределами академических кругов. Например, китайско-канадская диаспора в Монреале «открывает Суй Син Фар как героиню девятнадцатого века»: представители этой диаспоры в 1992 году устроили благотворительный концерт в ее честь и предлагали назвать ее именем станцию метро и бальный зал в гостинице монреальского Чайнатауна. Героини романа современной китайско-американской писательницы Фаэ Миэнн Нг (Fae Myenne Ng) «Кость» {Bone, 1993) ходят в «школу имени Эдит Итон», которая, по мнению писательницы, должна существовать в Чайнатауне Сан-Франциско [Eaton, 1995: 3-6].
Внешние приметы поиска: соединение элементов бытовой культуры Китая и Америки
Период между 1912 и 1945 годами, после публикации сборника рассказов «Миссис Весенний Аромат» Эдит Итон, не отмечен значительными произведениями китайско-американской писательниц. В 1945 году вышла автобиография Джейд Сноу Вонг (Jade Snow Wong, 1922-) «Пятая китайская дочь» {Fifth Chinese Daughter), переиздававшаяся в 1948, 1950, 1978, 1989, 2000 годах. Такая популярность этой автобиографии позволила Фрэнку Чину в предисловии к своей первой антологии обозначить ее как «книгу, имевшую наибольший финансовый успех и привлекшую наибольшее внимание критики, из всех книг, когда-либо опубликованных американцами китайского происхождения» [Aiiieeeee, 1974: xxix]. Таковой она являлась, однако, до публикации «Воительницы» Максин Хонг Кингстон и произведений Эми Тан и Дэвида Генри Хванга в 1990-е годы. По данным Элейн Ким, еще в 1975 году «Пятая китайская дочь» преподавалась в средних школах как «лучший пример китайско-американской литературы» [Kim, 1988: 814]. Исследователи 1990-х включают Джейд Сноу Вонг в число пионеров, а ее автобиографию - в число вех азиато-американской литературы, имевших несомненную ценность в период ее создания [The Asian Pacific Heritage, 1999: 397,402]. Максин Хонг Кингстон считает Джейд Сноу Вонг своей литературной наставницей и «матерью китайско-американской литературы» и признает, что эта книга «вдохновила и укрепила ее решение стать писательницей» [Ling, 1990: 120].
В период между 1945-1990-м годами в каждом десятилетии ярко выделяется книга той или иной китайско-американской писательницы, ставшая этапом в китайско-американской литературе. В 1950-е это роман Дайаны Чанг (І934-) «Границы любви» (The Frontiers of Love, 1956), первый роман уроженки США китайского происхождения и «классическая история поиска идентичности» [Wong, 1995: 134]. 1960-е маркирует роман Чуанг Хуа (Chuang Hua) «Пересечения» (Crossings, 1968), первый азиато американский модернистский роман [Chiu, Douglas, Ling], «предвосхищающий «Воительницу» Кингстон формой и стилем» [Ling, 1990: 108]. В 1970-е «Воительница» Кингстон стала прорывом азиато американской литературы в мейнстрим. В 1980-е годы Максин Хонг Кингстон впервые после Эдит Итон обращается к изображению мужского иммигрантского опыта - в художественной биографии «Китайские мужчины» (China Men, 1980) и романе «Обезьяна - мастер странствий: Его плутовская книга» (Tripmaster Monkey: His Fake Book, 1989). Одновременно с романом Кингстон вышел и первый роман Эми Тан «Клуб радости и удачи» (The Joy Luck Club, 1989), который принес ей три литературные награды Национальную книжную премию (the National Book Award), Национальную премию критиков (the National Book Critics Circle Award) и премию рецензентов Сан-Франциско в области литературы 1990 года (the 1990 Bay Area Reviewers Award for Fiction) - и был успешно экранизирован. В 1991 году романом «Типичный американец» (Typical American), в центре повествования которого китайский иммигрант Ральф Чанг, обратила на себя внимание Гиш Джен. Эми Тан и Гиш Джен продолжают активно и успешно публиковаться в 1990-х годах. В 2000-е годы Максин Хонг Кингстон и Эми Тан выпустили книги воспоминаний и эссе: «Пятая книга мира» (The Fifth Book of Peace, 2003) и «Противоположность судьбы. Книга размышлений». (The Opposite of Fate. A Book of Musings, 2003) соответственно. Гиш Джен опубликовала новый роман «Любящая жена» (Love Wife, 2004). В произведениях всех изучаемых писательниц можно выделить „внешний" и „внутренний" этапы поисков идентичности. Внешним проявлением метаний героев двойного происхождения может служить соположение или контраст восточных и западных бытовых деталей: предметов окружающей обстановки и личных вещей, пищи, одежды, примет внешнего облика Так, Дайана Чанг описывает журнальный столик своей юной героини Мими Ламбер, на котором соседствуют «фарфоровая Мадонна, нефритовый пресс для бумаги, статуэтка Гуаньинь и две теннисные ракетки» [Chang, 1994: 88]. Для Мими и христианская богоматерь, и буддийская богиня милосердия лишь атрибуты европейского и китайского образа жизни, которыми она себя окружает, отдавая дань своему «евразийству». Дайана Чанг передает поверхностное отношение Мими к этим символам веры определением «безделушки» (bric-a-brac), которым обозначает все описанные предметы. Подобный китайско-западный хаос царит в душе Хелен (Хулань) Гвон, подруги главной героини романа Эми Тан «Жена кухонного бога» Уинни Луи. Хелен и Уинни знали друг друга с молодых лет и примерно в одно время иммигрировали в США. Для Хелен смешение культур в ее жизни так и не обрело форму гармоничного слияния, о чем говорит, например, содержимое ее сумочки, воплощающее в какой-то мере суть женской натуры. Пытаясь найти важное письмо, в котором сообщается о смерти первого мужа Уинни, много лет мучившего ее в Китае, Хелен вытряхивает «две короткие свечи, американские документы о натурализации в пластиковом пакете, китайский паспорт сорокалетней давности, маленькое мыло из мотеля, ... желудочные таблетки бочжай, обезболивающие пластинки из тигровой кости и талисман Богини Милосердия, носимый на случай, если другие средства не помогут» [Тал, 1995: 88]. Весь этот «хлам» (junk), как называет его про себя наблюдающая за подругой Уинни, отражает иммигрантскую историю вживания в другую культуру. В этой истории самым трудным и порой неразрешимым остается вопрос о том, что нужно сохранить от прежней жизни (нужен ли устаревший паспорт, создающий иллюзию возможности возвращения на родину, и китайские обереги в этой чужой стране?) и от чего можно избавиться.