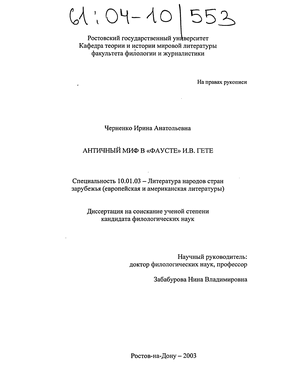Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Художественная концепция античного мифа в «Фаусте» и формы его интерпретации 33
1.1. Архетипические мотивы и образы в «Фаусте» 34
1.2. Особенности мифологического мышления и их отражение в композиции и системе образов «Фауста» 49
1.3. Пространственно-временные парадигмы мифа и их трансформация в условно мифологических континуумах «Фауста» 59
1.4. «Елена». Жанровый архетип и поэтика стилизации аттической трагедии 69
1.5. Субъекты интерпретаций античных мифов. Виды интерпретаторских установок 77
Мефистофель как субъект интерпретации 78
Ариэль как субъект интерпретации 85
Маскарадная маска как субъект интерпретации 89
Зрители мифологического спектакля как субъекты интерпретации 93
Гомункул как субъект интерпретации 96
Фауст как субъект интерпретации 99
Призраки Классической Вальпургиевой ночи как субъекты интерпретации 101
Античные персонажи стилизованной трагедии о спасении Елены как субъекты интерпретации 110
1.6. Концептуальное мифотворчество и окончательная формула мифа 113
Глава 2. Функции античного имени 123
2.1. Античное имя 124
2.2. Эмблематические свойства античных имен. Стилизующее и риторическое применение античных имен в «Фаусте» 128
2.3. Эмблематические свойства античных имен и имена-эмблемы в «Фаусте», их отличие от образов-эмблем 139
2.4. Эмблематические свойства античного имени и имена-образы-символы 152
Заключение 192
Библиография 202
Приложение 215
- Архетипические мотивы и образы в «Фаусте»
- Ариэль как субъект интерпретации
- Эмблематические свойства античных имен. Стилизующее и риторическое применение античных имен в «Фаусте»
Введение к работе
Иоганн Вольфганг Гете (1749-1832) - поэт из плеяды гениев, величие которых общепризнано, авторитет же — почти непререкаем. «Всезрящей мыслью» наделил его В.А. Жуковский. «Пророческую скорбь, столь же глубокую, как Дантова», замаскированную в «солнечном и изысканном Гете», Т. Карлейль считал доступной лишь немногим смертным. П. Валери отождествил Гете с самой поэзией в крылатом восклицании: «Мы говорим Гете, как мы говорим Орфей».
«Титан», «универсальная личность», «олимпиец», «вечная мировая загадка», — эпитеты, привычно сочетающиеся с именем великого романиста и поэта, но не только романиста и поэта. Гете проявил себя в философии и эстетике, литературной критике и переводческой деятельности, живописи и политике. В ипостаси ученого-натуралиста он является основателем сравнительной анатомии, современной морфологии растений, физиологической оптики; к его исследованиям восходят понятия гомологии, морфологического типа, метаморфоза; идея ледникового периода тоже принадлежит ему.
Но, пожалуй, величайшей заслугой Гете считается создание немецкого литературного языка и немецкой литературы, высочайший ранг которой впервые был признан всей Европой. Гец и Вертер, Прометей и Ифигения,
*
ритмическое новаторство гимнов, эротизм «Римских элегий», эпические опыты, «Поэзия и правда» жизни, классический образец жанра романа воспитания, поэтическое открытие Востока - вот далеко не полный диапазон притягательных для исследования аспектов творчества Гете. Только систематизация гетеведческого багажа, накопленного за два с лишним столетия, представляет собой сложную самостоятельную библиографическую проблему.
Литература о «Фаусте» составляет самостоятельный раздел гетеведения. Наибольшее количество изысканий посвящено творческой истории «Фауста».
Благодаря уникальной ситуации - «Фауст» создавался в течение всей жизни автора - рассказ о становлении замысла произведения легко вписывается в биографические сочинения о Гете. Даже весьма краткая биография Гете в книге П. Бёрнера [145], имеющая в своей основе ссылки на письма и автобиографические сочинения, закономерно содержит небольшую главу о «Фаусте», в которой речь идет о создании трагедии.
Любая метаморфоза первоначального замысла произведения, любые дополнения к тексту «Фауста» в лучших сочинениях биографического плана сопровождаются профессиональными литературоведческими комментариями, содержащими элементы анализа и интерпретации. Так, жизнь и творчество Гете находятся в центре внимания А.А. Аникста [22], А. Бельшовского [35, 36], Н.Н. Вильмонта [45], Д.Г. Льюиса [84, 85], Э. Людвига [86], СВ. Тураева [118], Н.А. Холодковского [126]. Метаморфозы «Фауста» отражены и в обширном биографическом сочинении К.О. Конради [66, 67].
Немецкий исследователь Н. Бойле, автор монографии «Поэт в своем времени» [147], определяет главный принцип своего подхода к предмету, исходя из представления о невозможности отделить жизнь писателя от творчества, этапы биографии, соответствующие времени создания каких-либо произведений, - от самих произведений. В этом контексте могут быть оправданы и весьма «экзотические» на первый взгляд работы. Так, сквозь призму естественнонаучных сочинений Гете рассматриваются вехи его творческого пути, в том числе и «Фауст», в монографии Д.М. Ноэ-Румберг «Законы природы как поэтические принципы» [173]. Феноменологический метод позволяет автору исследования описать поиски Гете прафеноменов в природе, а затем вычленить их в «Фаусте». Другой пример весьма нетрадиционного совмещения биографического материала с наблюдениями над поэтикой текста - работа У. Гайера «Магия: Гетевский анализ современных форм отношений в "Фаусте"» [155]. Автор разделяет трагедию на семь частей: драма ученого и драма Гретхен, а также пять актов «Фауста II». По его мнению,
каждой из названных частей соответствует определенная форма магии, крушение которой демонстрирует Гете. Автор работы, по его словам, описывает формы магии сначала независимо от текста, затем делает наброски поэтических картинок и моделей, в которых нуждался Гете, чтобы представить данные феномены.
В русле биографического подхода выделяются отдельные работы, посвященные непосредственно истории создания и рецепции «Фауста». К первому варианту трагедии Гете обращена содержательная работа В. Ноллендорфса «Спор вокруг "Прафауста"» [174]. Исследователь уточняет хронологию создания текста, выделяет концепцию, лежащую в основе произведения, анализирует систему образов и особенности стиля. Обывательской критике и интерпретациям «Фауста», его переделкам, переработкам и цензурным искажениям посвящена книга К. Нисслена «"Фауст" как грязь и хлам. Сатировская драма к трагедии. С эпилогом на федерально-демократической сцене» [172].
«Фаусту» как труду всей жизни Гете были посвящены многие издания
«
девятнадцатого и двадцатого веков. Из огромного количества исследований такого рода укажем показавшиеся нам ценными и интересными работы, сопровождающиеся подробными комментариями: И. Баб «"Фауст". Труд жизни Гете» [141], К. Фишер «"Фауст" Гете после своего возникновения, идея и композиция» [153], очерк В.М. Жирмунского «Творческая история "Фауста" Гете» [60]. Из современных исследований хотелось бы выделить статью Е.И. Волгиной «От замысла к свершению. (Споры о "Фаусте" в послевоенном советском гетеведении)» [48]. С учетом различающихся по ряду вопросов позиций трех выдающихся советских гетеведов Б.Я. Геймана [53, 54], Н.Н.
Вильмонта [44, 45] и И.Ф. Волкова [50], автор статьи делает ценные уточнения относительно истории создания «Фауста» и конкретных событий (Французская революция, наводнение в Петербурге 1824 г.), повлиявших на работу над трагедией.
Так или иначе, все биографические исследования затрагивают немаловажный аспект культурно-исторических реалий и их влияния на формирование специфики эстетических взглядов Гете и художественных особенностей его трагедии «Фауст». Культурно-историческая панорама времени написания «Фауста» развернута в работе Д. Борхмайера «Гете. Гражданин времени» [146], где ставится вопрос о важной связи творящей личности и ее эпохи (Гете - «гражданин времени», а не «гений, отказавшийся от своего времени»). В весьма любопытной монографии Х.К. Бинсвангера «Деньги и магия: толкование и критика современного хозяйства сквозь призму "Фауста" Гете» [143] исследуется ряд проблем, отражающих интерес Гете к экономическим процессам эпохи: хозяйственная деятельность как алхимический процесс и экономика в «Фаусте»; хозяйство, наука и искусство в попытках Фауста преодолеть прошлое; Гете и экономика. Юридические проблемы и их отражение в «Фаусте» оказываются в центре внимания Георга Мюллера в монографии «Право в "Фаусте" Гете» [168].
Рассмотрение «Фауста» в типологическом ключе - другой хорошо разработанный подход к трактовке новаций в идейном потенциале и образности трагедии. Ряд работ разных лет раскрывают историю Фауста как «вечный» сюжет, а образ самого Фауста как пример вневременного литературного типа. Еще К.'Д. Бальмонт в своем предисловии к переводу «Трагической истории доктора Фауста» [29] утверждал, что Гете исказил средневековую легенду, лишив ее трагизма, что дарует его произведению статус «библии неверия». В исследовании Г. Хенделя «От немецкой народной легенды к гетевскому "Фаусту"» [160] и очерке В.М. Жирмунского «История легенды о Фаусте» [60] прослеживается эволюция образа Фауста и таким образом акцентируется новаторство проблематики трагедии Гете. Истории образа Фауста в мировой литературе и музыке с XVIII в. до середины XX в. посвящена глава книги A.M. Ступеля [111].
Прочтение образа Фауста в сопоставительной перспективе оказалось весьма успешным в ряде работ отечественных исследователей (А.И. Дейч [57], В.Г. Адмони и Т.Н. Сильман [15]). Трактовке фаустовского сюжета в посвящены статья И. Голик [55], диссертация Г.Г. Ишимбаевой [63].
Выделим также обширное и содержательное исследование И. Гербер-Мюнх «"Фауст" Гете. Глубоко психологическое учение о мифе современного человека» [156], написанное в русле архетипической критики. Монография предваряется докладом К.Г. Юнга «Фауст и алхимия» и представляет собой своеобразное, но вместе с тем, подробное и последовательное юнгианское прочтение трагедии.
Другая перспектива в рассмотрении новаторства Гете прослеживается в работах, так или иначе затрагивающих проблему художественного метода. Так, монографии Б.Я.Геймана [53], И.Ф. Волкова [50] имели своей целью представить трагедию как результат нового этапа просветительской литературы. В частности последний рассматривал сложный процесс формирования творческого метода писателя в различных плоскостях взаимодействий с просветительской, романтической и даже реалистической литературой. Сложившийся в результате метод получил название «универсально-исторический реализм». По мнению исследователя, введенный им термин указывает на промежуточное положение творческих принципов, сложившихся в «Фаусте»: с одной стороны - «универсальный реализм» литературы Просвещения, с другой - «конкретно- исторический» реализм литературы XIX-XX веков.
Существует традиция рассматривать «Фауст» и как романтическое произведение. Под данным углом зрения прочел трагедию еще И.С. Тургенев [122], что отразилось в его известной статье на перевод «Фауста» М. Вронченко, относящийся к 1884 году. В русле романтической литературы «Фауст» рассматривают Г.А. Корф [163] и И.Г. Неупокоева [96].
Полемике вокруг творческого метода гетевского «Фауста» способствуют и весьма неоднозначные суждения относительно жанрового своеобразия произведения, недвусмысленно указывающие на глобальное переосмысление и философский по размаху синтез литературных жанров и традиций.
Проблема жанровой специфики ставится в статьях Н.С. Лейтес «О жанровой природе "Фауста" Гете» и «"Фауст": типология жанра» [75, 76]. Автор делает вывод о высокой синтетичности жанровой организации произведения, которая не позволяет найти для него исчерпывающее жанровое определение: в «Фаусте» совместились элементы мистерии, моралите, миракля, эпической поэмы, трагедии, философской, мещанской, исторической драмы, рыцарского романа, фарса, классической комедии, маскарадного действа, волшебной оперы.
В работах В.А. Аветисяна [12, 13, 14] и С. В. Тураева [119] ставится вопрос о возможности соотнесения трагедии «Фауст» с гетевской концепцией мировой литературы.
Поэтические особенности «Фауста» - пожалуй, неисчерпаемый источник вдохновения для литературоведа. Практически все области исследования поэтики текста были так или иначе затронуты в вышеупомянутой критической литературе, а также явились предметом специального рассмотрения в ряде работ, посвященных проблемам композиции, системы персонажей, временно-пространственной организации текста, функционированию лейтмотивов, аллюзий и т.д. (особо выделим работы Е.И. Волгиной [47], Г. Шольца [181], А.Биндера [142], Я Штайнера [184], П. Реквадта [177], X. Аренса [140], К. Моммзен [166], П. Фридлендера [154], Т.В. Адорно [138], И. Мюллера [169], М. Ноймана [171], В. Мальта [164]).
Вместе с тем, отдавая должное огромным успехам, достигнутым гетеведением, необходимо отметить незаслуженно малый интерес к идейному и поэтическому значению античного интертекста в «Фаусте» Гете, отсутствие серьезных попыток систематизации античных мотивов в тексте и рассмотрения
всего комплекса античных мифологических вкраплений как единой целостной мифологической концепции Гёте-художника.
Отметим ряд работ и научных идей, весьма полезных для исследуемой нами темы и составляющих необходимый фундамент для выработки концепции, которая будет предложена в основной части данного диссертационного исследования. При всем разнообразии методов и масштабов исследования, отмеченные далее работы необходимо связаны с темами «Гете и Античность», «Гете и миф».
Весьма содержательным нам представляется исследование Э.Р. Швинге «Гете и поэзия греков» [182]. На основании всех доступных ему биографических и мемуарных источников автор рисует развернутую картину знакомства Гете с греческой поэзией. Начиная с утверждения, что познания Гете в области греческой литературы были весьма обширны, Швинге составляет перечень греческих авторов, которых Гете читал в переводе или оригинале, часто возвращаясь к излюбленным текстам. В данный перечень вошли авторы эпических поэм (Гомер и Гесиод), архаические лирические поэты (Сапфо, Тиртей, Солон, Семонид, Феогнид, Стесихор, Ивик, Пиндар, Вакхилид, Анакреонт), греческие трагические поэты эпохи классики (Эсхил, Софокл и Еврипид), комедиографы (Эпихарм, Аристофан, Антифан, Алексид, Менандр и Филемон). По всей видимости, Гете не остались неизвестны Феокрит и Аполлоний Родосский. Гете хорошо знал Мосха и Биона, эпиграммы Греческой антологии, эпика Нонна и автора эпиллия о любви Геро и Леандра Мусея. Он, как указывает Швинге, читал сочинения Лукиана, романы Ксенофонта Эфесского и Лонга, внимательно изучал труды философов (от Платона и Аристотеля, через стоиков до Плотина) и историографов (от Геродота и Фукидида через Полибия и Диодора до Плутарха, Аппиана и Арриана). Читал он и медицинские сочинения Гиппократа, речи греческих ораторов, опусы грамматика Афинея и лексикографа Гесихия.
В связи с трактовкой античных мотивов у Гете, возникает закономерный интерес к сфере рецепции и трактовки «Античности» и «античного» в культурно-историческом контексте рубежа XVIII- XIX веков.
Греко-римская древность, которая, начиная с XVIII века, именуется Античностью, являясь в хронологическом смысле более или менее далеким прошлым для последующих этапов культурного развития человечества, по сути, была современна всегда. В связи с тем, что античная культура повлияла на процесс формирования и дальнейшего становления национальных культур большей части Европы, были созданы уникальные условия для того, чтобы Античность обрела статус вечно современного культурного феномена. Вневременная актуальность Античности выразилась в потребности все новых и новых ее интерпретаций. А каждая новая интерпретация рождала «новую» Античность, при этом, по словам С.С. Аверинцева, объем понятия «Антич-
ность» зависел «часто от субъективных представлений о ней, а не от объективного знания» [10, б].
Каждая новая концепция Античности, открывая лишь некоторые грани феномена, как правило, отражала устремления своей эпохи. Таким образом, каждый новый облик классической древности может характеризовать не только (или не столько) Античность, сколько ее толкователей. Так, Возрождение искало в ней, как писал А.Ф. Лосев, «оправдание для своей критики средневекового аскетизма», а «французский «классицизм» понял античность со стороны "bon sens", "raison", «здравого смысла», того стройного изящества неглубоких, красивых и часто весьма выразительных форм, которыми так богат французский классический язык» [79, 10-11]. В результате, Античность обрела несколько судеб, и каждое обращение к ней, каждое ее возрождение служило вехой, обозначающей начало нового этапа в культурной истории человечества.
Таким образом, современный исследователь сталкивается с феноменом неравнозначности терминов «античное» и «Античность» по отношению к
самим себе и в применении к разным эпохам и разным направлениям мысли. М.М. Алленов констатирует: «Поэтому речь не может идти о том, в какой мере выдаваемое каждой эпохой за античное было античностью в подлинном смысле, ибо это значило бы заявить претензию на обладание последним знанием об античности, то есть абсолютизацией одной из ее исторических версий. Речь может идти лишь об этих версиях, о том, чем она была для каждого данного этапа, то есть о функциональном значении античности в различные эпохи культурной истории и в различной среде» [17, 24].
В связи с обозначенной выше проблемой, именно версия Античности И.И. Винкельмана и ее рецепция великими современниками Винкельмана требует особого внимания.
Одним из последствий римских побед в Западной Европе стало привилегированное положение латыни, которое во многом обусловило исторический казус: вплоть до конца XVIII века Античность постигается, по словам А.В. Михайлова, «в исторически обратном порядке» [90, 588]: Рим современный - Рим древний - Греция. При этом, благодаря единству риторической традиции, греческое и римское в культурном отношении не различаются.
Событием, наметившим разрыв в восприятии «единой риторической традиции», стал выход в свет в 1764г. «Истории искусства древности» И.И. Винкельмана, который приписал «причины успехов и превосходства греческого искусства над искусством других народов» влиянию «отчасти климата, отчасти государственного устройства и управления, и вызванного ими склада мыслей, но, не менее того, и уважению греков к художникам и распространению и применению в их среде предметов искусства» [46, 258].
Искусство императорского Рима - идеал эпохи Возрождения и классицистов XVII века - уступило место «простоте и величию» искусства демократических Афин. Впервые Греция была противопоставлена Риму.
Кризис «единой риторической традиции» ярко проявился и в области восприятия мифологического'багажа Античности. А.В. Михайлов заметил, что до определенного историко-литературного периода римские имена считались правильными именами «единого поэтико-риторического пантеона, и когда в конце XVIII в. в немецкой культуре греческие «синонимы»... начинают высвобождаться из своей подчиненности римским именам, то это как раз и свидетельствует о распадении единой риторической традиции, тут все греческое начинает восприниматься в своей культурной обособленности, в нем ощущается большая изначальность по сравнению со всем римским» [90, 588].
«История искусства древности» содержит первую целостную концепцию Античности, главное и непререкаемое открытие которой обязательно учитывается последующими интерпретациями. Это открытие А.Ф.Лосев формулирует так: «Она (Античность - И.Ч.) не просто прекрасна, как прекрасна всякая законченная культура, но она в самом существе своем в самой своей специфичности содержит связь с художественным творчеством и искусством» [79, 15]. Теория Винкельмана скорее описательна, чем аналитична и доказательна. Тем не менее Гете назвал Винкельмана Колумбом, а Шеллинг конкретизировал: «Своим учением он заложил основу той всеобщей системе познания и науке о -древности, которую стали разрабатывать позже. Ему первому принадлежит мысль рассматривать произведение искусства по законам вечных творений природы» [131, 57].
С. С. Аверинцев в статье «Образ античности в западноевропейской культуре XX в.» [10] характеризует современные воззрения на классическую древность относительно эпохи, хронологические рамки которой определяются в зависимости от следующих исторических событий: ее началу соответствуют выход в свет «Истории искусства древности» Винкельмана (1764) и «Лаокоона» Лессинга (1766), а завершают - смерть Гете (1832) и Гегеля (1831). По Аверинцеву, наивное резюме Винкельмана о «благородной простоте и
спокойном величии» греков, их «величавом образе мыслей и эстетически выдержанном вплоть до мелочей быте» обладает несомненным преимуществом цельности, последовательности, логичности перед фрагментарностью представлений об Античности последующих интерпретаторов: «Оно «идеально» потому, что оно «идейно»» [10,5].
«История искусства древности», по замечанию Г.А. Недошивина, - «эта исторически построенная книга стала кодексом вневременного совершенства классики. Само историческое изложение было не чем иным, как зрелищем восхождения к идеалу и картиной последующей его порчи» [94, 34]. Просветители, вместе с шиллеровским «сентиментальным» поэтом тосковавшие «о погибшей цельной красоте» [79, 19], о гармонии между предметом и идеей, о согласии природы и разума, нашли искомое соответствие в «наивной» Античности.
Открытие Винкельманом непосредственной связи греческой культуры с природой имело своим продолжением философско-эстетический тезис о необходимости разграничивать «истинную» (высокую) природу и природу «действительную» (низкую). Греческая культура, та, которой восхищался Винкельман, несомненно, проявляет черты природы истинной, а, значит, может быть названа идеалом, вечным, необходимым и неизменным идеалом, который составляет контраст изменчивой и суетливой современности. Аверинцев замечает, что именно разделение на «истину» и «действительность» позволило даже назвать эпоху рабства эпохой торжества человеческого достоинства (рабство относилось к сфере «действительности», торжество человеческого достоинства - к сфере «истины») [10,6-7]. Благодаря этому же разграничению Шиллер смог сделать вывод о том, что классика жила и умерла во времени лишь на уровне «действительности», а на уровне «истины» она лишь изъята из времени.
В большинстве работ, посвященных Античности Винкельмана, прослеживается тезис об особом восхищенном любовании ею, характеризую-
щем современников Винкельмана. Античность предстает как самодостаточный эстетический объект, несмотря на то, что ее «фундамент» состоит из множества исторических недоразумений. Вместе с тем, данный вопрос до сих пор вызывает научную полемику. Так, Ф. Ридель, не отрицая величия заложенной Винкельманом и завершенной Гердером, Гете и Шиллером немецкой классической картины Греции, выделяет ее иллюзорный характер и считает ее свидетельством «идеологической экзальтации» [106, 190] немецкого бюргерства, от которой, по его мнению, был свободен Лессинг. Таким образом, ученый на первый план выдвигает не преимущество цельного представления об Античности, восходящего к работам Винкельмана, а моменты эстетических размышлений, в той или иной степени искажающие действительный облик античного мира.
В любом случае, именно очерченный эстетическими работами Винкельмана облик Античности стал сердцем концепции Веймарского классицизма. В немецкой традиции тот же самый культурно-эстетический феномен определяется как «классика», чтобы максимально отмежевать его от французского классицизма XVII - XVIII веков и немецкого классицизма начала XVIII века. А.В. Михайлов так объяснил предпочтение, отдаваемое второму термину: «"Классика" понимается здесь не только и не столько в смысле образца, сколько в смысле поэтической системы, метода, стилистического склада. Классика - это тоже господство в поэзии меры и гармонии, но она строится не на узком отрезке стилистически аккуратно обработанной реальности, не на дистилляции жизненной полноты, как у Расина, а на конкретно-чувственном, полнокровном, телесном жизненном изобилии, сводимом в единство античного, греческого, скульптурного облика. Античная скульптура с ее классической гармонией и рассматривается как идеал искусства вообще (так начиная с Винкельмана); поэзия покоится на созерцании пластической идеальной красоты и сама должна вызывать у читателя такое ощущение и созерцание красоты» [90, 486-487].
Говоря о непосредственном воплощении в произведениях Гете античного идеала, сформировавшегося под влиянием идей И.И. Винкельмана, вспоминают о двух его известных образах - Ифигении и Елене. Если Елена чаще связывается с представлением об идеальной пластической красоте, то Ифигения являет собой идеал «благородной простоты и спокойного величия»*. В аспекте особой духовной связи с Античностью всегда рассматривается некая группа ключевых фигур, определяющих целую эпоху немецкой культуры. Так, Генрих Волков нюансирует особенности взаимоотношений с феноменом Античности двух знаковых личностей - Гете и Гегеля - в контексте сопоставления Гете с его Фаустом, а Гегеля с Вагнером. По мнению исследователя, если Античность сказалась у Гете во всем, от образа жизни до тематики произведений, «она стала для него воротами в «поэзию и правду» жизни, то для Гегеля Античность - ворота в философию, и только в философию» [49, 60]. Для Гегеля древность - вечный источник мудрости. Гете же «не берет на вооружение готовые выводы и мысли древних греков, он хочет просто постигать мир столь же непосредственно, целостно, детски наивно, но мудро и глубоко, как они. Как они, Гете и философ, и поэт, и деятель в одном лице: в каждый момент своего бытия и творчества» [49, 60].
Итак, Гете вместе со своим временем и более других в своем времени оказывается связан с Античностью в самых разнообразных ее проявлениях. Тем не менее в безграничном океане гетеведения обращения к данной теме возникают лишь спорадически. Выделим ряд работ, на тех или иных основаниях включающих разбор античного материала, используемого Гете.
Отечественным гетеведением не был затронут один из важнейших, на наш взгляд, аспектов проблемного комплекса «Гете - Античность», а именно, не проанализированы взгляды Гете на миф. Такое положение вещей объясняется, по всей видимости, тем фактом, что представления Гете о мифе не
* В качестве оригинального подхода к трагедии «Ифигения в Тавриде» отметим главу монографии Карла Мауера «Гете и романский мир» «Французская Ифигения», где образы Гете рассматриваются сквозь призму их
были им самим сведены в единую теорию, которая была бы последовательно изложена в каком-либо из его трудов. Тем не менее по убеждению немецких исследователей, говорить о том, что у Гете к определенному периоду его творческой биографии сложился комплекс идей о феномене мифа, есть основания.
В давно увидевшем свет, но весьма содержательном труде Ф. Штриха «Мифология в немецкой литературе от Клопштока до Вагнера» представление мифологических воззрений Гете начинается с параграфа о «постижении символического» [185, 297]. Далее внимание уделяется принципиальному для Гете положению о генетической связи символического в искусстве, природе и мифологии.
Ф. Штрих пишет: «Понятие символа было впервые применено в XVIII веке к греческому учению о богах. Хейне был основателем символической мифологии. Но Гердер перенес его концепцию с греческой на все мифологии и, наконец, на поэзию всех народов. Мифотворчество, создание символов и поэтическое творчество представлялись ему сущностными формами человеческой способности к познанию». [185, 297] Символика греческой мифологии, по Гете, заключена в ее «чистой человечности»: «Она представляет особенное во всеобщем. Ее отдельные персонажи представляют идеальную человечность (человеческую природу). Ее случайные судьбы отображают великую необходимость события. Так, символическое есть вечно человеческое, необходимое и типическое». [185, 300]
Четко разграничивавший символ и аллегорию Гете, по мнению Ф. Штриха, создал образец как раз символического образа - свою Ифигению -еще до того, как у него полностью сложилось представление о символическом. Далее исследователь приводит, комментируя, ряд примеров поэтического применения Гете образов и мотивов греческой мифологии. «Прекрасные формы греческой мифологии» [185, 307], по природе своей заключающие
сходства с образами Расина.[1б5]
человечность в чистом виде, могут дополняться нюансами представлений других эпох о соответствующих им идеалах. Именно так обстоит дело с фрагментом драмы «Пандора», где (в некотором смысле от обратного) Гете представляет «свой идеал неразделенного человека» [185, 307] науки и искусства.
Важное значение для нас имеет также вывод о близости теории мифа Карла Филиппа Морица и мифологических взглядов его более известного друга, сделанный Р. Вейманом в монографии «История литературы и мифология». Для Р. Веймана является достоверным фактом, что «Учение о богах» (1791) К.Ф. Морица было написано «по настоянию и советам Гете» [40, 267], в подтверждение чему приводятся слова из письма К.Г. Кернера Ф. Шиллеру: «Быть может, весь взгляд на мифологию заимствован у него (Гете - И. Ч.). Ц. Тодоров выражает сомнение во всеобъемлющем влиянии Гете на Морица, в том, что «Мориц был всего лишь отблеском гения Гете, глашатаем его идей» [116,179]. Не пытаясь в данном случае определить степень воздействия Гете на Морица, мы лишь укажем, что, обратившись к авторитету Гете, Р. Вейман признал совпадение точек зрения Гете и Морица на миф, по крайней мере, в кругу идей, затронутых «Учением о богах».
Анализируя труд Морица, Р. Вейман акцентирует внимание на центральной идее исследуемой концепции: миф есть «язык фантазии», избегающей «всех абстрактных и метафизических понятий, которые могли бы помешать ее созидательной деятельности» [40, 267]. Выводы, к которым пришел Мориц, признав связь между мифотворчеством и фантазией и приняв во внимание точку зрения на миф знатока древней поэзии разных народов Гердера, Вейман сводит к трем положениям: во-первых, «в мифе человеческое начало есть начало поэтическое, его творческая сила не терпит никаких метафизических и аллегорических истолкований» [40, 267], во-вторых, «миф содержит не «истинную историю», а историческую истину» [40, 268], в-третьих, «бытие мифа есть его становление» [40, 268]. Таким образом,
эстетическое любование мифом органично сочетается с процессом философского познания истины.
Не отрицающий сходства эстетических воззрений Морица и Гете, но провозглашающий самостоятельную значимость достижений менее известного из двух единомышленников, Ц. Тодоров, вслед за К. Кереньи, признает, что Морица следует считать основателем современной мифологии, а «Учение о богах» - «отправной точкой всякого исследования в области мифологии и в настоящее время» [116, 193]. Открытый Морицем подход к изучению мифа Тодоров кратко формулирует следующим образом: «Вместо того чтобы приравнять греческие мифы к обычному историческому повествованию или же, совершая противоположную, но симметричную ошибку, превращать их в некий каталог аллегорий, иллюстрирующих те или иные абстрактные положения, Мориц ограничивается выявлением составных частей каждого мифа и каждого мифологического образа, показывая их взаимосвязи, равно как и связи мифов между собой». [116, 193] Кроме того, важным положением теории Морица, с точки зрения французского исследователя, является признание генетической связи между мифологией и искусством: и в той и другой области господствует «нетранзитивное значение (будущий символ)» [116, 193]. Для Гете, как и для Морица, категория «символа» становится фактически необходимым ключом к пониманию мифа.
В освещении В.М. Найдыша, автора монографии «Философия мифологии. От античности до эпохи романтизма» [93], мифологические воззрения Гете формулируются в перспективе «осознания (веймарцами -И.Ч.) культурно-исторической разделенности во времени античного и современного искусства и невозможности ее преодолеть в целом». [93, 441] По мнению исследователя, «"Веймарский (нео)классицизм" формирует представление о мифе как чисто поэтической форме, сложившейся в своей конкретно-исторической обстановке. Гете...видел в мифе первую, исходную форму выражения творческих возможностей неудержимой человеческой фантазии».
[93, 442] Созидательная фантазия пронизывала в первобытные времена все проявления человеческой духовной деятельности. Понятийное мышление разрушило творческий потенциал фантазии - образы богов были вытеснены понятиями.
«Учение о богах» К.Ф. Морица представлено В.М. Найдышем как итоговый анализ мифа веймарской эпохой, окончательное разоблачение аллегорической и эвгемерической трактовок мифа. Миф в «Учении» трактуется не как сумма абстрактных олицетворений, смыслов или ассоциаций, а как внутренне обусловленная целостность, характеризующаяся тем, что смысл каждого элемента «просвечивает» все другие элементы. «Свободная творческая индивидуальность конструировала миф как поэтическую форму в соответствии с логикой жизненно-бытийных ситуаций. Именно эти обстоятельства, характер типологизации и генерализации образов определяют не аллегорический, а исторический и символический характер мифа.» [93, 444] Концепция Морица сводится исследователем к следующим положениям: миф есть явление истории, миф есть поэзия (при совмещении данных тезисов получается, что миф - это праформа человеческой духовности). «Мир греческих богов - целостность, целостное произведение искусства, а образ каждого бога — символ как единство общего и особенного. Миф самоценен как выражение прекрасного; он создается гением, который подражает не природе, а ее активности.» [93,444]
Весьма перспективным нам представляется подход немецкого философа К. Хюбнера, который использует принципиально иной метод реконструкции мифологических представлений Гете. Он предлагает воспроизведение основных положений гипотетической системы, исходя из материала, предоставляемого литературным наследием великого немца.
Третий раздел третьей главы его монографии «Истина мифа» носит название «Интерпретация мифа как поэзии и "прекрасной видимости"» [127, 43-45], хотя начинается уже традиционным зачином. Автор указывает на
непосредственную связь этой теории с «классическим образом мира» [127, 43], созданным Винкельманом и Гете, и называет основных ее представителей К.Ф. Морица, К.А. Бёттигера и братьев Шлегелей.
Хюбнер начинает анализ, цитируя труд Морица с того места программного введения к «Учению о богах», где декларируется отказ от эвгемерического и аллегорического истолкования мифа и необходимость с самого начала «принять (мифы -И.Ч.) такими, какие они есть, не принимая во внимание то, что они должны значить». [127, 44] (Это именно то место, на котором концентрируют свое внимание все исследователи.) Признав, что квинтэссенция теории Морица может быть заключена во фразе: «Миф есть поэзия»,- Хюбнер находит в «Поэзии и правде» слова, по мысли совпадающие с позицией Морица, но более отчетливо ее выражающие: «Пусть об этом предмете можно размышлять, как бывало, философским и даже религиозным образом, все-таки принадлежит он собственно к поэзии» [127, 44]. И далее излагается уже только концепция Гете, какой она представляется Хюбнеру.
Творящей силой как в области мифопоэтического, так и в природе, является фантазия, поэтому «поэзия и естествознание не могут быть строго отделены друг от друга» [127, 44]. Механизм постижения глубинных истин природы (прафеноменов) близок к творческому процессу: проникнуться «вечными идеями творения, которые руководят как природой, так и художником» [127, 44]. Но суть прафеномена в бесконечном рождении все новых и новых образов, в этом же смысл художнической деятельности. Миф, являясь поэзией, творит подобно природе. Прафеноменологический смысл мифотворчества - в создании как единичного образа, так и бесконечного ряда вариантов-метаморфоз исходной формы.
Различие же между мифом и поэзией состоит в том, что миф предоставляет поэту материал для творчества. Тем не менее и миф, и поэзия способны постичь высшую истину, так как по глубинной своей сущности они являются ее отражением. (Ту же мысль встречаем в уже упомянутом труде
В.М. Найдыша, выделяющего пантеистический характер мировоззрения поэта: «По мнению Гете, ... творческие силы человека - это выражение творящей и организующей силы природы. Он был склонен не преувеличивать границы между наукой и поэзией, считал, что в мифе следует видеть некоторую истину, первую из известных нам форму проявления идеального, божественного и реального "глубинного единства мира"». [93, 443])
В интерпретации Хюбнера теория Гете перестает быть эстетической, несмотря на то, что самим исследователем отнесена к этому разряду. Эстетический смысл сменяется онтологическим, в связи с чем усиливается момент познавательной ценности мифа.
Реконструкция Хюбнера убедительна, так как учитывает не только предполагаемое сходство с теорией Морица, но и уравновешивает взгляды Гете на миф с его естественнонаучными идеями и представлениями о творческом процессе. По нашему мнению, именно такой подход к проблеме, учитывающий единый универсальный опыт Гете, лежавший в основе всего, что тот когда-либо делал, является наиболее объективным.
Тем не менее предполагаемую мифологическую теорию Гете в контексте нашего исследования необходимо уточнить: концептуальные замечания Гете относятся именно к греко-римскому мифологическому ареалу. К такому выводу можно прийти, проанализировав огромное литературное наследие автора, проявлявшего активный и постоянный творческий интерес только к образам античных мифов. Косвенным объяснением такому положению вещей могут служить слова самого Гете по поводу мифов скандинавских: «Я успел сжиться с ними, более того - эти сказки я всего охотнее рассказывал в обществе, когда меня о том просили, - но - они были далеки от правдивого, к которому неуклонно влеклась моя душа». То, что категория «правдивого», «истинного» может быть применена к греческим мифам, следует из сформировавшегося под влиянием представлений Винкельмана о греческой культуре общего настроя эпохи, которая разграничи-
вала сферы «истины» и «действительности». С другой стороны, логично предположить, что мифологические воззрения Гете окончательно сформировались в «самый античный» период его творческой биографии - в период Веймарского классицизма, причем условным хронологическим ориентиром здесь может служить 1791 год - год, когда было опубликовано «Учение о богах» К.Ф. Морица.
Восстанавливаемые исследователями мифологические взгляды Гете, по нашему мнению, нашли свое последовательное художественное воплощение. Параграф шестой «Концептуальное мифотворчество» первой главы нашей работы реконструирует мифологическую концепцию Гете на материале трагедии «Фауст».
Вышеупомянутые исследователи обращались к теме с позиций культурно-исторических, биографических, философских и эстетических, а в случае с Хюбнером можно отметить попытку взглянуть на античный миф Гете сквозь призму герменевтики текста. Вместе с тем, данные работы носят в основном обзорный или обобщающий характер и не ставят целью показать диалектику органических связей между концептуальными воззрениями на миф и поэтикой текста.
Группа работ, в разной степени касающихся античных мотивов в «Фаусте» Гете, занимает прямо противоположное положение: подчас за эффектными и тонкими наблюдениями над поэтическими особенностями текста не прочитывается единая и целостная мифологическая концепция. Тем не менее необходимо упомянуть исследования, непосредственно связанные с разными аспектами мифопоэтики «Фауста» Гете.
Так, «Фауст», вписанный в эпоху и нашедший место в творческой биографии автора, подвергается мотивному сопоставлению с тетралогией Вагнера в разделе монографии Д. Борхмайера о двух образах мифа XIX века — «Фаусте» и «Кольце Нибелунга».[146]
Первому варианту трагедии Гете посвящена содержательная работа В. Ноллендорфса, который в своей монографии «Спор вокруг Прафауста» [174] не только уточняет хронологию создания текста, но анализирует систему образов и особенности стиля.
Хотелось бы также отметить подробные разъяснения к первой части Я. Штайнера [184]. Композиция первой части трагедии является объектом исследования П. Реквадта в его обширной монографии «Первая часть «Фауста». Лейтмотивы и архитектоника» [177], а также Е.И. Волгиной в статье «О некоторых структурных особенностях первой части "Фауста"» [47].
Обращает на себя внимание очень подробный, практически построчный, комментарий X. Аренса ко второй части «Фауста» [140], учитывающий мнения разных исследователей. Работа снабжена рядом экскурсов-отступлений, расширяющих интепретационное поле, которое первоначально было ограничено рамками комментария (например, девятый экскурс посвящен становлению Фауста «через мир Елены»).
Весьма интересные наблюдения представлены в сборнике статей, изданных В. Келлером и посвященных разным проблемам первой части «Фауста». Царства природы и фантазии второй части «Фауста» являются объектом анализа в монографии К. Моммзен [166]. Оригинальный подход демонстрирует исследование П. Фридлендера «Ритмы и ландшафты во второй части "Фауста"» [154].
В этой связи выделим уже упоминавшееся интереснейшее исследование И. Гербер-Мюнх «"Фауст" Гете. Глубоко психологическое учение о мифе современного человека» [156] и диссертационное исследование И.Б. Казаковой «Интеллектуальная традиция герметизма в "Фаусте" Гете» [64].
Первая часть монографии М. Ноймана «Вечно женственное в "Фаусте" Гете» [171] обращена к финальной сцене трагедии, которую автор анализирует, доказывая ее органическое единство со всем произведением. Категория вечно женственного рассматривается с точки зрения ее воплощений (Матери, Галатея,
Елена, Mater gloriosa). Одно из названных воплощений вечно женственного -Елена - оказывается в центре внимания В. Мальта в его статье «Второе заклятие Елены в "Фаусте" Гете» [164], где исследователь решает вопрос об аллегорической или символической природе этого образа в пользу последней из версий. В определенном смысле символике вечно женственного посвящены работы Л.М. Левиной о концептуальном значении образов Маргариты и Елены в трагедии Гете «Фауст» [72, 73].
Особняком стоит обзор античных размеров в творчестве Гете, проделанный Эмилем Штайгером [183]. Исследователь утверждает, что в почти необозримом литературном наследии Гете встречается только определенный подбор греческих и латинских метров. К примеру, вся система хоровой лирики почти не нашла применения в его творчестве. Штюрмеры ее не знали, а самому Гете казалось, что своими «свободными ритмами» он поет в манере Пиндара. Затем он уже не будет воспроизводить размеров хоровой лирики, кстати, от них откажутся почти все великие немецкие поэты.
С юности Гете были хорошо известны одические строфы, и все-таки он лишь однажды в «Магомете» (1775) попытался применить третью асклепиадо-ву строфу.
Можно допустить, что частично «Пандора» представляет собой, с точки зрения размера, некую переработку ионика и хориямба.
К классическим размерам относятся элегический дистих и гекзаметр. Несмотря на то, что еще ребенком он вместе с сестрой читал «Мессиаду», несмотря на то, что во времена «Вертера» эпос Гомера везде его сопровождал, первое стихотворение гекзаметром Гете пишет только в 1780 году (самой ранней пробой гекзаметра считается шуточное стихотворение о Клопштоке «Он и его имя»). Тонический рисунок эпиграмм из Греческой антологии, переведенных Гердером в 1772 г., Гете использовал, создавая стихотворения «Избранная скала», «Одиночество», «Сельское счастье», «Филомела», «Парк» и другие стихи. «Римские элегии» открывают «десятилетие гекзаметра». По
мнению исследователя, настоящие гекзаметры Гете ошибочно принято считать дистихами. Одним из удачнейших применений гекзаметра является также стихотворное учение о метаморфозе животных.
Более того, стихи, которые были обязаны своим возникновением авторитету древних, на определенной ступени творческого пути Гете явились закономерным и необходимым этапом для формирования его собственной оригинальной ритмики. Эпические и элегические размеры уступают место драматическим. Э. Штайгер считает, что собственные гетевские триметры сформировались из белого стиха, которым были написаны оба предитальян-ских варианта «Ифигении» и «Тассо». Ямбические триметры активно применялись Гете после 1800 г. (в сценах «Палеофрона и Неотерпы», «Елены», «Пандоры», во фрагменте классически-романтической драмы «Трон льва»).
Сравнительный анализ оригинальной метрики «Фауста» и метрики перевода трагедии, выполненного Б. Пастернаком, представляет B.C. Баевский в своей очень содержательной статье «"Фауст" Гете в переводе Пастернака» [28].
Весьма обширная и быстро пополняющаяся библиография работ, посвященных «Фаусту», демонстрирует высокую степень исследовательского интереса к трагедии и разнообразие подходов к изучению произведения. Вместе с тем, как стало очевидно из проведенного обзора состояния научной разработанности темы исследования, формирование целостной концепции античного мифа в «Фаусте» по-прежнему лежит вне основных интересов исследователей. Осмысление античного пласта трагедии, без анализа которого не представляется возможным приблизиться к полному пониманию трагедии, нуждается в серьезной систематической проработке, что объясняет его выбор как объекта данного диссертационного исследования.
Актуальность темы исследования. «Фауст» — произведение, в котором концентрированно проявились и интерес к мифологии античного мира, и ее знание в тончайших подробностях. Данный факт совершенно очевиден для комментаторов и литературных критиков. Однако античные мотивы и образы в большинстве случаев получают в примечаниях лишь краткое объяснение их собственно мифологического содержания, без учета глубокой специфики их появления и функционирования в тексте произведения. Назрела необходимость рассмотреть античные образы «Фауста» в их комплексе, системно, с выделением внутренних связей и их непосредственного отношения к концепции мифотворчества Гете.
Основной целью настоящей работы является исследование роли проекций архаических мифологических структур в «Фаусте» Гете в единстве их эстетико-философского и художественного значения для формирования известного эстетического кредо автора - «Миф - это Поэзия».
В ходе данной работы*предстоит решить следующие задачи:
определить аспекты воздействия архаических структур и доказать факт их глубинного влияния на трагедию Гете; показать степень использования жанровых архетипов при создании текста «Фауста»;
систематизировать весь античный материал, обработанный в трагедии и определить основные функции мифологем, мифоструктур, архетипических символов в границах образно-семантических рядов;
исследовать специфику использования Гете античных мотивов; выявить саморефлексивные, аналитические по отношению к мифу моменты; показать, как интегрируются мифологические сюжеты и мотивы в рамках мотивной структуры произведения;
раскрыть семантику ключевого для исследования концепта «античное имя»;
выявить необходимую связь между разнообразными проявлениями античных топосов на уровне поэтики текста и реализацией целостной символической концепции мифа у Гете; дать оценку эстетическому и поэтическому новаторству Гете в отношении античного мифа;
в приложении к работе создать словарь античных имен, который может способствовать более глубокому пониманию всего комплекса семантических проекций античного имени в соответствии с мифологической концепцией Гете.
Предмет исследования - рассматриваемый в культурно-исторической, типологической и поэтической перспективах античный миф в «Фаусте» Гете. Данный выбор обусловлен следующим соображением. В рамках европейской риторической традиции мифология Греции и Рима была востребована преимущественно в качестве универсального средства выражения мысли философского и художественного порядка. Формирование принципиально иного взгляда на Античность в эпоху создания «Фауста», знаменующего собой «конец» риторической культуры, а также творческий гений И.В. Гете повлекли за собой появление одного из самых необычных выражений античного мифа в литературе. Античный миф перестает быть только элементом декора, элементом поэтического совершенства, отсылкой к эстетическому идеалу и занимает положение новой творческой концепции, способа бытия литературы. Участие мифа в формировании представлений о герменевтическом круге диалектических связей целого и части существенно меняет значение античного мифа для эпохи Гете и последующих эпох.
Материалы и источники исследования. Материалом исследования стала трагедия Гете «Фауст», некоторые автобиографические сочинения Гете и его письма, а также воспоминания И.П. Эккермана. К исследованию
привлечены работы, посвященные феномену мифа, и источники по античной мифологии и исторической поэтике.
Методологическая основа работы. В основу исследования положена практика сопряжения разнонаправленных подходов к «Фаусту» Гете, включающая как эстетико-философские, сопоставительные, культурно-исторические, биографические, типологические, поэтические, так и лингвистические теории и методологии. Вместе с тем, основной вектор работы связан с опытом герменевтического прочтения текста. Этот выбор обусловлен необходимостью исследования «Фауста» в нерасторжимом диалектическом единстве поэтических черт его художественного мира (в нашем случае -разнообразных мифологических мотивов) и его символико-мифологического концептуального потенциала. Данное исследование всегда возвращается к
*
греческому мифу, замыкая «герменевтический круг» (миф - поэтика «Фауста» - миф).
Исследование трагедии производится с учетом работ современного отечественного и зарубежного литературоведения. Кроме того, принципиальное методологическое значение имеют работы А.Ф. Лосева, Е.М. Мелетинско-го, В.М. Найдыша по философии мифологии, диалектике и поэтике мифа, а также труды по исторической поэтике А.Н. Веселовского и О.М. Фрейденберг.
Научная новизна исследования состоит в том, что оно впервые описывает и систематизирует весь пласт античной мифологии в «Фаусте»; выявляет рудименты архаического мифа в сюжете, композиции, системе образов трагедии; определяет и демонстрирует выраженные в «Фаусте» мифологические и эстетические воззрения Гете. Результаты работы позволяют осуществить новое герменевтическое прочтение «Фауста» на основе не предпринятого до настоящего времени комплексного исследования
необходимой взаимосвязи мифологических мотивов и авторской концепции мифа у Гете.
Теоретическое значение исследования. В диссертации был разработан достаточно дифференцированный инструментарий, который, при условии дальнейшего совершенствования, может служить эффективным средством при анализе функций античного мотива и античного имени в литературном тексте.
Научно-практическое значение исследования состоит в том, что его положения и выводы способствуют более полному пониманию одного из самых сложных произведений в мировой литературе. В частности, результаты работы могут быть использованы в вузовских историко-литературных спецкурсах, посвященных творчеству Гете и культурно-историческим мифологическим концепциям. Кроме того, предлагаемый в работе «Словарь античных имен "Фауста"», указывающий точное место античного имени в тексте трагедии и его функцию в перспективе применения мифологической информации, может составить основу для комментированного указателя античных имен в «Фаусте».
На защиту выносятся следующие положения:
трагедия «Фауст» - явление, знаменующее «конец» европейской риторической традиции в отношении к античному наследию и тесными узами связанное с ведущими интеллектуально-эстетическими представлениями эпохи («Античность» И.И. Винкельмана, миф как поэзия и символ у К.Ф. Морица);
«Фауст» — произведение, в котором нашли отражение и уникальное поэтическое воплощение размышления автора над греческим мифом. Таким образом, использование архаических структур разного порядка стало для
Гете одним из средств художественного претворения собственных мифологических представлений;
специфика использования мифа в «Фаусте» является следствием концептуального отношения к мифу как к поэзии;
античные мотивы, рассматриваемые в комплексе их внутренних связей, формируют новый онтологический статус произведения как рождения мифа-поэзии, что существенно углубляет концептуальное прочтение трагедии.
Апробация исследования состоялась на аспирантских научных конференциях на факультете филологии и журналистики РГУ (Ростов-на-Дону, ноябрь 1994, 1997, 1998), на Международной научной конференции «Другой XVIII век» (Москва, апрель 2002), на Международной научной конференции «Русская литература XIX века в контексте мировой культуры» (Ростов-на-Дону, сентябрь 2002), на Международной научной конференции «Русское литературоведение третьего тысячелетия» (Москва, апрель 2003), на Международной научной конференции «История языкознания, литературоведения и журналистики как основа современного филологического знания» (Ростов-на-Дону - Адлер, сентябрь 2003). Основные положения диссертации освещены в девяти публикациях.
Структура, объем и композиция диссертации. Диссертация состоит из Введения, двух глав, Заключения, Библиографии и Приложения.
Во Введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, новизна и практическая ценность работы, определяются цели и задачи исследования. Кроме того, Введение содержит краткий обзор основных подходов к «Фаусту» Гете, анализ литературно-критического материала, непосредственно связанного с ролью античных мотивов в творчестве Гете. В связи с этим во Введение были включены необходимые для дальнейшего исследования
*
тематические блоки «рецепция Античности Винкельмана его великими современниками», «Гете и миф», рассматривающие разноаспектные вопросы биографического, культурно-исторического и поэтического плана.
В Главе I «Художественная концепция античного мифа в «Фаусте» и формы его интерпретации» определяется архетипический фундамент произведения, выявляются временные и пространственные характеристики условно мифологических континуумов «Фауста», рассматриваются возможности стилизации античной трагедии, определяется новаторский характер литературной адаптации мифов в трагедии Гете и, наконец,
* интерпретируется миф Гете о Матерях. Концептуальным итогом главы
становится определение авторской трактовки мифа.
Архетипические мотивы и образы в «Фаусте»
Архетипический мотив, единица древнейших сюжетных схем, по определению Е.М. Мелетинского, представляет собой «некий микросюжет, содержащий предикат (действие), агенса, пациенса и несущий более или менее самостоятельный и достаточно глубинный смысл». [88, 51] Исследователь считает, что невозможно «представить архетипические мотивы в виде строгой системы, особенно системы иерархической» [88, 52], так же он убежден «в их глубокой переплетенности, взаимопроникновении и одновременно параллелизме смысловом и функциональном». [88, 64]
Именно «переплетенные» и взаимообусловленные мотивы мы обнаруживаем в основе вечного сюжета о Фаусте. Архетипическая формула сюжетообразующего мотива немецкой народной книги о докторе-чернокнижнике может быть представлена следующим образом: персонаж: попадает во власть демона или чудовища. Точнее, народная книга трансформирует встречающийся в сказках нетипичный вариант этого мотива, когда герой отдает себя черту, чтобы овладеть мастерством. Фауст продает свою душу дьяволу в погоне за властью и знанием, вместе с которыми получает необычайную магическую силу. Но составитель первой из доступных нам версий народной книги Иоганн Шпис истолковывает историю о Фаусте как «устрашающий пример дьявольского соблазна на пагубу тела и души». [61, 505] Этический вывод набожного издателя помогает выявить в архетипиче-ской структуре сюжета не очень отчетливо просматривающийся ритуально-мифологический мотив прохождения героем посвятительных испытаний. Предложенное демоном Мефостофелем инициационное искушение, которому поддается знаменитый чародей и чернокнижник Иоганн Фауст, оборачивается грехопадением - непрохождением посвятительного испытания, с точки зрения христианской этики.
В «Фаусте» И.В. Гете первый из названных архетипических мотивов модифицируется, смягчается: Мефистофель (в отличие от Мефостофеля) не враждебен Богу, а значит человечеству и Фаусту, он, скорее, благожелательный демон, который в ряде случаев выступает как близнец-трикстер главного героя. Внимание создателя новой интерпретации сюжета перераспределяется в пользу комплекса архетипических мотивов, восходящих к обряду инициации.
Мотивы испытания человека выводятся на первый план, когда Гете включает в текст трагедии «Пролог на небе», целенаправленно повторяющий исходную ситуацию ветхозаветной книги Иова. «Некоторое сходство» экспозиций «Фауста» и книги Иова признано, по свидетельству И.П. Эккермана [132, 141], самим Гете, тем самым (по определению) признано сходство в расстановке сил намечающейся коллизии. Богословские споры о бедном Иове и причинах его страданий сводятся, как правило, к вопросу о путях Промысла Божия относительно мира и человека. С другой стороны, тот факт, что веками чтение книги Иова приурочивается христианской церковью к первым четырем дням страстной недели, указывает на признаваемую типологическую близость судьбы Иова и земной истории Христа. Страдания Иова изоморфны страданиям Богочеловека, который, поправ смерть, завершил свой человеческий путь и подтвердил свой уже только божественный статус. Значит, несчастья Иова могут быть поняты только как инициация - ряд испытаний, которые предлагаются представителю рода человеческого, для того чтобы тот, преодолев их, мог перейти в разряд избранных. Первое испытание Иова изначально обозначено достаточно конкретно: «И отвечал сатана Господу, и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Не Ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его Ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку Твою, и коснись всего, что у него, - благословит ли он тебя?» (Иов.1, 9-11) Второе испытание столь же конкретно определяется во втором диалоге с сатаной: «И отвечал сатана Господу, и сказал: кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него; Но простри руку Твою, и коснись кости его и плоти его, - благословит ли он Тебя?» (Иов.2,4-5) Смысл испытаний, которым подвергается Иов, формально заключается в том, чтобы, переживая нечеловеческие мучения, он сумел доказать свою благочестивую веру в непостижимую правильность Божеских решений. Но благочестие Иова считалось его сущностным свойством еще до испытаний. Мнение Господа, выраженное однозначно, -главное тому свидетельство: «...нет такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». (Иов. 1,8) Таким образом, испытания Иова близки по смыслу к модели героического эпоса, где герой подвигами доказывает свою героическую сущность; инициациационные акценты на перерастание, превращение, переход в иное измерение или к иному социальному бытию здесь, как и в героическом эпосе, затушевываются: Иов, в несчастьях оставшийся тождественным себе самому, подтвердил свое благочестие, и наградой за это ему служит благоденствие — состояние, в котором он уже пребывал до испытаний.
На первый взгляд, так же расставляет акценты и Гете, изображая спор Господа и Мефистофеля: Фауст обретет спасение, только до конца оставшись человеком, чей разум используется не для того, чтобы "tierischer als jedes Tier zu sein" [1, 74] [«быть более зверем, чем каждый зверь»], то есть только сохранив то, что выделяет его и в глазах Господа, и в глазах черта. Вопрос о благочестии героя также поднимается, но благочестие Фауста, с ортодоксальной точки зрения, сомнительно. Это ясно Мефистофелю, восклицающему: "Fuerwahr! er dient Euch auf besondre Weise" [1, 74] [«Поистине! Он служит Вам на особенный манер»], об этом позже догадается Маргарита и с тревогой спросит: "Glaubst du an Gott?" [1, 166] [«Веруешь ли?»], но так и не получит однозначного ответа.
Ариэль как субъект интерпретации
Ариэль, не имеющий античномифологической истории и биографии, выделен Гете, маркирован тем, что способен слышать грохот солнечной колесницы. Для Ариэля воспроизведение мифологических мотивов не только органично, но и самоценно. Для него не является развернутой метафорой просьба: "...badet ihn im Таи aus Lethes Flut" [1, 205] [«...искупайте его в росе из потока Леты»]. Дух воздуха не просто ощущает реальность существования реки Забвения, Ор и колесницы Феба, он сам вовлечен в круговорот их бытия. И, наконец, Ариэль, рассказывая о мифологических персонажах и их действиях, тем самым повествует о восходе солнца, воспринимая космический феномен и мифологическую историю как одно и то же явление.
Излагая миф ради него самого и живя в нем, Ариэль не предлагает его осознанной интерпретации. Тем не менее его песнь концентрируется не вокруг мифологического мотива-действия (восход солнца как движение колесницы Феба), а на звуковой картине происходящего, избыточной для мифологической схемы. Существительные "Sturm" («бушевание»), "Getose" («сильный, непрерывный шум»), глаголы и причастия, обозначающие грохотание, громкое звучание: "tonend", "knarren rasselnd", "prasselnd", "trommetet", "posaunet" -озвучивают образ восхода семантически, своим значением. Инструментовка на -hor-, -or-, -г- завершает картину. Таким образом, нужно признать, что песнь Ариэля построена как произведение поэтическое.
Грохот солнечной колесницы возвращает читателя в «Пролог на небе». Восторженный гимн архангела Рафаила начинается прославлением солнца, которое toent nach alter Weise In Brudersphaeren Wettgesang. [1, 75] [звучит на привычный манер ІВ братских сферах соревновательной песнью.] Древневосточная и античная философско-мифологическая традиция, а вслед за ними и христианство создавали и разрабатывали учение о гармоничном музыкальном звучании движущихся светил (и солнца в том числе). Гете, дважды обратившийся в «Фаусте» к учению о «гармонии сфер» , сконцентрировал свое внимание на солнце, его звучании, его движении.
Стихийный шум «колес Феба», сопровождаемый всеобъемлющим и пугающим бушеванием и грохотом в природе, - деталь картины нового, литературного мифа, воплощающего феномен, лишенный гармонии, то есть недостаточный, по сравнению с величественной вечной музыкой «соревновательной песни» солнца из «Пролога на небе». Но ведь гимн архангелов — это взгляд сверху, он посвящен абсолютно устойчивому образу мира, где солнце проходит "ihre vorgeschriebne Reise" [«свой предписанный путь»], который "vollendet sie mit Donnergang" [1, 73] [«оно завершает громовым движением»].
Таким образом, гармоническими звуками оформляется законченная (совершенная) картина мира. Ариэль же поет, имея перед глазами лишь фрагмент той же огромной звучащей Вселенной. Громкий звук, его ужасающий, сопровождает движение светила, восход которого в контексте судьбы Фауста, относительно его судьбы означает, что "des Lebens Pulse schlagen frisch lebendig" [1,207] [«пульс жизни бьется снова оживленно»].
Цепочка метонимических переосмыслений: солнце как Феб на колеснице, солнце как колесница Феба, солнце как колеса Феба - указывает на единственный гремящий атрибут солнечного бога. Но традиционной солнечной колесницей правит, по мнению Ариэля, не Гелиос, древнейшее божество солнца, а Феб-Аполлон, олицетворявший, помимо прочего, интеллектуальное и творческое начала бытия. Восход солнца-Аполлона для Фауста, таким образом, означает, что возрождаются его творческие возможности. Последовавший за песнью Ариэля монолог в терцинах самого главного героя трагедии, так же посвященный восходящему светилу, словесно оформляет физическое и духовное возрождение Фауста. Теперь он открыт стремлению "zum hoechsten Dasein" [1,207] [«к высшему бытию»]. Маскарадная маска как субъект интерпретации В сцене «Обширный зал» персонажи собрались, чтобы принять участие в давно ожидаемом празднике, который Император определяет как "das wilde Karneval" [1, 217] [«дикий карнавал»].
Эмблематические свойства античных имен. Стилизующее и риторическое применение античных имен в «Фаусте»
Главным свойством античных собственных имен, обеспечивающим им потенциальные возможности в том числе и художественного применения, как уже было сказано, можно считать наличие очевидного семантического багажа, «интеллектуальной информации», знаками которой античные имена навсегда признаны. Это свойство античных имен — постоянно актуализировать свой семантический фон, свой обязательный смысловой контекст - мы называем эмблематическим.
Термин «эмблема» восходит к греческому слову «emblema» - «рельефное украшение, вставка, часть, вставленная позднее». Назвав неотъемлемое свойство античных имен эмблематическим, мы руководствовались наиболее распространенным современным пониманием эмблемы как пластического воплощения какого-либо понятия или идеи, их условного, наглядного и статичного изображения. По определению А.Ф. Лосева, которое он дал в статье «Проблема символа в связи с близкими к нему литературоведческими категориями», «эмблема есть точно фиксированный, конвенциональный, но, несмотря на свою условность, вполне общепризнанный знак как самого широкого, так и самого узкого значения» [80, 387].
В ситуации античных имен, проявляющих эмблематические свойства, то есть выступающих в качестве знаков некоей неизменной суммы мифологической информации, определение требует коррекции и уточнения, так как античное имя представляет собой не условный (конвенциональный) знак, а знак генетически обоснованный. И уже генетической связью обусловливаются его точная фиксация и общепризнанный характер.
Античное имя теряет свои эмблематические свойства в случае полной апеллятивации. Открывающаяся за ним семантическая перспектива затушевывается, становясь объектом исследования этимологов. Имена центральных персонажей многих греческих этиологических мифов, в которых рассказ о сущности природного феномена подменяется рассказом о его происхождении, превратившись в названия соответствующих природных объектов или явлений, подверглись апеллятивации и утратили явную связь со своим мифом. Таким образом сформировались омонимичные пары собственных и нарицательных имен, или, другими словами, омонимичные пары имен, обладающих эмблематическими качествами, и имен, лишившихся их. Этот процесс развития в двух направлениях представляется закономерным и логичным, так как изначально, «в древности был такой период, когда слово, именовавшее определенный объект, воспринималось и как собственное, и как нарицательное имя, когда это было единое недифференцированное название» [115, /б], потенциально собственное и потенциально нарицательное.
Целый ряд примеров античных имен, развившихся в апеллятивы, находим и в трагедии Гете.
- Мефистофель, приняв облик одной из дочерей Форка, восклицает:
Man schilt mich nun, о Schmach! Hermaphroditen. [1, 303]
[Меня теперь разбранят] о позор! Гермафродит.] Миф о сыне Гермеса и Афродиты, приглянувшемся прекрасной нимфе Салмакиде и объединенном с нею в одно существо, также принадлежит к разряду этиологических мифов. Но Мефистофель, метафорически обозначая свое нынешнее уродство, совершенно не имеет в виду мифологическую историю прекрасного юноши. Его выразительное определение к своему новому облику, указывает на уродство — качество физиологического гермафродита. В тексте трагедии, кроме того, встречается прилагательное от апеллятивировав-шегося имени того же мифологического персонажа. Фалес говорит о невыраженности у Гомункула половых признаков, чем подтверждает мнение самого Гомункула о себе как о зародыше:
Ег ist, mich duenkt, hermaphroditisch. [1,3/0]
- Третья часть хора троянских девушек, нашедшая свою судьбу в принадлежности к водной стихии, воспевает прекрасный мир, в котором обитают наяды. Часть картины - "der Zypressen schlanke Wipfel" [1, 362] [«стройные верхушки кипарисов»], обозначающие линию берега. Уже форма множественного числа греческого по своему происхождению существительного не позволяет счесть его именем собственным мифологического персонажа. Но и без этого морфологического доказательства очевидно, что в песне хора поется о деревьях, а не о прекрасном возлюбленном Аполлона.
- Вернувшиеся из враждебного стана герольды передают оскорбительные шутки противников, уподобивших Императора эху, отголоску, отзвуку - природному явлению, а не несчастной нимфе, иссохшей от любви к Нарциссу:
"Euer Keiser ist verschollen, Echo dort im engen Tal..." [1, 377] [«Ваш Император пропал без вести, / Стал эхом в тесной долине...»]
Омонимичные пары, но уже собственных имен, образуются в случае трансонимизации - метафорического (по сходству) или метонимического (по смежности) переноса имени с одного объекта на другой. В трагедии на основе такого рода омонимических пар построен подсказанный Мефистофелем декоративно-игровой монолог Астролога в сцене «Императорский дворец». Речь Астролога представляет собой остроумный каламбур (qui pro quo: светила, металлы, римские боги), так и не понятый слушателями, да и не рассчитанный на понимание. Несмотря на обильные мифологические реминисценции, иллюзии мифологического повествования не создается благодаря давно сформировавшейся омонимии имен римских богов и названий планет.