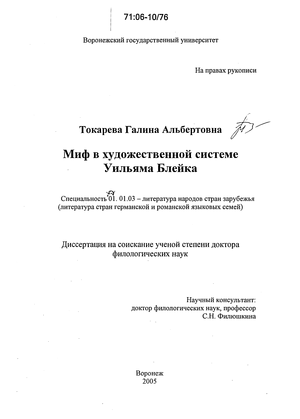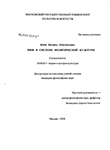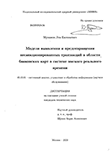Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Феномен мифа и мифопоэтический аспект художественного произведения 24
1.1 . Миф как объект междисциплинарного научного исследования ...24
1.2. Мифомышление и гносеологические возможности мифа 28
1.3 .Литература и миф: проблема мифопоэтического 34
Глава 2. Миф и романтизм. Мифопоэтические основы творчества У. Блейка-романтика 48
2.1. Религиозное сознание романтизма и миф 58
2.2. Символ у романтиков и особенности блейковской символизации.76
2.3. Экспрессия мифологического образа и ее отражение в романтической поэтике 92
2.4. Моделеобразующее зрение Блейка и феномен его «системы»... 103
Глава 3. Визионерство Блейка и мифосознание 130
3.1. Романтический конфликт "разум -воображение" в свете блейковского мифологизма 131
3.2. Блейк - пророк и визионер 137
3.3. Видение и пророчество: от феномена к жанру 151
Глава 4. Мономиф У. Блейка и его архетипические опоры 162
4.1. Философия истории Блейка и мономиф инициации 162
4.2. Эрос иТанатос: экзистенциальный переход 172
4.3. Невинность и Опыт: преодоление лабиринтов Ульро 233
4.4. Духовный апокалипсис: рождение поэта-пророка 278
Глава 5. Евангельский миф в художественной интерпретации Блейка 295
5.1 .Языческая трансформация библейского принципа трехипостасности Бога в художественной философии Блейка 296
5.2.Кеносис Христа и романтическая десакрализация библейского мифа 305
5.3.Специфика интерпретации образа Сатаны в поэзии Блейка. Творящее зло 325
Заключение 344
Примечания 350
Список использованной литературы 363
- Миф как объект междисциплинарного научного исследования
- Религиозное сознание романтизма и миф
- Романтический конфликт "разум -воображение" в свете блейковского мифологизма
Введение к работе
Поэзия У. Блейка, признанного классика английской литературы эпохи романтизма по ряду причин оказалась на периферии профессионального внимания отечественной англистики. Советское литературоведение не проявляло интереса к зарубежному писателю выраженной религиозной направленности с уклоном в философский мистицизм. Первые переводческие попытки К. Бальмонта и С. Маршака, предпринятые еще в досоветскую эпоху, были к тому времени уже забыты. Лишь в конце 1950-х годов, когда вся мировая культурная общественность праздновала двухсотлетие со дня рождения Блейка, отечественным энтузиастам и знатокам творчества Блейка удалось привлечь внимание к талантливому поэту и художнику. На этой «юбилейной» волне получили широкую известность переводы Блейка, сделанные С. Маршаком, который на протяжении всей своей жизни проявлял интерес к поэзии неординарного автора. Были опубликованы работы А.А. Елистрато-вой, посвященные Блейку (1957); вышло в свет интересное научное исследование искусствоведа Е.А. Некрасовой «Творчество У. Блейка»(1962), была защищена докторская диссертация Т.Н. Васильевой «Поэтическое творчество У. Блейка»(1971).
В 1975 году Е.А. Некрасова писала в своей монографии, посвященной романтическому искусству Англии: «Блейк вдруг вошел в число общепринятых и общепризнанных, как-то само собой разумеющихся мировых имен. То, над чем мы (С.Я. Маршак, я и еще несколько человек) бились десятилетиями, наконец, растолковано и объяснено» [188; с.46]. Но эйфория была преждевременной. Действительно, поэзия Блейка стала включаться в вузовские хрестоматии, появились новые переводы его произведений. Однако последним всплеском интереса к его творчеству можно считать 1982 год, когда вышло в свет билингвистическое издание с блестящей вступительной статьей и содержательными комментариями А. Зверева. Более десяти лет имя Блейка почти не появлялось на страницах печати; лишь в 1993 году были выпущены новые переводы С. Степанова с комментариями А. Глебовской. Однако серьезных литературоведческих работ не последовало, отечественное блей-коведение по-прежнему оставалось в пределах ранней лирики поэта: несколько кандидатских диссертаций было посвящено циклам «Песни Невинности и Опыта», наиболее значимая из них - работа Майсурадзе М.В. «Идея и образ человека в лирических циклах У. Блейка «Песни Опыта» и «Песни Невинности» [162].
Смелые попытки литературоведов 1950-60 годов дать общее представление о творчестве Блейка были лишь первым знакомством с художественной системой поэта, к тому же авторы вынуждены были интерпретировать его поэзию с учетом жестких идеологических требований эпохи. Их усилия не вдохновили новое поколение исследователей, и мало кто решался пере шагнуть черту, отделяющую вполне традиционную и романтически окрашенную лирику Блейка от его тяжелой и сложной для восприятия эпики. За Блейком закрепилась слава «непереводимого» поэта. На данный момент остаются непереведенными крупные эпические полотна зрелого Блейка, ряд пророческих книг, созданных в так называемый «ламбетский» период, неизвестны русскому читателю замечательные сатирические произведения Блейка, а также его письма и ряд критических статей. В 2002 году были опубликованы «Маргиналии» Блейка, некоторые другие его прозаические и поэтические произведения в переводе В. Чухно. Следует отметить как положительный опыт обращение переводчика к не переводившейся ранее прозе Блейка, но, если этот перевод автору удался, то поэтические произведения в переводе В. Чухно трудно назвать удачными.
При некотором оживлении интереса к поэзии Блейка в 1990-х годах коренного перелома в отношении к Блейку в отечественной англистике не произошло: авторы учебников и учебных пособий не включают (или включают с оговорками) Блейка в перечень английских поэтов-романтиков. И это в то время, когда для англоязычного читателя Блейк давно уже «культовая фигура»[418; p.57], «поэт всего человечества» [397; р.9], один из шести корифеев романтизма [366; р. 150], «один из величайших романтических поэтов» [340; 7]. Все учебники и хрестоматии английских студентов и школьников по литературе XIX века открываются именем Блейка.
Актуальность обращения к творчеству У. Блейка предопределена настоятельной потребностью представить творчество Блейка как целостную художественную систему, уникальную по своей структуре и специфике. Назрела необходимость переоценить масштаб поэтического дарования этого своеобразного художника и под иным углом зрения рассмотреть его место в истории английской литературы. Аспект анализа, избранный нами, также разрабатывался в русле одного из весьма актуальных и не менее спорных направлений в современном литературоведении. Проблема мифа и его функционирования в литературе не имеет сегодня единого и непреложного толкования. В. Хализев отмечает: «Мы не располагаем концептуальными, тем более итоговыми работами, в которых прослеживалась бы эволюция мифологии от архаики до современности. Трансисторическая (универсальная) суть мифа поэтому остается не вполне проясненной» [286; с.7].
При определении новизны нашей работы мы будем исходить в основном из степени исследованности проблемы, заявленной в диссертации, в англоязычной критике, так как в отечественном блейковедении до последнего времени этот вопрос практически не рассматривался. Лишь в 2001 году вышла монография Е. Корниловой [133], посвященная мифопоэтическим проблемам творчества западноевропейских романтиков, в одной из глав которой Блейк трактуется как визионер. Очевидно, объем раздела не позволил автору представить мифопоэтику Блейка концептуально, кроме того, оценка творчества поэта достаточно субъективна. Вторая, гораздо более серьезная попытка была предпринята в диссертации О.М. Смирновой «Пророческие і поэмы У. Блейка»[235], в которой рассматриваются две из многочисленных пророческих поэм У. Блейка («Бракосочетание Рая и Ада» и «Иерусалим») с точки зрения их мифологизма. Подход, избранный автором, достаточно тра-диционен: в работе исследуется миф о художнике-творце, формирующийся в поэтике романтизма, и эсхатологический миф поэмы «Иерусалим». Однако, несмотря на ограниченность материала, привлеченного к изучению, обращает на себя внимание оценка места творчества Блейка в литературном процессе. Пожалуй, впервые за многие годы Блейк трактуется как родоначальник английского романтизма. Эта намечающаяся переоценка поэзии оригинального художника весьма отрадна; она близка нашей точке зрения, но, к сожалению, это единственная работа, в которой сделан решительный шаг в направлении сложного аспекта творчества Блейка, позволяющего в значительной степени преодолеть неадекватность восприятия отечественными специалистами его поэзии.
Поэтические переводы произведений Блейка, сделанные нами (52 стихотворения и четыре поэмы, одна из которых - «Тириэль» - ранее на русский язык не переводилась), призваны служить целям популяризации творчества Блейка, но одновременно они должны быть расценены и как значимая часть нашей диссертации, поскольку, по определению известного переводчика Л. Гинзбурга, «перевод, несомненно, является формой литературоведческого исследования» [70;с.14].
В англоязычном литературоведении творчество Блейка разработано достаточно основательно. Но даже на родине у творческого наследия поэта была сложная судьба. В первой же критической публикации от 7 августа 1809 года в журнале «Экзаминер» он был назван «безумным и эксцентричным гением» [цит. по: 366; р. 147]. Критика XIX века серьезно обращалась к Блейку лишь дважды: это была первая подробная биография поэта, написанная Александром Гилкристом в 1861 году, и эмоциональный отклик А. Ч. Суинберна в 1868 году на вышедшие при содействии Д. Г. Россетти неиз- i вестные ранее произведения Блейка (так называемый манускрипт Россетти).
Вплоть до начала XX века Блейк оставался для английской критики вдохновенным безумцем.
Новая эпоха в изучении поэзии Блейка уже на профессиональном уровне была открыта Д. Кинзом в 1921 году, когда им была издана вторая биография Блейка. В это же время выходит значимая для нас работа Ф. Да-мона «У. Блейк. Философия и символы» (1924). Однако фундаментальное исследование блейковской символики и образного мира его творчества было осуществлено Дамоном лишь в 1965 году. В этом сорокалетнем промежутке появляется немало работ, посвященных Блейку, но критики не торопятся сделать шаг за пределы ставшей уже хрестоматийной лирики Блейка, очевидно, потому, что «при чтении блейковского эпоса раздумье преобладает над чувством удовольствия» [352; р. XIV]. «Три путеводных звезды блейко-ведения», как определил их Морис Ивз [Ibid.], выходят последовательно в 1947 году (Н. Фрай «Пугающая симметрия»), в 1954 году (Д. Эрдман «Пророк против империи») и в 1965 году (Ф. Дамон, «Словарь Блейка. Идеи и символы Уильяма Блейка»). Таким образом, только во второй половине XX века Блейк был оценен как выдающийся мыслитель и своеобразный поэт, а поэзия его охарактеризована как пророческая и мифотворческая. Стенли Гарднер указывает на тенденцию критики 1930-х - 40-х годов изучать обособленно лирику и пророческие книги Блейка. «Эти два потока, - отмечает критик, - слились только в 1954 году» [366, р.151] . Мы бы определили в качестве этой даты год выхода в свет монографии Н. Фрая «Пугающая симметрия» (Fearful Symmetry», 1947).
Исследование Н. Фрая - первая успешная попытка практически обосновать новую методологию. Несмотря на то, что знаменитая «Анатомия критики» будет создана Фраем позже (1957), в монографии, посвященной Блейку, просматриваются основные направления будущей работы. Стремление представить литературу как «перемещенную мифологию» обусловливает характер подходов ученого к блейковскому творчеству. Н. Фрай проводит систематизацию образов, мотивов и сюжетных структур в поэзии Блейка и обнаруживает их типологическое сходство, что позволяет ему заговорить о неких литературных матрицах, лежащих в основе любого литературного произведения. Рассматривая миф как структурный элемент литературы, Фрай обнаруживает в поэзии Блейка ряд универсалий, играющих роль смыслового моста между эпохами и тем самым обращает внимание критики на выраженный символизм поэзии Блейка. Видя в Библии «архетип всей западной куль- туры»[363, р. 109], Фрай полагает, что свой "главный миф" [363, р. 109] Блейк заимствует именно оттуда. По его мнению, это миф о грехопадении [363, р. 109]. Смысл истории в интерпретации Блейка Фрай также сводит к названному сюжетному архетипу [363, р. 111], и тем самым обосновывает блейков- ское стремление к универсализации образов и мотивов. Безусловным достоинством работы является существенное внимание автора к психологии творчества, что чрезвычайно актуально для понимания поэзии Блейка-визионера. «Вся гениальная поэзия, - пишет Н. Фрай, - есть нечто весьма самостоятельное по отношению к создателю» [363, р. 113]. Структура монографии не подразумевает возможности уделять специальное внимание проблеме блейков- ского мифологизма, однако показательно то, что большой раздел работы автор посвящает проблеме символа у Блейка (The Development of the Symbolism: p. 147-269). По собственному признанию H. Фрая, он «пытался взломать символический код Блейка» [279, с. 159], и эти попытки привели его к обоснованию принципов новой методологии. Исследование автором путей взаимодействия сознательного и бессознательного начал в процессе творчества поэта также намечает дальнейшую перспективу в плане изучения форм реконструкции мифосознания у Блейка. Н. Фраю удалось не только выделить основные проблемные узлы блейковского творчества, но и обозначить архе- типические основы его образности, при этом ученый очень хорошо сознает, і что задача исследователя состоит не в том, чтобы обнаружить «вечные обра зы» в творчестве художника, но в том, чтобы выявить творческую индивиду альность поэта, использующего эти образы [363, р.426]. Работа Н. Фрая опередила свое время. По пути, намеченному исследователем, к сожалению, не рискнули пойти многие из его современников. Большинство блейковедов, обратившихся к мифологии Блейка, были гораздо более традиционны.
Известно, что неординарная фантазия Блейка-визионера создала оригинальную авторскую мифологию с собственной космогонией и теогонией. Именно это образование становится в первую очередь объектом изучения блейковедов. Огромные усилия филологов были затрачены на дешифровку блейковских имен собственных, на приведение в систему по степени родства и по функциональному предназначению его мифологических персонажей. Созданная Блейком мифология, будучи аналоговой системой, аккумулировала в себе структурные принципы различных древних мифологий, заимствовала из них образы богов и мифологических персонажей, получивших у Блейка другие имена и отчасти другие функции. Это давало основание к поискам многочисленных аналогий, что Э. Томпсон охарактеризовал не без иронии как «игру в «найди-начало»[426, р. 179]. Толчок к подобного рода интерпретации блейковской мифологии был дан, очевидно «словарной» методологией Ф. Дамона, чья монография 1924 года, будучи наиболее полным информационным источником, в какой-то степени детерминировала и исследовательские подходы к творчеству Блейка. В своем окончательном варианте «Словарь Блейка» содержал оформленные в алфавитном порядке сведения о всех богах блейковского пантеона, информацию историко- литературного характера, этимологические экскурсы и даже краткую интерпретацию блейковских произведений и ключевых концептов его творчества. Большую ценность для будущих исследователей мифопоэтики Блейка представляли статьи словаря, посвященные мистицизму [347, р.291], визионерству [347, р.436], профетизму [347, р.335] и некоторые другие. Будучи букваль- I но кладезем информации, словарь Ф. Дамона тем не менее не обращался не посредственно к проблеме мифологического у Блейка по понятным причи нам. Ф. Дамон во многом подготовил почву для восприятия поэзии Блейка как мифопоэтической, уделив максимум внимания блейковским символам. Однако Стенли Гарднер, например, справедливо упрекал Дамона в том, что тот применял «технику изоляции символа от контекста»[366, р. 153].
Собственная монография С. Гарднера «Infinity on the Anvil» (вышла в 1968), по его определению, была «фундаментальным комментарием поэзии как поэзии, без всяких уклонов в биографию, мистицизм, догматизм или фи-лософию»[366, р.156]. Совершенно очевидно, что в таком дистиллированном варианте поэзия Блейка не давала оснований к анализу его мифотворчества. В 1967 появилось содержательное исследование Томаса Алтизера [326], отличающееся свежестью мысли и не потерявшее свою ценность и сегодня. В небольшой, но очень ёмкой работе автору удалось осветить все основные аспекты творчества Блейка. Особенно важны для нас его суждения, связанные с визионерством и профетизмом Блейка (главы «Восприятие и чувство», «Разум», «Религия»). Визионерство рассматривается им как перспективизм особого рода, по Т. Алтизеру, это «no-saying» [326, р.1], то есть несогласие. Визионерство обеспечивает динамику всякого развития. Алтизер обращает внимание на специфику блейковской «системы», предопределяя ее трактовку как системы, генетически восходящей к мифу. Он видит в особой религиозности Блейка влияние идей Восточной Церкви [326, р.64], в частности фундаментальной для православия идеи соборности, что также свидетельствует об ориентации Блейка на родовые формы сознания, порождающие миф.
В 1963 году выходит книга известного американского литературоведа Гарольда Блума «Апокалипсис Блейка (Исследование в духе поэтической дискуссии) «Blake s Apocalypse (A Study in Poetical Argument»)[З38], которое отличается особой основательностью. Автор анализирует основные этапы творческого пути Блейка, при этом демонстрирует незаурядную эрудицию и і глубокое знание предмета. Г. Блум уделяет много внимания символическим образам блейковских произведений, предлагая их обоснованную интерпрета цию. Ранее материалы по творчеству Блейка, в виде отдельной главы, вошли в панорамное исследование Блума «Союз провидцев» (Visionary company -1961). Здесь акцент сделан на визионерстве поэта, и автор высказывает некоторые свои соображения по поводу мифологизма Блейка. Поэт, по Блуму, -творец и одновременно провидец, «способный заглянуть в бездну собственного «я» [340, р.7]. Это не столь оригинальное, сколько эмоциональное утверждение устанавливает непосредственную связь между визионерством и мифотворчеством Блейка, но в дальнейшем не раскрывается и, очевидно, считается аксиоматичным. Не уточняется и характер этой связи, Г. Блум называет мифом непосредственно сказочно-фантастическую реальность, созданную воображением поэта, а под мифотворчеством понимает создание такого «иномира» в процессе художественного творчества. «Создавать миф, -пишет Блум, - значит рассказывать историю, придуманную самим, говорить так, как никто до тебя еще не разговаривал с миром» [340, р.7]. Несмотря на многообещающее название монографии, проблема мифологического в ней практически не представлена.
Самыми «урожайными» в блейковедении были 1970-е и 1980-е годы. В это время выходят первая монография одного из самых известных ныне блейковедов - Мортона Пэли («Energy and the Imagination» - «Энергия и Воображение», 1970); исследование Р. Фроша «Пробуждение Альбиона» («The Awakening of Albion», 1973), многочисленные статьи тонкого и глубокого критика Кэтлин Рейн (в 1970 году выходит очередное издание произведений Блейка с содержательной вступительной статьей этого автора); появляется работа Р. Граймса «Святое воображение»(«ТЬе divine Imagination», 1972), важные для нас монографии Кристины Галлант «Блейк и Ассимиляция Хао-ca»(«Blake and the Assimilation of Chaos», 1978) и Д. Вагенкнехта «Блейков-ская Ночь» (Blake s Night, 1973), работа Джун К. Сингер «Несвятая Библия» («The Unholy Bible», 1970) и другие.
Мортон Пэли, обратившийся к феномену визионерства Блейка уже в своей первой монографии «Энергия и Воображение» (1970), неуклонно приближается к проблеме «Блейк и миф» и выходит на нее в своей фундаментальной работе 1983 года «Вечный город. Иерусалим Уильяма Блейка» («The Continuing city. William Blake s Jerusalem») [404]. Это одно из немногих значимых для нас исследований, где на деле реализуется мифопоэтический подход к творчеству Блейка. Он не обозначен в работе как проблема, но весь ход рассуждений автора, пути, которыми он идет к своим выводам, указывают на уже сформировавшееся отношение к Блейку как поэту с особым типом сознания. М. Пэли достаточно традиционен в интерпретации ключевых мифологем поэзии Блейка, но его анализ философии истории Блейка, данный в ми-фопоэтическом ключе, достоин внимания. Космогонический миф, создаваемый Блейком в незавершенной поэме «Четыре Зоа», назван Пэли «исходным мифом»[404, р. 178]. Он дает ключ к блейковскому пониманию исторического процесса как циклического, обеспеченного разделением-соединением двух мировых начал - мужского и женского. М. Пэли много внимания уделяет проблеме андрогинности, образу Женщины-Воли, выстраивая «цикл Орка» для женского варианта персонажа (невинная дева - грешница - святая мать всего человечества). Достоинством работы М. Пэли является активное при , влечение живописных работ Блейка для интерпретации его образов и сюже тов. В первой монографии М. Пэли дан интересный, хотя и небесспорный анализ сложнейшей поэмы Блейка «Странствие», иллюстрирующей его философию истории.
Работа Дэвида Вагенкнехта «Блейковская ночь. Уильям Блейк и идея пасторали»[431] обращена к идиллическим мотивам в поэзии Блейка. Автор указывает на мифологические корни блейковской пасторали, соотносит ее с овидиевской традицией, дает анализ ряда стихотворений и ранних поэм і Блейка сквозь призму мифа об Адонисе. Большое внимание в работе уделено архетипам цветка, леса, дикого зверя; при их трактовке эротический аспект образов представлен, с нашей точки зрения, излишне гипертрофированным. Онирические мотивы в лирике Блейка связываются с мистицизмом автора, и в их интерпретации ощущается значительный уклон в эзотерику. Так Ва-генкнехт указывает на «эзотерическую интерпретацию эротического опыта» в лирике поэта [465; 58]. В числе достоинств работы - детальное исследование иллюстраций, сделанных Блейком к циклу.
Среди публикаций 1970-х годов для нашей работы немаловажное значение имеет монография Кристины Галлант «Блейк и Ассимиляция Хаоса» (Blake and Assimilation of Chaos) [365]. Здесь мифу уделено специальное внимание. В этой содержательной работе анализируются различные аспекты блейковской мифопоэтики. Талант трактует Блейка как поэта-демиурга, кос- мизирующего Хаос, и главное предназначение Блейка-мифотворца видит в «одомашнивании Хаоса»[365, р.9]. Архетипические образы блейковской поэзии интерпретируются в фрейдистско-юнгианском ключе, и сексуальность объявляется блейковской «доминантной метафорой»[365, р.32]. Сама апелляция к юнгианско-фрейдистской методологии обнаруживает стремление исследователей к изучению универсальных образных моделей в творчестве Блейка. Такой подход к поэзии родоначальника английского романтизма абсолютно обоснован, поскольку универсализм является отличительной особенностью мышления Блейка. Он закономерно находит свое выражение в «тотальной символизации» и мифотворчестве поэта. Однако методологическая тенденциозность, безусловно, сужает границы видения исследовательницы. Автором сделан ряд интересных наблюдений над эволюцией блейков- ского мифологизма. По определению Галлант, в поэзии Блейка со временем «динамика мифа начинает преобладать над статикой»[365, р.42]. Речь идет о формировании в сознании поэта мифологической модели истории, которая повторяет принцип космогенеза. Вслед за своими предшественниками Гал- I лант говорит о духовном апокалипсисе самого Блейка, который, по мнению автора, максимально полно воплощен в поздних крупных эпосах Блейка:
«Четыре Зоа», «Мильтон», «Иерусалим». Эту тенденцию Галлант связывает не столько с влиянием внешних факторов на мировоззрение поэта, сколько с внутренней потребностью Блейка не допустить «пленения собственной вселенной и вовлечения ее в энтропический процесс»[365, р.47]. Галант высказывает весьма спорное предположение о природе блейковской сатиры в поздних пророческих поэмах, видя в саркастическом смехе поэта «сатиру, направленную на самого себя как мифотворца»[365. р.14]. Особую ценность работе придает анализ эволюции блейковских поэтических средств: Галлант отмечает, что эта эволюция связана с выраженным стремлением художника «проникнуть в глубины бессознательного»[365, р.42].
Буквально вслед за К. Галлант издает свою монографию канадец Л.Д. Дамрош («Символ и истина в блейковском мифе», «Symbol and truth in Blake s myth») [348]. Рассмотрение мифа как культурологического феномена со ссылками на Э. Кассирера, К. Юнга, М. Элиаде и других, безусловно, расширяет научные горизонты работы, однако затемняет смысл термина «мифологизм», в целом иллюстрируя общий недостаток работы - отсутствие выверенной терминологии, что приводит к различным смысловым расхождениям. Дамрош рассматривает упорядочивающую, космогоническую, (в его терминологии, prescriptive) [348, р. 152] и терапевтическую функции мифа, подчеркивая актуальность обращения Блейка к мифу в кризисную эпоху. Автор подробно анализирует известный принцип блейковских состояний (states) и основной смысл блейковского мифа видит в преодолении состояния разделенности человека с миром. «Функция мифа, - пишет он, - заключается в том, чтобы объяснить это состояние разделения и предписать средство для излечения»[348. р. 153]. Совершенно справедливо Дамрош указывает на специфику взаимоотношений Блейка с библейским мифом, утверждая, что «в эпоху демифологизации христианства, Блейк ищет пути его ремифологиза-ции [348, р.73]. С нашей точки зрения, автор преувеличивает интеллектуализм блейковского мифа. «Мифологизм Блейка, - утверждает он, - рациона лизирован и не рассчитан на наивную веру»[348, р.71]. Значительная часть монографии посвящена сравнительному анализу блейковской мифологии и классических мифологий древности, что сдерживает движение авторской мысли в иных, более продуктивных направлениях.
В 1984 году выходит исследование У. Ричли «Альтернативная эстетика У. Блейка» [410], в котором наше внимание привлекло сравнение пути Д. Мильтона из одноименной пророческой книги Блейка с путешествием Одиссея. Оригинальная аналогия автора малопродуктивна: она выводит на «общие места» сюжетов названных произведений. Излишне говорить о том, что такие мотивы, как путешествие, испытание в пути, искушение как испытание являются сюжетными архетипами с древнейших времен и мало что прибавляют для понимания специфики блейковского метода.
Общую репрезентацию творчества Блейка находим в программной вступительной статье К. Рейн к изданию блейковской поэзии 1970 года. К. Рейн так же, как и К. Галлант и Л. Дамрош, - поклонница психоаналитических идей К. Юнга и представляет архетипическую ветвь мифокритики в блейковедении. Работы К. Рейн отличаются скрупулезностью исследования «первообразов» блейковской поэзии, за что Э. Томпсон комплиментарно назвал ее «Дианой среди охотников» за смыслами [426, р. 180]. Обосновывая «странность» мышления Блейка его гениальной прозорливостью, Рейн пишет: «Эти архетипические фигуры кажутся гораздо менее странными поколению, воспитанному Юнгом с его идеей «коллективного бессознательного» , чем тем конкретно мыслящим умам XIX века, которые считали его вдохновенным безумцем»[389, р. 14]. Забегая вперед, скажем, что в 1982 году К. Рейн выпустит новое исследование «Человеческое лицо Бога»[392], которое можно назвать биографическим, но это не будет исчерпывать его содержания. Структура книги оригинально повторяет библейскую книгу Иова, ь спроецированную на биографию Блейка. У К. Рейн оказалось много последо вателей, «сумасшествие» Блейка и его провидческий дар с позиций психо анализа обсуждались в многочисленных статьях, монографиях и даже докторских диссертациях (см. например, Friedlander Ed. R. Blake s "Milton" and Madness, 1973; Youngquist P. Madness and Blake s Myth, 1989). Но, как показывает практика, жесткое следование одной методологии всегда наносит ущерб исследуемому материалу, и преодоление методологической несвободы в изучении творчества Блейка стало осуществляться особенно настойчиво в 1990-е годы.
Среди новейших исследований по творчеству Блейка мы находим немало интересных работ, однако совершенно очевидно, что характер изучения мифопоэтического в произведениях Блейка изменился. Оригинальная авторская мысль ищет своего воплощения в новых методологиях, и в этом отношении показателен оригинальный сборник статей «Уильям Блейк» (1998) [391], вышедший под редакцией Д. Лукаса. Впрочем, Лукас выступает и как автор, предпринимая весьма основательный обзор различных направлений литературоведения, отдавших дань блейковской поэзии. Здесь представлены статьи авторов различных периодов и различных методологий, начиная от самых ранних и заканчивая новейшими экспериментальными работами в духе деконструктивизма, теории ответственности читателя или нового историзма. Не менее репрезентативны сборники, вышедшие в этом же, 1998 году [335;424]. Появление сразу трех изданий аналогичного типа свидетельствует о возросшем интересе к творчеству Блейка, характер же материалов говорит о том, что блейковедение переживает некий переходный период, когда формируется новая методологическая парадигма, выкристаллизовывается иная проблематика, подсказанная временем, заявляет о себе новое поколение исследователей.
В 1990-е годы выходит в свет и несколько крупных монографий, в числе которых работа Э. Томпсона «Свидетель против зверя» (Witness against the ь Beast) [426], посвященная этическим проблемам в творчестве Блейка. Не ка саясь непосредственно проблемы мифа, Томпсон вычленяет ряд интересных аспектов образной системы поэта и размышляет о причинах мифологизации образа города в стихотворениях Блейка. В исследовании Дж. Вулфрея «Записки о Лондоне. След урбанистического текста в литературе от Блейка до Диккенса» (Writing London. The trace of the urban text from Blake to Dickens) [439] активно используется интертекстуальная методология. Автор вскользь говорит о «мифологической переделке лондонской картографии»[439, р.37], но его гораздо в большей степени интересует перекличка образов и смыслов в творчестве различных авторов XIX века, иными словами, «интертекстуальное поле европейской культуры» [439, р.38], чем возможные мифологиче-скиие реминисценции в поэзии Блейка.
Одновременно с разнообразными литературоведческими работами выходят в свет многочисленные исследования творчества Блейка-художника. Мы не обращаемся к их специальному анализу, но хотим привлечь внимание к работе, в которой представлен оригинальный симбиоз литературоведения и искусствоведения. Это иллюстрированный альбом «Мильтон. Поэма» под редакцией Д. Бидмана, в который входят развернутые комментарии и научные статьи известных специалистов по творчеству Блейка - Роберта Эссика и Джозефа Вискоми. Роберт Эссик, известный литературоведам по его монографии «Блейк и язык Адама» (1989), анализирует многочисленные символические образы блейковской поэзии, что побуждает его искать мифологические корни тех или иных символов и прослеживать процесс блейковского «символотворчества». Наблюдения Эссика позволяют увидеть, как однозначные аллегории трансформируются в символы с широким диапазоном значений, и персонаж предстает как «многоликое существо, которое может находиться в разных местах в одно и то же время» [357, р.9-10]. В совместных фрагментах работы Р.Эссика и Д. Вискоми много внимания уделено образам пространства в поэзии и живописи Блейка. Очевидная популярность » интертекстуальной методологии в западноевропейском литературоведении находит отражение в поисках авторами многочисленных библейских и иных реминисценций в блейковских текстах. Говоря об «интертекстуальном эхе»[357, р. 13] в «Мильтоне», Р. Эссик все же в большей степени подразумевает опосредованные литературой заимствования из Библии или литературных текстов, нежели непосредственное обращение поэта к мифологическим прообразам. А ведь есть основания утверждать, что и мифопоэтическая методология есть одна из форм интертекстуального анализа.
Обзор работ зарубежных исследователей, связанных с мифопоэтиче-ским аспектом творчества Блейка, позволяет определить степень разработанности проблемы. Англоязычная критика, по нашему наблюдению, при всех ее достоинствах, тяготеет к некоторой иллюстративности, нередко отдает предпочтение комментированному анализу текста, сознательно или в силу объективных обстоятельств отказывается от глубокого теоретического обоснования проблем. В последнем мы видим причину слабого внимания блейко-ведов к проблемам психологии творчества, которые имеют непосредственное отношение к мифологизму Блейка-визионера.
Новизна нашей работы заключается в том, что мы стремимся всесторонне рассмотреть проблему мифологического у Блейка, учитывая при этом глубину разработки проблемы мифа в отечественной гуманитаристике. Использование в работе достижений российских ученых позволяет рассмотреть мифопоэтику Блейка под новым углом. При этом, в отличие от большинства работ, представленных в обзоре, в нашей диссертации предлагается целостная концепция мифологизма Блейка, начиная с теоретического обоснования понятия, уточнения терминологического глоссария и заканчивая анализом различных форм ассимиляции литературы и мифа в творчестве Блейка.
Объектом исследования в работе является поэтическое наследие У. Блейка, представленное как специфическая художественная система. Называя в качестве объекта изучения творчество Блейка, мы намеренно лишь отчасти представляем современный поэту литературный контекст. Гораздо большее внимание уделено культурно-исторической ретроспективе, отсы лающей к философско-религиозным и фольклорным истокам поэзии Блейка, в свою очередь, опирающихся на миф. Такое перераспределение акцентов связано с высокой степенью интериоризированности творчества самого Блейка, которое развивалось практически вне литературного контекста эпохи, а таюке с тем, что мы оцениваем мифологическое сознание как явление вневременное.
В качестве предмета исследования избран мифопоэтический аспект творчества Блейка, что также предопределено рядом факторов: ярко выраженной мифотворческой тенденцией его поэзии, его установкой на визионерство как форму художественной реализации творческой личности; универсализмом художественного мышления Блейка.
Теоретической основой диссертации стали работы целого ряда западноевропейских и отечественных специалистов: философов, антропологов, культурологов и др., чьи труды дали возможность представить миф как междисциплинарный объект изучения: Дж. Фрезера, Э.Б. Тэйлора, М. Элиаде, Э. Кассирера, К. Леви-Строса, К. Юнга, А.Ф. Лосева, М.К. Мамардашвили, А. М. Пятигорского. В разработке мифопоэтического аспекта творчества Блейка мы опирались на филологические и философские исследования А.Н. Весе-ловского, А.А. Потебни, О. М. Фрейденберг, М. М. Бахтина, Я. Э. Голосов-кера, Е. М. Мелетинского, Ю. М. Лотмана, В. Н. Топорова и др. Религиозный характер поэзии Блейка вызвал необходимость глубокого изучения богословской и мистической литературы.
Методологическая стратегия работы сложилась на основе изучения работ западноевропейских специалистов в области мифопоэтического: Г. Слокховера, М. Бодкин, Н. Фрая, Р. Веймана, а также на основе ряда интересных публикаций современных отечественных исследователей.
Методология данной работы может быть названа комплексной. Мы не отказываемся от традиционного историко-литературного метода и универсального аналитического метода. «Тотальный символизм» Блейка предопре делил активность метода герменевтического. При этом системно-типологический метод может быть назван ключевым: именно он позволяет выявить базовые для работы образы, мотивы и сюжеты, системная организация которых дает основание для использования собственно мифопоэтиче-ской методологии. Она будет реализоваться через метод мифореконструкции и связанный с ним структурно-семиотический метод.
Мифопоэтика как методология по-прежнему находится в стадии становления и развития. Новое направление унаследовало от мифологической критики стремление к обнажению архетипических первооснов (сам термин архетип позаимствован у К. Юнга) и к разысканию генетических корней образов и сюжетов. Однако смысл ее не сводим к этим «раскопкам», в этом случае мифопоэтика была бы малопродуктивна и заслужила бы справедливые упреки в редукционизме. Смысл ее заключается как раз в исследовании форм и принципов функционирования этих констант в конкретной культурно-исторической среде и в отражающем ее индивидуальном художественном сознании. Одним из наиболее продуктивных направлений новой методологии для нас оказалось изучение форм мифологического сознания и характера их трансформации в литературе.
Цель работы - определить своеобразие мифологизма У. Блейка и исследовать различные формы проекции мифа в его творчество.
Целевые установки работы реализуются через осуществление ряда частных задач:
- Выявить, в какой мере мифологизм является свойством, присущим поэтическому сознанию Блейка;
- определить связь мифологизма Блейка с его романтическими взглядами;
- рассмотреть различные формы реставрации мифа в творчестве Блейка;
- представить мифопоэтику Блейка как единую систему;
Положения, выносимые на защиту:
1. Провидческая поэзия Блейка глубоко мифологична по своей природе. Сознательная установка на визионерство отражает общий для романтиков принцип целостного постижения явлений и целостного их продуцирования с помощью символов.
2. В художественном сознании Блейка, творчество которого предельно христианизировано, исподволь мощно проявляется энергия языческого мифа, спровоцированная как процессом романтической ремифологизации, так и влиянием на поэта эллинизированной философии гностицизма.
3. Метатекст блейковского творчества реконструирует универсальную мифологическую модель сознания, основанную на принципе изоморфизма: исходной структурой (мономифом), вариативно воплощенной в различных художественных текстах поэта, становится мистериальная триада «рождение -смерть - новое рождение».
4. Миф в художественном мире Блейка находит поддержку и в системе архе-типических опор, концептуально важных для мистериального цикла и наращивающих новые смыслы в произведениях Блейка; а также проявляется в создании собственной космогонии и теогонии.
5. Мифопоэтика Блейка формируется на основе реконструкции синкретизма символического образа; на основе укрупнения образов и ослабления внешней изобразительности текста; создания особого типа «органической» образности, идущей от специфической экспрессивности образов мифа.
Апробацию основные результаты диссертационного исследования получили на ежегодных межвузовских конференциях «Смысловое пространство текста» в г. Петропавловске-Камчатском (1999, 2001, 2002, 2003, 2004); на научно-практической конференции «Россия-Восток-Запад. Проблемы межкультурной коммуникации» (Владивосток, 2002); межвузовской научно-практической конференции «Философские чтения» (Южно-Сахалинск, 2003);
на научном форуме «Культурное пространство путешествий» (Санкт-Петербург, 2003); на Девятых Лафонтеновских чтениях, имеющих статус международной конференции (Санкт-Петербург, 2003); на XIII Международной конференции российских преподавателей английской литературы (Москва, 2003); на межвузовской научной конференции «Актуальные проблемы романистики и германистики» (Смоленск, 2004) и др. Автору также довелось в качестве гостя принять участие в обсуждении научных проблем на конференции «Любовь в литературе романтизма» в Оксфорде (Oxford Brookes University) в сентябре 2003 года.
Практическая значимость работы состоит в том, что данное исследование поэтического наследия выдающегося английского поэта и художника У. Блейка будет способствовать формированию адекватной оценки его места в истории английской литературы у русскоязычного читателя. Работа призвана расширить представление специалистов о раннем этапе формирования романтизма в Англии и о специфике художественного мышления Блейка-романтика. Результаты научных изысканий, полученные в ходе работы над диссертацией, могут быть включены в вузовский курс истории зарубежной литературы XIX века, что в значительной степени будет способствовать прояснению дебатируемого феномена предромантизма. Автор рассчитывает, что его поэтические переводы Блейка, снабженные литературоведческим комментарием, внесут свой вклад в популяризацию блейковского творчества в целом.
На основе данного диссертационного исследования на филологическом факультете Камчатского государственного педагогического университета разработан спецкурс «Мифопоэтический аспект художественного произведения» для студентов-филологов; материалы диссертации были включены в переводоведческий спецкурс «Лирика английских поэтов» для студентов-филологов с дополнительной специальностью «английский язык». Практиче ское воплощение этот спецкурс обрел в методическом пособии с одноименным названием.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, литературы и приложений. В приложении содержатся поэтические переводы стихотворений и поэм Блейка, сделанные автором диссертации.
Миф как объект междисциплинарного научного исследования
Обращаясь к проблеме мифологического в творчестве Блейка, мы неизбежно погружаемся в стихию бурную, непредсказуемую, мало подчиняющуюся доводам разума, но, в то же время, существующую в соответствии с определенными законами, сформировавшимися на протяжении многих веков развития человеческой культуры.
Мифопоэтический аспект художественного творчества в течение последних двух столетий рассматривался и интерпретировался с особым вниманием, и симптоматично то, что первые существенные попытки подойти к проблеме мифологического в литературе на научной основе обозначились именно в период формирования эстетических программ романтизма, то есть тогда, когда жил и творил У. Блейк.
Колоссальное количество литературы, посвященной мифу, призывает исследователя локализовать сферу своих научных изысканий и определиться с приоритетами. Миф - понятие междисциплинарное, его изучением занимается целый ряд наук, таких как этнология, антропология, фольклористика, социология, психология, лингвистика. М. Элиаде отмечает: «Миф есть одна из чрезвычайно сложных реальностей культуры, и его можно изучать и интерпретировать в самых многочисленных и взаимодополняющих аспектах» [309, с.П]. Сложное переплетение различных научных интересов при исследовании феномена мифа не позволяет осуществить жесткое разграничение сфер его функционирования и дать его четкую дефиницию. Терминология, привносимая в конкретную науку из смежных дисциплин, делает мифологический глоссарий все более запутанным, а сам термин «миф» все более многозначным. Роберт Вейман говорит, что у мифа «столько же значений, сколько существует ученых, его применяющих» [46, с.260].
Неизбежность очередной попытки упорядочить терминологический хаос очевидна уже в силу того, что изучение творчества конкретного автора в соотнесении с мифом требует овладения определенным научным инструментарием, а он не доступен исследователю, пока не приобретет вполне конкретную форму.
Обратимся к ключевому понятию «миф». Некоторая степень понятийной устойчивости, наметившаяся в науке в последнее время, позволяет выделить, по крайней мере, три значения слова «миф»: миф как повествовательная структура, рассказ; миф как особая форма мышления, формирующая представления древних о мире; и миф как иллюзия, вненаучное построение, вплоть до лживой пропаганды. Это последнее значение, которое слово «миф» приобрело в основном благодаря социальной практике XX века, окончательно запутало и специалистов, и непрофессионалов, активно внедряясь в бытовую сферу благодаря литературе и средствам массовой информации. Весьма точно В. Хализев определил это явление как «мифоподобный феномен» [286, с. 13]. В нашем исследовании мы будем в основном опираться на два первых значения.
Простой свод дефиниций (однако отобранных так, чтобы представить различные эпохи и различные национальные культуры) подтверждает тот факт, что в определении двух основных значений слова «миф» исследователи достаточно солидарны. Миф как повествовательная структура:
«Миф - это всегда рассказ о некоем творении» [309, с. 12]. «Миф есть в словах данная чудесная.... история» [153, с. 169]. «Мифы часто определяются как повествования, объясняющие явления природы или какие-то другие вещи» [256, с.579].
«Миф - древнейшее сказание, являющееся неосознанно-художественным псвествованием» [237, с. 221] и т. д.
Миф как особая форма мышления, порождающая специфическую систему представлении:
«Миф не вымысел, а результат психического акта» [Веселовский А.Н., цит. по:261,с.347].
«Миф - необходимая категория сознания и бытия вообще» [153, с.25]. «Мифологический материал был для народов-мифотворцев и формой самовыражения, и формой мышления, и формой жизни» [317, с. 15]. «Миф -...определенный способ опыта реальности» [289, с.41]. «Миф - всеобщая и единственно возможная Форма восприятия мира на известной стадии его развития» [284, с. 17] и т. д.
При трактовке мировоззренческой функции мифа, естественно, наблюдается большее расхождение смыслов, но в любом случае исследователи связывают миф с мироощущением или мировоззрением (именно это «или» и оказывается значимым для многих теоретиков).
Религиозное сознание романтизма и миф
Проблему религиозного сознания можно назвать абсолютным центром романтизма. Без сомнения, гипертрофированное внимание романтиков к вопросам религии имеет своим истоком кризис христианства. Безоговорочная вера в Бога была подорвана работой пытливых умов выдающихся деятелей эпохи Просвещения. Политическое брожение, сделавшее своим знаменем идею свободы, на рубеже XVIII и XIX веков также способствовало развитию критического взгляда на догматизм христианской веры.
По мнению В.М. Жирмунского, большинство поэтов-романтиков переживает глубокий религиозный кризис, и каждый по-своему ищет своих путей к Богу. Ф. Шлегель увлекается эстетикой католицизма, Ф. Шеллинг строит в поздний период своего творчества "положительную историческую философию на основе мифологии и религии" [цит. по: 103, с. 150]. Л. Тик даже на время оставляет занятия литературой под влиянием религиозных идей. В письме к Ф. Шлегелю Новалис пишет о необходимости радикального обновления религиозного сознания эпохи, о желании создать собственную религию (6): «Я намерен основать собственную религию и тем более способствовать ее провозглашению» [192, с. 150]. Шлегель отвечает: «Религия, дорогой друг, дело для нас не шуточное, а самое наисерьезнейшее, ибо настало время основать новую религию» [142, с. 150]. Известен религиозный переворот в сознании Ф. Шатобриана. Все это, пишет В. Жирмунский, указывает на "внутренне необходимый религиозный процесс, который историки литературы общественного направления напрасно старались свести к посторонней причине политической и социальной реакции" [103, с. 149]. При этом Жирмунский абсолютно справедливо говорит об "органической связи" этого процесса с романтическим движением [103, с. 149]. Порой трактуя термин «религия» достаточно широко, романтики формировали и свои отношения с официальной религий современности - христианством, причем отношение к нему романтиков было изначально неоднозначным. С одной стороны, христианство, как и всякая религия, ограничивало свободную мысль и свободное чувство. Здесь романтическая мысль шла по пути не отрицания, но очищения религии и в этом отношении смыкалась с религиозной философией мистицизма. Воцерковленному, фетишизированному Богу противопоставлялся Бог-единомышленник, свободно общающийся с человеком; сам процесс общения исключал преклонение и слепую веру и мыслился как акт откровения, сокровенного общения с высшей силой. С другой стороны, в христианстве романтиков привлекала патетика индивидуального подвига, воплощенная в образе Христа. При этом следует учитывать, что в освобожденном от догматизма сознании романтиков начинается стремительный процесс десакрализации евангельского сюжета и фигуры самого Христа. Библейский миф в результате ослабления веры стал восприниматься как явление художественного порядка. В том, что христианские тексты стали рассматриваться как мифологические, проявил себя, с точки зрения авторитетных ученых, «глубоко зашедший процесс секуляризации сознания» [161, с.62].
Точек схождения романтизма с христианством было, пожалуй, больше, чем различий. Время утверждения романтических идеалов повторяет ситуацию становления идеала христианского. Революционный характер преобразования сознания в обоих случаях связан с его радикальным преображением. Христианство предполагает онтологическую революцию, при этом в явлении Христа наибольший аксиологический вес имеет этический аспект. Более того, он становится определяющим для нового религиозного сознания. Рождение Богочеловека как способ сближения человека и высшего существа не есть открытие христианства. В политеистических религиях эту функцию выполняли герои - потомки богов и смертных. Однако то, что Христос начинает выступать как единственное воплощение этого союза земли и неба, то, что он стягивает в одну точку все возможные варианты богочеловеческого воплощения, делает отношения человека и Бога более сокровенными, интимными и одновременно придает этому союзу глобальность. Теперь всякий смертный приобщен к величию единого, а, значит, и во много раз более могущественного Бога. Многократное возвышение божественной силы пропорционально увеличивает и масштаб личности человека, вступающего в непосредственное общение с Сыном Божиим. Вот первая точка соприкосновения идеала романтического с идеалом христианским. Выраженный субъективизм романтического мироощущения предполагает рост значимости человеческого «я», соизмеримого с концентрацией всей божественной силы политеизма в едином Боге.
Вторая черта, роднящая христианство с романтизмом, - идеальность нового героя. Практически ставя знак равенства между понятиями «поэзия» и «романтизм», Ф.Р. Шатобриан пишет: «Христианская религия так счастливо устроена, что сама является поэзией, ибо характеры ее приближаются к идеа-лу»[296, с. 128]. Богочеловека и романтического героя сближает высокая степень духовности обоих, ситуация трагического выбора, неизбежно сопровождающая коренное преобразование.
Романтический конфликт "разум -воображение" в свете блейковского мифологизма
"Художником с выдающимся воображением" назвал Блейка критик Броновский [345, р. 16]. Для романтика это высшая похвала, поскольку "в романтическом мышлении...воображение - это универсальная метафизическая ценность" [119, с.623]. Вся история становления романтизма есть история непрекращающейся борьбы Разума и Воображения. Этот конфликт стал классической иллюстрацией к диалектическим законам развития мира и человеческого общества в ту эпоху, когда эти законы уже требовали своего научного воплощения. Ярко выраженный дуализм романтического сознания превратил антитезу старого и нового в стартовую площадку для очередного витка культурно-исторического развития, предвосхитил ницшеанское соперничество дионисийского плодоносного хаоса и аполлонического застывшего совершенства.
Разум, кумир эпохи Просвещения, стал восприниматься как препятствие для живого творческого Воображения, во власть которого отдан был мир. С. Кольридж пишет: "Обладая необычной магической силой, которая лишь одна вправе называться Воображением, поэт создает атмосферу гармонии" [130, с.284]. Ему вторит П. Б. Шелли: "В нас проникает словно некое высшее начало, но движения его подобны полету ветра над морем... Эти... состояния души являются преимущественно уделом людей, одаренных тонкой восприимчивостью и живым воображением" [299, с.740]. Д. Ките заявляет: " Вымысел я считаю путеводной звездой поэзии, фантазию - парусами, а воображение - кормилом" [125, с.206].
Блейк одним из первых заговаривает о преобразующей мощи творче ского воображения. "Вечная сущность Человека заключается в его Вообра жении, и в этом проявляется Господь Бог, и все мы - его подобия»", - пишет t он [29, с. 166]; весь мир следует "облечь в одежды воображения" [334, р. 142]. Конфликт Разума (рассудочности) и Воображения - основной конфликт по 132 эзии Блейка. "Всякая истина, - утверждает поэт, - продукт интуиции, ибо все, что есть ценного в знаниях, не вписывается в рамки точных наук с их непременным взвешиванием и измерением" [29, с.232]. Этот конфликт воплощен на всех уровнях блейковского поэтического метатекста: в композиции, в образной системе, в структуре повествования, даже в ритмике. Этот конфликт персонифицирован в образе бога Уризена (13), одного из четырех Зоа (первоначал) и бога Лоса.
В образной системе произведений Блейка с Уризеном как с богом мертвящего разума связаны цепи, узы, тенета, оковы, путы; мир под его властью предстает расчерченным, измеренным, предсказуемым. В религии Ури-зен - олицетворение догматизма, в этике - нравственных запретов, в художественном творчестве - враг фантазии и воображения. Уртона, мифологический антагонист Уризена, является воплощением творческого Воображения, это еще один персонаж из четверки Зоа. Уртона обитает в таинственной пещере ("Бракосочетание Рая и Ада"), что может символизировать глубины подсознания. По замыслу Блейка, творческое начало Уртоны проявляется в роде его занятий: он кузнец и творит с помощью огня. Широко известный мотив о боге-кузнеце восходит к античным мифологиям. В. Топоров указывает на то, что в мифологии поэтическое "слово (стих, текст и т. д.) делается, вытёсывается, выковывается (курсив наш - Г.Т.), ткётся, прядётся, сплетается и т. д. Соответственно и поэт выступает как делатель, кузнец, ткач и т. п." [262, с. 327]. У Блейка этот мотив будет блестяще интерпретирован и в известном стихотворении "Тигр", где творец выковывает свое произведение молотом на наковальне.
Олицетворением творческой силы и фантазии у Блейка в ряде случаев выступают Орк, Лос, Паламаброн. Орк инициирует всякое революционное преобразование, и потому на этапе становления мира он - поэт и творец ("Мильтон", "Иерусалим", Четыре Зоа") Лос (анаграмма латинского Sol) -блейковский солнечный бог - предстает как поэтическая экспрессия, это символ вдохновения. Лос тесно связан с Уртоной и может перевоплощаться в него. Именно Лос в "Четырех Зоа" создает город наук и искусств - Голгону-зу. Паламаброн - образ кроткого, страдающего поэта, он связан с идеей прощения грехов, но и сам порой является жертвой насилия и обмана ("Мильтон"). В "Мильтоне" спор Паламаброна с Сатаной становится аллегорическим изображением борьбы Воображения и Разума. Предоставляя искусству право создавать идеальную вселенную, Блейк показывает все возможности Поэтического Гения: его колоссальный творческий потенциал (Орк), его непостижимость и глубину (Уртона), его утонченность (Паламаброн), его экспрессивность и просветленность (Лос).