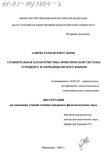Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Имплицитность в дискурсе рассказов А.П.Чехова: общее и особенное 10
1.1 .Основы анализа имплицитности в исследуемом материале 10
1.2. Роль и специфика асимметрии в реализации имплицитности 48
1.3. Имплицитность как конституирующее свойство подтекстного пространства 83
Выводы к 1 главе 94
Глава 2. Имплицитность в лингвистическом представлении иронии в рассказах А.П. Чехова 96
2.1. Основы взаимосвязи между иронией и имплицитностью в рассказах А.П.Чехова 96
2.2. Ирония как результат имплицитности в специфической системе глубинных смыслов 105
2.3. Особенности семантико-прагматической слитности при реализации имплицитности 123
2.4. Ироническая имплицитность при взаимодействии речевых жанров 135
Выводы ко 2 главе 150
Заключение 152
Библиографический список 156
- Роль и специфика асимметрии в реализации имплицитности
- Основы взаимосвязи между иронией и имплицитностью в рассказах А.П.Чехова
- Особенности семантико-прагматической слитности при реализации имплицитности
- Ироническая имплицитность при взаимодействии речевых жанров
Введение к работе
Две объемных, разнопорядковых области знания: наука о языке и чеховедение – соотносятся между собой многомерно. Их закономерное взаимопритяжение, взаимопроникновение, корреляции последовательно отмечаются филологами и проявляются во всё новых аспектах. Принципиальна значимость лингвистического анализа для творчества А.П. Чехова – справедлива мысль, высказанная на материале другого мастера и обладающая высокой объяснительной силой: «При оценке достоинства художественного произведения в мировой практике язык и речевые средства его реализации считаются первоэлементами» (Блягоз 2007: 163).
При этом одним из показательных парадоксов чеховедения является констатация взаимосвязи между серьезными результатами и неоднозначной познавательной ситуацией. Величие чеховского гения – как, впрочем, и многих иных – признают не все, и, например, одно из недавних учебных пособий закономерно открывается таким суждением: «О Чехове продолжают спорить (…). Сам пафос чеховского творчества нередко истолковывается по-разному» (Капустин 2007: 8). Суть наиболее емкого подхода – в словах А.Моруа, назвавшего А.П. Чехова художником, помогающим сохранить надежду даже на грани отчаяния. Эта типичная гносеологическая ситуация намечается на материале рассказов, в том числе принципиальной черты их дискурса – имплицитности. Она должна побуждать к выявлению тенденций, характерных для современного этапа взаимодействия науки о языке и чеховедения (как комплексной сферы знания), в чем и заключается общее условие актуальности избранной проблематики.
Оно конкретизируется тем, что на эмпирической основе языка произведений А.П. Чехова, с его неповторимым очарованием, благодаря адекватной проблематизации был разрешен ряд филологических проблем. Так, в ХХI в. чеховедение обогатилось углубленным анализом таких четырех релевантных лингвистических объектов, как концепт (Брусенская, Ласкова 2003; Чмыхова, Татарникова 2007 и ряд других трудов этих лингвистов), ключевое понятие (Ходус 2004 и ряд других его работ, включая докторскую диссертацию); словообраз (Ваганова 2001); оценочность (Дроботова, Лыкова 2004). Причем этому сопутствует рост научного внимания к таким феноменам в их взаимных связях, как ирония, языковая личность, пространство ее реализации и представления, дискурс, имплицитность и т.д.
Цель исследования – обобщить систему характеристик имплицитности и их роль в репрезентации иронии.
Реализация цели опирается на решение четырех основных задач:
– соотнести общее и особенное в дискурсе рассказов А.П. Чехова различных периодов с учетом полифонии и асимметрии;
– охарактеризовать роль специфической имплицитности в организации подтекстного пространства;
– выявить систему взаимосвязей между иронией и имплицитностью;
– показать сущность иронической имплицитности при взаимодействии
речевых жанров.
Методологическую основу труда составляют две взаимодополнимых сферы обобщений: системный подход и лингвистическая теория знака. В новых версиях системного подхода акцентируется два принципа. Первый – многообразие системных интерпретаций одного сложного объекта, в том числе в языке (Автономова 2008: 57, 211). Второй принцип, подчеркиваемый в методологии, – многовекторное, а не уровневое представление системы языка: «Нужно, отказавшись от попыток выстроить все подсистемы языковой системы в один ряд, установить основные структурные плоскости этой системы, из пересечения которых складывается ее целостная структура, а затем в пределах каждой плоскости выявить структуру соответствующей ей подсистемы языковых фактов» (Чесноков 2008: 112). Для современной лингвистической теории знака методологически существенно взаимопроникновение семантики, синтактики и прагматики (Баранов 2008: 16 и след.). Подчеркнем, что такая методология обусловлена принципиальной установкой «вернуть человека в лингвистику на подобающее ему место» (Золотова 2001: 107).
Соответственно, теоретической базой исследования избраны преломляющие эту методологию положения о видах мотивированности значений (Апресян 2008: 3-33), принцип интеллектуализма в осмыслении языковых сущностей (Немец 2006), обобщение условий многомерной ценности текста (Брусенская, Куликова 2008: 200; Тхорик, Фанян 2008: 24-32; Успенский 2004: 13).
Методы и приемы исследования представляют собой комплекс взаимосвязанных способов решения поставленных задач. Основным является системный анализ, частными проявлениями которого выступают приемы лексикографического, компонентного (семного) и контекстуального (контекстного) анализа. Приведенные методолого-методические характеристики определяются в следующем познавательном контексте, возводимом к Р. Барту: «Современная … научная методология считает условием исследования объекта относительность системы отсчета» (Степанов 2002: 50); по нашему мнению, это касается и самой относительности – то есть существуют свойства и связи, основательные, справедливые при самых разных, а возможно, и при любых системах отсчета.
Объект, как методологическая характеристика исследования; процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное для изучения, – характеристики имплицитности в рассказах А.П. Чехова как система.
Предмет исследования, как его методологическая характеристика, определяющая то, что находится в границах объекта исследования, – носители системности, значимые для репрезентации иронии, включая взаимодействие между семантическими и прагматическими характеристиками, между различными речевыми жанрами.
В качестве материала исследования привлечены все рассказы А.П. Чехова, представленные в актуальных изданиях; при необходимости учитываются различные редакции произведений. Всего анализируется 2000 дискурсов.
Научная новизна результатов проявляется в конкретизации связи между имплицитностью, полифонией и адресацией. Впервые специально охарактеризована полифония в рассказах как реализация языковых единиц и комплексов, акцентирующая многообразие их потенций, значений, функций, соотносимая с различными «дискурсивными голосами» и принципиальная для художественного дискурса. Впервые систематизированы показательные для дискурса А.П. Чехова разнообразные видоизменения, осложнения в адресации, определяемые имплицитностью.
На защиту вынесена система четырех основных положений:
1. Актуальный парадокс лингвистического чеховедения, заключающийся в утверждении как традиционности стиля, так и принципиального языкового новаторства художника, закономерно разрешается на материале имплицитности в дискурсе рассказов. Эта имплицитность соединяет в исследуемом дискурсе системную всеобщность и особое разнообразие реализаций. Системность реализаций имплицитности связана с природой подтекста и иронических смыслов в рассказах.
2. Известное положение о том, что в центре внимания А.П. Чехова – человек во всех его ипостасях, проявлениях, гранях, внутренне связано с сущностью имплицитности, с присущей ее глубиной семантико-прагматических обобщений. Интегральным свойством при этом оказывается ирония в широком смысле, от мягкого юмора до грани сарказма.
Феноменологически с обобщением проявлений соотносится единство обыденного, очевидного – и потаенного, загадочного, явленного в речевых характеристиках образов, в т.ч. повествователя, рассказчика, образов-персонажей. С этим коррелирует дискурсивное раскрытие места человека в социуме и углубленное представление сути дискурса. Вытекающее отсюда соотнесение тезауруса и прагматикона языковых личностей рассказчика и персонажей показывает значимую роль прагматических компонентов имплицитности.
3. Система прагматических компонентов в материале носит многоуровневый характер. В ней соотносятся основные и дополняющие подсистемы. В основе организации прагматического пространства лежит связь между единицами, отражающая систему отношений, которые существуют между прагматически первостепенными элементами. Дополняющая подсистема определяется связью между прагматически первостепенными и второстепенными элементами. Имплицитность представлена в обеих подсистемах, однако, различными проявлениями.
4. Для раскрытия имплицитности значима адресация как специально выраженная ориентированность высказывания, дискурса на реципиента, которая вбирает в себя широкий круг способов выражения, включая синтаксемы адресата, вокативы, косвенные контактоустанавливающие средства. Для дискурса А.П. Чехова принципиальна имплицированность адресации, вплоть до ее деформации, обессмысливания, исключения адресата ввиду незнания адреса. В этом аспекте рассказы делятся на две основные группы: с доминантой имплицитности и с относительным равновесием между имплицитностью и эксплицитностью. Данная корреляция частично соотносится с периодизацией творчества А.П. Чехова, т.е. находится в отношениях взаимно-неоднозначного соответствия с эволюцией его стиля, представленной в дискурсе.
Теоретическая значимость исследования состоит в определенном развитии представлений о системности в языке. Семантика и прагматика текста рассмотрены как носитель комплексных системных отношений, интегрирующих общеязыковую системность и специфическую образность художественного целого. Соответственно охарактеризованы подсистемы и элементы. Системные отношения в семантике текста освещены с учетом их тесной связи с синтактикой и прагматикой. Предлагаются рабочие дефиниции актуальных номинаций, концептуально взаимодополнимые и опирающиеся на совместимые исследовательские подходы.
Языковая личность (ЯЛ) на основе концепции В.И. Карасика (2007: 8, 223-224 и др.) понимается как человек, существующий в языковом пространстве, прежде всего в общении, стереотипах поведения, закрепленных значениями языковых единиц, смыслами текстов; при лингвистическом анализе литературных произведений ЯЛ определяется в художественном языковом пространстве как особом типе реальности (см.: Заика 2006: 33-35).
Дискурс, с опорой на положения Г.Н. Манаенко (2009: 21), интерпретируется как «социально детерминированный тип осуществления речевого общения». Дискурс художественной реальности вбирает в себя эстетически закрепленные феномены, соотносимые с социальной детерминацией в широком смысле.
Пространство дискурса того или иного автора характеризуется как способ представления дискурса, отражающий относительную целостность текстов автора и соответствующий общенаучной тенденции локализовать исследуемые объекты (с использованием таких феноменов, как координаты, векторы, сферы, области и под.). Такое понимание соотносится и с актуализацией хронотопа, специфичной для чеховедения: «Чехов (быть может, это наиболее важно) был неустанно озабочен отношением человека к непосредственно близкой ему реальности, к нашим «здесь» и «сейчас» (думаю, в большей мере, чем кто-либо еще из писателей-классиков ХIХ в.)» (Хализев 2009: 3).
Актуальны устойчиво – особенно в русле возрожденной познавательной установки: объяснять с единых позиций парадоксы, крайности (в т.ч. в творчестве А.П. Чехова – см. Изотова 2002: 75; Катаев 1979: 211). В последние годы при анализе даже самых резких контрастов подчеркивают их высокую онтологичность – то, что они соответствуют специфике литературы как вида искусства» (Полоцкая 2001: 219).
Практическую значимость результатов определяет возможность их применения для разработки и освоения филологических дисциплин в различных условиях обучения, включая вузовские курсы прагмалингвистики, введения в языкознания, теории художественной речи, общей лексикологии, а также для создания лексикографических источников, в частности, словарей языка писателя.
Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на заседании кафедры общего языкознания Адыгейского государственного университета. Материалы диссертационного исследования освещались на научных конференциях: «Актуальные проблемы современного языкознания и литературоведения» (Краснодар 2009), в том числе и на международной научной конференции «Когнитивная парадигма языкового сознания в современной лингвистике» (Майкоп 2011) и др. По материалам проведенной работы опубликовано шесть статей, в том числе одна в издании, рекомендованном ВАК РФ.
Структурно работа состоит из введения, двух исследовательских глав, заключения, библиографического списка, списка источников эмпирического материала (173 наименования).
Роль и специфика асимметрии в реализации имплицитности
Неоднозначность текста строится на асимметричности означающего и означаемого. Со стороны читателя подтекст является следствием асимметричности, поскольку сначала читатель обращает внимание на семантические и синтаксические индикаторы подтекста. Для писателя асимметричность является следствием подтекста. Ведь глубинный уровень текста возникает раньше средств его создания. Поэтому неоднозначность текста не может быть нормативным нарушением. Смысл закладывается автором с первых строчек текста и даже названия. Подтекст может быть лишь результатом сознательного нарушения нормы с целью шутки, насмешки, языковой игры, человеческой неграмотности.
Поскольку не существует словаря подтекстов, то подтекст как информация, противоречащая поверхностному уровню текста, не считается отклонением от общепринятых, узуальных способов использования языка. В связи с этим, по отношению к динамичной норме подтекст является статичным явлением, не имея конкретных инструментов для его создания. Норма предусматривает динамическое взаимодействие разных способов языкового выражения в зависимости от условий общения (это свойство нормы называют ее коммуникативной целесообразностью). Подтекст нередко бывает коммуникативно целесообразным, т.к. не все можно выразить прямым текстом по причине страха, недоверия, насмешки, а также ради экспрессивности. Подтекст - одно из самых выразительных средств языка, которое, несмотря на кажущееся отклонение от нормы, в процессе реализации языковых единиц в художественном тексте является необходимым условием порождения новой нормы, означающей приращение смысла, реализацию подтекста (Голякова 1996: 23-24).
В нормальной ситуации человеческий диалог не является последовательностью не связанных друг с другом реплик - в этом случае он не был бы осмысленным. В любом случае на каждом шагу диалога некоторые реплики исключаются как коммуникативно-неуместные. Тем самым можно в общих чертах сформулировать следующий основной принцип, соблюдение которого ожидается (при прочих равных условиях) от участников диалога: «Твой коммуникативный вклад на данном шаге диалога должен быть таким, какого требует совместно принятая цель (направление) этого диалога» (Грайс 1985: 217-237). Этот принцип Г.П. Грайс называет Принципом Кооперации.
Г.П. Грайс рассматривает «неясность» высказывания только в пределах данного речевого акта или микроконтекста, но не в пределах макроконтекста, так как не принимает во внимание «литературный фон» произведения. По Грайсу, даже неясность может привести к перлокутивному эффекту, тогда как подтекст может являться также и причиной его отсутствия.
Но даже рассматривая подтекст в пределах микроконтекста, можно обнаружить, что постулаты коммуникации Г.П. Грайса нарушаются зачастую лишь на поверхностном уровне, но за текстом, на глубинном уровне постулаты нарушению не подвергнуты, т.е. подтекст может не влиять на Принцип Кооперации собеседников и тоже приводить к перлокутивному эффекту. Благодаря внутренней перекодировке на метасемиотическом уровне нарушения постулатов количества, качества, отношения сводятся к нулю.
Итак, подтекст имеет к норме следующее отношение:
Подтекст обладает таким свойством нормы, которое называется коммуникативная целесообразность. Подтекст - это не нарушение, а варьирование нормы в связи с асимметричностью означающего и означаемого, поскольку для писателя асимметричность - следствие подтекста. Таким образом, смысл первичнее средств его выражения.
Подтекст может быть сознательным нарушением нормы с целью шутки, игры слов, неграмотности или насмешки.
Подтекст не зафиксирован ни в одном словаре и поэтому не может быть отклонением от узуальных способов использования языка. (Грайс 1985: 217-237).
Постулаты Г.П. Грайса нарушаются лишь на поверхностном уровне, что не мешает созданию перлокутивного эффекта сообщения.
Подтекст, подобно литературному произведению, может обладать разнообразными тематическими особенностями. Тематика подтекстов очень тесно связана с отрицательной оценочностью, происходящей на уровне межличностных отношений.
На поверхностном уровне текста всегда находятся инструменты создания подтекстовой информации. В литературе широко обсуждается повтор (в том числе рассредоточенный повтор), как важнейшее средство создания подтекста. Наряду с повтором к таким средствам следует отнести антитезу, эффект обманутого ожидания, аллюзию, гиперболу, метафору, интонационно-синтаксические и графические средства, ремарки автора, метонимию и некоторые другие. Одним из главных инструментов создания подтекста является антитеза.
Антитеза, с одной стороны, а) создается лексической антонимией, а с другой стороны, б) противопоставленностью ситуаций.
Особое внимание в современных исследованиях уделяется созданию модели имплицитности, в основе которой лежит лингвокогнитивный механизм, единый для языка, речи и текста.
В большинстве психологических исследований делается вывод о том, что имплицитность - это особая форма знания (A. Damasio, Z. Dienes, J. Perner, Б. M. Величковский, J. De Hower, A. Moors, R.F. Bomstein и др.). Существование знания в такой форме эволюционно оправдано, так как не перегружает когнитивную систему и во много раз повышает скорость обработки информации, поступающей в мозг. Отработанные и автоматизированные эксплицитные и имплицитные познавательные ресурсы мозга успешно работают параллельно.
Имплицитная форма знания обладает такими качествами, как автоматичность, усвоенность, неконтролируемость, невербализованность, опосредованная доступность. Психологи и психолингвисты оперируют такими понятиями, как «степень имплицитности», «перевод единицы со слабого уровня осознания на более осознаваемый уровень понимания» (Field 1978, Dienes, Perner 1999, Рафикова 1999). Признается, что любые знания, носящие характер усвоенных систем (схем) знаний процедурного характера, значительно более имплицитны, нежели знания декларативного характера (Dienes, Perner 1999). При выведении имплицитного знания из автоматизма может меняться его качество, так как имплицитное знание, будучи во многом обусловленным психикой, имеет не только познавательный, но и эмоциональный характер. Лингвист имеет доступ к этому знанию тогда, когда с помощью ситуации и контекста это знание выводится из автоматизма.
Согласно лингвокогнитивной модели имплицитности можно говорить о следующих формах когнитивного явления «имплицитность»: 1) имплицитное знание, 2) имплицитное значение и 3) имплицитный смысл. Имплицитное знание в качестве латентного фактора включено в языковое значение и проявляет себя опосредованно (через запреты на употребление тех или иных языковых форм в тех или иных обстоятельствах). Понятие «имплицитное значение» введено Л.В. Бондарко (Бондарко 2006) и подразумевает интерпретационный компонент, включенный в языковое значение в форме семантически немаркированной составной части грамматических категорий (один из членов привативной оппозиции в структуре грамматических категорий аспектуальности, темпоральности, модальности, персональности, локативности, посессивности и других не маркирован).
Имплицитное знание в речи доступно для лингвистического наблюдения тогда, когда с помощью ситуации и контекста это знание выводится из автоматизма, и возникают имплицитные смыслы. Речевой имплицитный смысл качественно отличается от языкового имплицитного значения тем, что он, с одной стороны, в большей степени осознаваем и контролируем, и, с другой стороны, тем, что в его образовании участвуют разнородные компоненты: ситуативный контекст, усвоенные знания (как энциклопедические, так и прагма-коммуникативные, связанные со схемно-процессуальными навыками общения), собственно форма речевого произведения. Когда мы говорим, что «нечто представлено в речи имплицитно», мы имеем в виду, что необходима некоторая мыслительная операция для установления связи между ситуацией, усвоенным знанием и (в некоторых случаях) формой высказывания.
Имплицитность как лингвокогнитивный феномен - это форма существования знания в языке, речи и тексте. Навык восприятия имплицитного и эксплицитного в речевом произведении настолько автоматизирован, что лишь особая организация речевого контекста (особые речевые приемы) способны «вернуть» говорящего к сознательной полной или частичной экспликации имплицитного. Гибкая модель «имплицитное знание» - «имплицитный смысл» позволяет описать механизм образования имплицитного смысла в речи. От типа «оживляемого» имплицитного знания зависит тип языкового явления, необходимой частью которого является имплицитный смысловой компонент.
Основы взаимосвязи между иронией и имплицитностью в рассказах А.П.Чехова
Как было предварено в первой главе при соотнесении общего и особенного в сфере имплицитности, важные проявления специфики связаны с лингвистическим представлением иронии. Основа взаимосвязи между иронией и имплицитностью включает две плоскости: это широкий, доходящий до всеобщности характер иронии у А.П, Чехова и внутренняя, глубинная природа ее проявления. Отдельные замечания о соответствующих явлениях упоминается в связи с характерным для художника синтезом далеко стоящих друг от друга противоположностей. Здесь не злой сарказм разума, а полная любви ирония сердца, пробуждающая у читателя сочувствие. Эту особенность некоторые исследователи творчества А.П, Чехова называют «внутренней иронией» (Полоцкая 1969: 441), другие - «насыщенностью противительной интонацией» (Чичерин 1968: 316). Двойственность заключается в расхождении между внешней интонацией и внутренним, скрытым содержанием слова. Акценты сделаны в таких местах, в каких вовсе не ожидаются.
Подобные явления требуют специального анализа. При этом учитываются общенаучные положения об иронии. Анализ теорий комического в области эстетики показывает, что отклонение от аксиологической нормы или от стереотипа - причина, по которой объект представляется комичным. Отклонение данного типа может возникать в разных областях социокультурной жизни человека, начиная с этики и заканчивая языком. Не случайно в аксиологической лингвистике, формирующейся в рамках лингвокультурологии, в качестве материала для исследований берутся комические тексты, в которых происходит дискредитация ценностей, соотносимых с «личностно-утилитарными доминантами носителя культуры» (Слышкин 2000: 87). Исследования этнографического и историко-культурного характера проливают свет на зарождение смеха и его дальнейшее развитие в культуре, естественным образом оказавшее влияние на сознание современного человека, а через него и на язык. На самых ранних стадиях развития культуры смех проявил себя как амбивалентная сущность, которая находит свое выражение в языковых структурах в виде оппозиций: жизнь - смерть, добро - зло, норма -антинорма и т.д. Социальная природа смеха рассматривается в работе на макроуровне (социокультурном) и микроуровне (личностно-групповом). Особенности культуры определенного общества могут проявляться на вербальном уровне преимущественно в стандартных шутливых репликах, в игре слов, в пародировании. Это оказывается возможным благодаря тому, что юмор и смех представляются одним из видов символических действий, которыми обменивается человек в обществе. Позитивность смеха как реакции на парадоксальность ситуации в том, что она несет в себе возможность совместного существования оппозиций, тем самым противостоит насилию, которое стремится к уничтожению одного из полюсов (ср.: Ахиезер 1991). Комическое оказывается в ряду средств идентификации человека как члена определенной социальной группы, а также средством самоидентификации личности (или группы).
С точки зрения когнитивной психологии чувство юмора определяется как способность человека понимать комическое, в том числе вербальный юмор, который основан на неоднозначности языковой единицы. Реципиент должен удержать в памяти одно значение слова/словосочетания, в то время как в процессе восприятия комического текста внимание переносится на другое значение. Обучение этой способности является одной из задач в процессе обучения способности понимать вербальные комические тексты. Отклонение от любой нормы/стереотипа как причина, побуждающая человека смеяться, может возникнуть только при определенных психологических условиях: 1) в состоянии безопасности реципиента; 2) в состоянии созерцательности, эмоциональной нечувствительности адресата к объекту; 3) в результате неожиданности комического эффекта; 4) при ограничении меры эмоционального воздействия на реципиента; 5) при наличии игровой сущности ситуации, в которой возникает комическое. С семиотической точки зрения комическое представляется как сосредоточение контрзнаков, сотворяющих неопределенность (Бороденко 1995). Это происходит в связи с тем, что единый план формы комического знака (контрзнака) задает разные планы содержания, которые имеют взаимоисключающие признаки. Эта особенность комического знака проявляется на разных языковых уровнях. С формально-логических позиций в комическом вербальном тексте происходит движение от темы к реме посредством логического механизма контрапозитивности (Смирнов 1977: 307). С содержательных позиций логика комического идет не по пути выводного знания, а по пути оперирования суждениями как застывшей фиксацией «знания». Знание об окружающем мире было получено в предыдущем опыте субъекта, поэтому неважно получение результата этого процесса: нового знания, а важно протекание самого процесса (и в этом находит свое проявление игровое начало комического).
Для анализа иронии важны следующие характеристики понимания: идеальность, интенциональность, категоризованность, вариативность, ситуативность. В процессе понимания комических текстов реципиент , вынужден встать на позицию рефлектирующего субъекта, т.к. смысл в них имплицирован.
Вслед за Г.П. Щедровицким, мы оперируем понятием «смысл» как единицей методологической системы исследователя, предварительно представив структуру смысла комического (в виде контрапозитивности), которая являет собой конверсию инверсии. Мы использовали эту модель при анализе конкретных смыслов отдельных комических текстов/высказываний. Она представляет понимание как процесс мыследействования, направленный на построение смыслов вербального комического текста. С опорой на теорию мыследеятельности Г.П. Щедровицкого в исследовании рассматривается процесс протекания рефлексии при понимании комических текстов на трех поясах системомыследеятельности (Щедровицкий Г.П.).
В процессе производства и понимания комического текста пути мыследействования коммуникантов проходят по-разному. Субъект речи и реципиент направляют рефлексию на объекты разных поясов: на предметные представления или на языковые средства. Реципиент должен распознать этот тактический прием, удерживая в сознании (предсознании) разнонаправленные действия мыслительного процесса, и расшифровать «спрятанный» в них смысл.
Процесс мыследействования может иметь место во всех трех типах понимания: семантизирующем, если рефлексия направлена на семантизацию собственно языковых структур; когнитивном, если рефлексия направлена на усмотрение предметных представлений, передаваемых средствами прямой номинации; и смысловом, если рефлексия направлена на распредмечивание смыслов, презентируемых в тексте не только средствами прямой номинации.
В одном тексте/высказывании, создающем комический эффект, могут быть активизированы разные типы понимания, которые оказываются необходимыми для конечного построения смыслов. При актуализации семантизирующего понимания вербальных комических текстов рефлективная работа начинается преимущественно тогда, когда контекстуальное совмещение языковых средств нарушает автоматизм восприятия, побуждает реципиента видеть в языковом материале «знакомого незнакомца». Такими средствами служат «несовместимые» фонетико грамматические, лексические, семантические, синтаксические, стилистически окрашенные единицы, которые создают комический эффект и в совокупности образуют языковые и стилистические средства комического, Метод лингвокогнитивного анализа имплицитности подразумевает наблюдение над всеми типами имплицитности в художественном тексте.
Как показывает наше исследование, несмотря на доминирование, как правило, какого-то одного типа имплицитности в текстах прозы психологического и фантастического реализма, очень часто необходимы и другие имплицитные проекции для категоризации текста. Лишь комплексный анализ имплицитных смыслов может описать тот потенциал интерпретационных возможностей, который несет в себе тот или иной художественный текст.
Материал рассказов А.П. Чехова репрезентативен в отмеченном плане. На рубеже XIX - XX веков русская литература подарила миру целую плеяду замечательных прозаиков, талантливых драматургов и выдающихся поэтов. Творчество некоторых из них, как например, Льва Николаевича Толстого и Антона Павловича Чехова, заслуженно считаются вершиной мировой литературы конца XIX - начала XX столетий. Их произведения, многогранно отражая окружающую действительность, стали художественным свидетельством того, что судьба человека - это, прежде всего, отражение судьбы общества. Открытие тесной связи личных и общественных судеб оказалось исключительно важным для определения новых путей и возможностей развития критического реализма рубежа веков. Именно тогда произведения разных жанров стали художественным средством выражения социальных и духовных процессов эпохи, общественной психологии. Изменения, которые происходили в системе критического реализма тех лет, нашли яркое и самобытное отражение в творчестве Антона Павловича Чехова
Особенности семантико-прагматической слитности при реализации имплицитности
Наблюдения, выполненные в п.2.2, вплотную подводят к неоднозначности интерпретаций текста, образа, даже лингвистических средств сюжетостроения. Анализ иронии позволяет специально остановиться на таком ее условии, как семантико-прагматическая слитность при реализации имплицитности.
Для рассказов А.П. Чехова - например, «Душечки» - принципиально «соединение полюсов» в оценках, отмечаемое многими исследователями. Полагаем, что оно познаваемое лингвистически. Причем закреплено такими средствами, в которых имплицитная ирония является ведущей. Особая цельность, слитность этих средств представляет интерес для анализа.
Именно опора на этот аспект позволит несколько прояснить вопросы, которые остаются злободневными уже свыше столетия: не равноценна ли пресловутая чеховская уклончивость той всесторонности подхода к явлениям, которая нарастала в русской литературе на протяжении всего XIX века? Точно так же надо осмыслить и повышенное внимание А.П. Чехова к случайному, мимолетному: тут нет подмены типического, тут расширение сферы того индивидуального, через которое искусство всегда достигает изображения типического. Много говорится в работах последних лет о принципе «индивидуализации» явлений в творчестве А.П. Чехова, о предпочтении им «отдельных случаев» случаям типическим. Вследствие такого понимания получается, что у А.П. Чехова как бы и нет типизации.
Навязывается представление о некоей «стерильной объективности» изображения у А.П. Чехова; будто бы А.П. Чехов опирался на «случайностный» принцип изображения, будто для А.П. Чехова было «равнодостойно» великое и малое, высокое и низкое, - все, что-де, мол, слито в вечном единстве и не может быть разъединено. Порой говорят, что для Чехова не подходят прежние эстетические мерки: «ничего лишнего», «деталь - часть целого», будто мир Чехова - это именно такой мир, который приближается к естественному бытию в его хаотичных, случайных формах, и через это писатель подходит к абсолютности бытия. Некоторые исследователи считают, что личность у А.П. Чехова выступает как простая данность и что сам А.П. Чехов не может служить примером летописца зарождающихся общественных форм.
Поэтому нужно вдуматься в сложные связи просветителя, демократа и гуманиста Чехова с общественным и литературным движением в России 80-90-х годов XIX века. Немыслимо уже изучать сегодня А.П. Чехова без широкого, всестороннего сопоставления его с Достоевским, Толстым, Горьким. Это писатели - его современники, во многом его антиподы. Но они и есть та динамическая историческая среда, в напряженном взаимодействии с которой и могло сложиться такое уникальное явление русского реализма, как А.П. Чехов.
Обратимся в этой связи к средствам семантико-прагматической слитности при реализации имплицитности в рассказе «Душечка» (1899), причисляемом Толстым, Буниным и многими другими авторитетными ценителями к ряду наилучших.. (Общефилологический анализ связывает его с весьма различными традициями: от антично-мифологических и древнерисмких, до раннеромантических, например, соотносит с известной поэмой, или стихотворной сказкой, И.Ф.Богдановича «Душенька» (1783).
Общеизвестно, какое значение придавал А.П. Чехов заглавиям. Он отказался от метерлинковской символики настроения и противопоставлял ей символику характеров, задача которой заключалась в том, чтобы объяснить аллегорический подтекст, густо пронизывающий действие. Название «Душечка» наиболее глубоко передаёт манеру душевного поведения героини, которое просвечивает во всех её поступках, придаёт особое обаяние всему тому, что она говорит и делает, и пленяет всех, кто оказывается рядом с ней. Обворожительность и грация женской души концентрируется в этом снабжённом уменьшительным суффиксом ласкательном имени, воздействие которого на нас гораздо сильнее, нежели любого имени собственного. Исследователи правомерно проводят параллель с её архетипом Психеей, считая Душечку её приземлённым небесным двойником, соответствующим более низкому уровню (Poggioli 1957, Winner 1966, Jackson 1967). Интертекстуальный анализ развеивает все сомнения относительно этой связи. Душечка по-гречески Psyche, по латыни anima - субстанция души: первобытный спиритуальный символ, принцип женственности (душа в русском языке женского рода, дух - мужского). Другое значение слова psyche - бабочка, поэтому в греческом фольклоре душа изображена в виде бабочки. Любовь является одним из самых основополагающих принципов человеческого существования, в то же время душа привязана к смертному существованию бабочки. Однако у человека архаических времён имелся более абстрактный геометрический символ для изображения души, а именно яйцо или шар (круг, кольцо), которые символизировали полноту, изначальное единство, господствующее во вселенной равновесие. Космическое первобытное яйцо является неделимым единством, несущим в себе зародыш всего существующего. Ещё Платон описывал душу как шар, как самую совершенную форму пространства. Персонифицированный вариант мы получаем в легенде об андрогинах (мужчина и женщина в одном лице), повествующей об идеальном человеке. Шарообразные, неотделимые друг от друга существа Зевс - по причине их высокомерия по отношению к богам - в наказание разделил на две половины: из одного стало два, и теперь половины вечно ищут принадлежащую им другую часть. Согласно притче Платона, человеческие души стремятся соединиться с другими душами, от которых были оторваны в ходе инкарнации. Душа хочет вновь обрести прежнее счастье путём воссоединения со своей второй половиной. По платоновскому анамнезису человеческое тело "помнит" о единстве с незапамятных времён, когда два было ещё одним. Любовь объединяет вновь то, что из-за половой поляризации разделено и ущербно. Онтологически любовь может вернуть к Эросу, соединяющему людей друг с другом: «желание и поиск полноты мы называем Эросом». Соловьёв метко заметил: «...Разделение между мужским и женским элементом человеческого существа есть уже состояние дезинтеграции и начало смерти ... Бессмертным может быть только цельный человек» (Соловьёв 1990: 178).
Все эти имплицитные, слитно репрезентированные смыслы сказывались на представлении о тексте. «Душечка - это не тип, а целый «вид», - писал Немирович-Данченко автору, - с именем коннотируется и её фамилия Племянникова» (Чехов - 1974 - 1983; Письма 10/409). Это верно, она - genus, имеющий разнообразные виды (species). Эта фигура матери и анимы в равной степени воплощают в себе «Россию-мать», определяющую русскую национальную идентичность и выступающую в главной роли в эстетике символистов «вечную женственность» и земную разновидность Софии: теллурическую мать-землю. Начальным лабиальным «О» имени героини А.П. Чехов подчёркивает женственно округлые, овальные черты Оленьки (Ольги, Оли), что одинаково подтверждается внешней и внутренней характеристикой: «...тихая, добродушная, с кротким, мягким взглядом, очень здоровая, полные розовые щёки, мягкая белая шея с тёмной родинкой, добрая наивная улыбка...» и так далее (Чехов - 1974 - 1983; Письма 10/103).
Разнообразные формообразования шара {круг, зонтик, мандола) означают совершенное равновесие. Таким архетипическим мотивом в «Трёх годах» является потёртый шёлковый зонтик Юлии Сергеевны, под которым влюблённый Лаптев просидел всю ночь и пережил глубокое чувство мандалы: «Зонтик был шёлковый, уже не новый, перехваченный старою резинкой; ручка была простой, белой кости, дешёвая. Лаптев раскрыл его над собой, и ему казалось, что около него далее пахнет счастьем» «Три года».
Зонтик является солярным знаком: символизирует солнце, небесный свод или корону космического древа жизни. Он как бы подсказывает, что под ним человек найдёт прибежище, обретение смысла жизни, найдёт совершенное счастье. Человек чувствует, что символ круга-шара врачует душевный раскол, причинённый апокалиптической эпохой: сохраняет душевное равновесие, если оно однажды наступит, или возобновляет его, если вдруг оно потеряно. Потому-то и был изображён Толстым в «Войне и мире» Платон (!) Каратаев таким уравновешенным и округлым, словно совершенный шар Эмпедокла, для которого даже смерть не является трагедией, а только капля из водяного шара разлилась. Размягчённость и округлость - русские черты (ср. статью Бердяева «О "вечно-бабьем" в русской душе»). Одну из типичнейших русских национальных черт Гончаров видел в Обломове. О том же свидетельствует и семантическое объяснение (обло = уёмистый, круглый). Мужская угловатость Штольца, беспокойная его активность резко отличаются от феминистической размягчённости Обломова, его природы домоседа. Андрогинность Обломова проявляется и в том, что сам по себе он совершенно счастлив, у него нет потребности ни в дружбе, ни в любви, ни в работе. Он не делает ничего «лишнего». Отказывается даже от карьеры, полагая, что человек только тогда сможет зажить полной жизнью, если оставит работу, расщепляющую его личность. Он не ломает, не крошит себя, сохраняет свою цельность и интегральность (entite и integrite). Избегает растекания, беспричинной траты энергии, любых форм чувственных бурь, угрожающих нарушить состояние равновесия. Тишина и кротость сильнее любой бури, потому что являются состоянием равновесия. Однако шарообразность символизирует не только полноту жизни, но и закрытость (замкнутость, запертость), не могущую переступить себя душу (Оленька, Обломов, Каратаев и другие).
Ироническая имплицитность при взаимодействии речевых жанров
В исследуемом материале сильным средством имплицитного представления иронии оказывается взаимодействие речевых жанров. Лингвистическая прагматика разделяет жанры, ориентированные на убеждение собеседника (make-believe discourses, в нашей терминологии -аффективные жанры), и жанры, которые направлены на то, чтобы побудить адресата к действию, поступку (make-do discourses или императивные речевые жанры) (Арутюнова 1998: 650).
Императивные жанры во внехудожественной речи содействуют осуществлению реальных событий: они призваны «вызвать осуществление / неосуществление событий, необходимых, желательных или, напротив, нежелательных, опасных для кого-то из участников общения» (Шмелева 1997: 97). Не случайно в названии таких жанров, «как правило, фигурирует "перформативное существительное» - приказ, распоряжение, договор, инструкция, приговор, постановление и т. п.» (Долинин 1998: 38).
Слово и дело в таких жанрах нераздельны.
Поэтому в данном пункте необходимо особенно последовательно соотнести изображенное слово у А.П. Чехова и его имплицитные представления о социальной реальности.
Ведущую роль в парадигме императивных жанров играет просьба -жанр, ориентированный на получение непосредственного результата. В речевом жанре просьбы партнеры по диалогу находятся во взаимодополнительных отношениях: проситель испытывает некую недостачу - материальную, эмоциональную или чисто знаковую, а потенциальный бенефактор способен эту недостачу восполнить. Восполнение недостачи и есть иллокутивная цель, структурирующая речевой жанр. При этом говорящие обычно находятся в неравных условиях. Проситель, как правило, лично заинтересован в исполнении просьбы, у бенефактора же такой заинтересованности нет: он волен исполнить просьбу или отказать (Вежбицка 1997: 104). Собеседники соотнесены по критериям свобода / вынужденность, незаинтересованность / заинтересованность, сила / слабость, обладание / желание. В этом смысле просьба и структурируется отношениями власти, и одновременно структурирует их, распределяя социальные роли по шкале от «профессионального» просителя (нищего) и до обладателя высшей власти и богатства, который, по идее, никогда никого не о чем не просит. Жанр просьбы существует там, где есть отношения власти и желания, а не просто речевой акт.
Этими отношениями определяется и концепция адресанта в жанре просьбы: инициатор диалога в данный момент находится в зависимом положении от слушателя и его задача - убедить, уговорить, побудить (но не заставить) слушателя нечто сделать. Поскольку речь идет об убеждении, то успех часто зависит от риторических способностей говорящего и его возможностей воздействовать именно на данного слушателя. Поэтому просьба иногда перепоручается другому (высшему по статусу, близкому к бенефактору, лучше владеющему навыками убеждения и т. д.). Такая просьба для (за) другого двусубъектна, и посредник может проявлять собственную инициативу, вносить коррективы в мотивировку и даже содержание просьбы. Введение посредника в просьбу часто продиктовано желанием минимизировать зависимость просителя.
Концепция адресата определяется тем, что слушатель-бенефактор обладает ценностью (властью, богатством, символическим капиталом и т. д.), часть которой он может уделить просящему.
Предмет, объект просьбы должен существовать, быть достижимым и находится в распоряжении бенефактора. Мы оговариваем эти совершенно очевидные условия любой просьбы, потому что в дальнейшем убедимся: именно их нарушение часто придает чеховскому тексту парадоксальные черты.
Просьба должна быть эксплицитно высказана, ясно сформулирована, хотя в некоторых случаях (например, в случае обращения к врачу) адресат должен сам доформулировать за просителя его просьбу. В этом отношении просьба может граничить с жалобой: то же обращение к врачу - жалоба, которая одновременно включает просьбу о помощи.
Тональность (Багдасарян 2002: 240-245) просьбы может варьироваться (мольба, заклинание, уговоры, упрашивание, нейтральная просьба), но во всех случаях остается важное прагматическое условие: просьба должна быть скромна, она сопровождается формами вежливости, принижающими говорящего и возвышающими слушателя. Эти формы подчиняются прагматическим максимами такта и щедрости, входящими в принцип вежливости: минимизируй затраты для другого, максимализируй выгоду для другого; минимизируй выгоду для себя, максимализируй затраты для себя (Leech 1983: 131-137). Поскольку в случае просьбы реальные затраты и выгода распределяются не в соответствии с принципом вежливости, они должны быть символически компенсированы риторикой просьбы. Этому служит так называемый «минимизатор обязательности» (imposition minimizer): «высказывание, указывающее на то, что говорящий не стремится «навязать» адресату выполнение действия» (Зотеева 2002: 271). Требование и тем более приказ на месте просьбы - серьезное нарушение речевого этикета (Ярмаркина 2002: 266-267).
По отношению к коммуникативному прошлому просьба обычно предстает как инициативный жанр: проситель всегда инициирует общение, и его просьба обычно сопровождается объяснением, почему он нуждается в том, о чем просит (Зотеева 2002: 270). Разъяснение просьбы часто содержит указание на невиновность говорящего в событиях или обстоятельствах прошлого, которые вынуждают его просить (ссылки на несчастья, стихийные бедствия и т. п.). Даже в тех случаях, когда просьба обусловлена только личным желанием просителя, он склонен представлять ее как вынужденную.
Фактор коммуникативного будущего предполагает, что ответ слушателя должен быть положительным или отрицательным (Федосюк 1996: 87) Если все-таки дается неопределенный ответ, то он тяготеет к одному из названных полюсов. В любом случае ответ не должен быть имитацией или подменой исполнения просьбы. Нельзя признать нормальным ответ, при котором человек вместо просимого получает нечто иное, ни в каком отношении не способное заменить объект просьбы («вместо хлеба -камень»). Негативный ответ (отказ) обусловлен неспособностью или нежеланием помочь. Отказ должен быть мотивирован - по меньшей мере, для самого несостоявшегося бенефактора с целью самооправдания. Вежливый отказ предполагает формулировку, которая будет понятна просителю. Грубый отказ всегда равен оскорблению. Позитивный ответ может выступать в формах немедленного исполнения или обещания. Последнее предполагает некие разумные сроки исполнения.
Таковы в общих чертах особенности просьбы как речевого жанра. Как мы видим, ее структуру центрируют отношения говорящих по двум осям: «сила - слабость» и «желание ценности - обладание ею». Поэтому диалектика желания и зависимости у А.П. Чехова и будет главным предметом анализа в этом разделе.
А.П. Чехов, выше всего ценивший свободу, крайне редко изображает людей, которые сознательно добиваются собственной свободы. Если не считать героев, которые стремятся к полному уходу от мира в солипсическую самодостаточность (Рагин - «Палата № 6», Семен Толковый - «В ссылке»), то персонажей такого рода можно пересчитать по пальцам: Соломон («Степь»), Мисаил Полознев («Моя жизнь»), Надя Шумина («Невеста») и некоторые другие. Но и для них - а тем более для всех остальных героев, каковы бы ни были их возраст, психология, социальное и имущественное положение, - сохраняется зависимость от людей и обстоятельств, и возможность любого социального движения оказывается неотделима от просьбы. Поэтому этот речевой жанр пронизывает все чеховское творчество, часто составляет основу сюжета и подчиняет себе характеристики персонажей. Есть ли что-то общее во всех бесчисленных случаях зависимости и просьбы?
Как и в случаях других речевых жанров, А.П. Чехов подвергает испытанию жанр просьбы, экспериментирует на его границах, показывает множество ситуаций, в которых самые незамысловатые просьбы предстают, в сущности, парадоксальными. Так, может меняться обычное для просьбы соотношение актантов: униженным и зависимым просителем становится тот, кто по своему статусу таковым быть не должен: в рассказах «Кошмар» и «Письмо» таковыми оказываются священники, в «Тайном советнике» и «Скучной истории» — статские генералы.