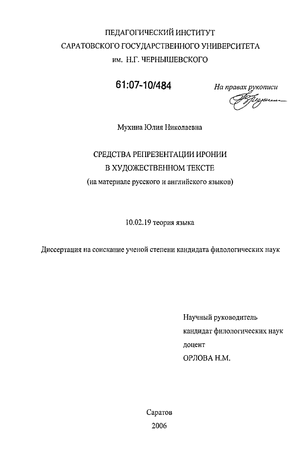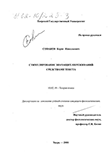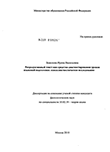Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Ирония в историко-лингвистическом аспекте 11
1.1. Предпосылки возникновения термина «ирония» 11
1.2. Историческое становление категории иронии 18
1.3. Ирония в составе категории комического 29
1.4. Ирония в лингвистике 44
Глава 2. Экспликация иронии в художественном тексте 59
2.1. Виды иронии на лексическом уровне 59
2.2. Контекстуальная обусловленность иронического смысла 72
2.3. Особенности интерпретации иронического контекста 88
Глава 3. Средства репрезентации иронии в русском и английском художественном тексте 105
3.1. Каламбур 106
3.2. Метафора, художественное сравнение 123
3.3. Перифраз 130
3.4. Оксюморон, зевгма, гипербола 132
3.5. Аллюзия 137
Заключение 150
Библиография 155
Список текстового материала 174
- Предпосылки возникновения термина «ирония»
- Историческое становление категории иронии
- Виды иронии на лексическом уровне
- Каламбур
Введение к работе
Среди бытующих в культурной практике явлений есть ряд таких, которые при широкой распространенности не получили в науке полного, однозначного и непротиворечивого описания. Один из примеров тому - ирония. Ею охотно пользуются в речи, ее легко улавливает интерпретатор литературного текста, но попытка раскрыть ее внутренний механизм всегда сопряжена с затруднениями.
С одной стороны, ирония неразрывно связана со смехом, с комическим. Значимость для искусства и литературы смеха и всего к нему относящегося трудно переоценить. Смех как грань сознания и поведения человека, во-первых, является выражением жизнерадостности, душевного здоровья, жизненных сил и энергии, и при этом - неотъемлемым звеном доброжелательного общения. И, во-вторых, смех - это форма неприятия и осуждения людьми того, что их окружает, насмешка над чем-либо, непосредственно-эмоциональное постижение неких противоречий, нередко связанное с отчуждением человека от того, что им воспринимается. Этой стороной ирония связана с комическим.
В науке о языке затрагиваются различные аспекты изучения иронии - от стилистической интерпретации тропа (О.А. Лаптева, Н.К. Салихова, Л.В. Чернец, О.В. Коленко) до рассмотрения иронии как концептуальной категории текста (М.Ю. Орлов). Очевидно, что оперирование понятием «ирония» в традиционном смысле не укладывается в рамки современных исследований. В научном поиске лингвисты переходят от традиционной интерпретации феномена в составе категории комического (О.Я. Палкевич, Т.Ф. Лимарева, А.В. Сергиенко) к рассмотрению ее как ментального и лингвокультурного образования (Е.А. Брюханова), в связи с чем встает вопрос об установлении роли иронии в формировании особенностей национального видения мира.
На лексико-семантическом уровне, который по-прежнему рассматривается как отправная точка интерпретации любого вида иронии, не получил полного и всестороннего освещения вопрос о средствах репрезентации
иронии в ткани художественного произведения; недостаточно разработаны проблемы, связанные с особенностями интерпретации иронического контекста. Неопределенным остается вопрос и о прагматическом статусе иронии как неотъемлемой составляющей современного дискурса. Ироническое оценивание становится актуальным в плане антропоцентрического переосмысления лингвистических идей. Определение лингвистического механизма и специфики функционирования иронии в художественном произведении (как прозаическом, так и драматическом) нуждается в дальнейших тщательных исследованиях, что определяет актуальность данного исследования.
Объектом исследования и описания является ирония, выступающая, с одной стороны, как феномен эстетики (рассматриваемый зачастую в составе более общей категории комического) и, с другой стороны, стилистики (рассматриваемый как один из тропов, основанный на контрастном противопоставлении формы и содержания). В качестве предмета исследования нами выбрана ирония, находящая свою экспликацию в художественных произведениях русских и англоязычных авторов. В центре внимания - средства вербальной репрезентации иронии в художественном тексте в русском и английском языках и особенности интерпретации иронического контекста.
Цель работы - выявить и сопоставить закономерности репрезентации иронии в художественном произведении в русском и английском языках-Достижение указанной цели подразумевает решение следующих конкретных задач:
Установить статус иронии в свете традиционных и современных филологических исследований; выявить ее особенности как составляющей категории комического и средства эмоционально-оценочной критики.
Проследить семантические преобразования смысла в иронически употребленной единице текста.
Выявить типы слов, подвергающиеся ироническому преобразованию смысла.
Выявить основные интерпретирующие компоненты иронии (внешнего и внутреннего плана); установить степень их автономности.
Выявить и сопоставить средства репрезентации иронии в русском и английском языках и определить критерии их иронической маркированности.
Предложить методику анализа иронического контекста с опорой на всесторонний учет знаний, что рассматривается как важнейший признак но-' вой лингвистической парадигмы.
В качестве методологической базы нами выбраны общепринятые совокупности теоретических установок, приемов исследования, связанные с теорией иронии и интерпретацией иронических смыслов.
Цель и задачи исследования определяют выбор методов. При отборе случаев языковой реализации иронии и установлении ее признаков, а также при описании наблюдаемых иронически маркированных единиц в вербальной и символической форме используется метод наблюдения. Также используются: метод обобщения при объединении определенных языковых явлений в категорию иронии; метод интерпретации результатов наблюдения; метод трансформаций при переводе и толковании иронического контекста; дистрибутивный метод при изучении иронического контекста; метод компонентного анализа при выделении дифференциальных признаков иронии и интегральных признаков иронически маркированных единиц текста; статистический метод при обработке результатов исследования; сопоставительный метод. Все виды анализа художественного текста применялись комплексно.
Научная новизна. Настоящее исследование дает возможность расширить представление об иронии, исследовать данное понятие более широко и в более широкой теоретической перспективе. В частности, расширено понимание иронии за счет рассмотрения в качестве иронически маркированных единиц не только слов, у которых иронический компонент объективно входит в структуру значения, и средств, традиционно относимых к средствам создания иронического эффекта, но и ряда образных средств языка. Последние впервые были подвергнуты специальному и всестороннему исследова-
нию, что способствует углублению знания о специфике функционирования иронии в контексте и многообразии аспектов проявления этого феномена.
Уточнено понятие ситуативного контекста, модифицированного нами применительно к материалу исследования за счет включения в процесс интерпретации позиции интерпретатора, авторского идиостиля, возможности существования нескольких интерпретаций и учета внетекстовых условий создания произведения. Таким образом, намечены пути исследования и описания иронии в дискурсивном плане.
Теоретическая значимость данного исследования связана с дальнейшей разработкой проблемы интерпретации переносных смыслов и иронического смысла в частности. Результаты данного исследования могут служить теоретической базой для выявления специфики репрезентации иронии на диахронной оси и динамики развития иронического контекста.
Предложенный подход к интерпретации иронии в рамках художественного произведения помогает углубить представление читателей об имплицитном значении лексических единиц, присутствующем на подсознательном, иногда даже не осознаваемом уровне и не закрепленном за единицей.
Практическая ценность. Основные положения исследования могут найти отражение в лингвистических и литературоведческих курсах «Интерпретация художественного текста», «Стилистика», «Теория коммуникации», в семинарах по стилистике и художественной речи, а также при разработке спецкурсов и спецсеминаров по проблемам речевого общения.
Ирония, являясь неотъемлемой частью современного дискурса (художественного, публицистического, политического и т.д.), требует присталь-. ного внимания, а изучение особенностей декодирования иронической информации в русском и английском языках во многом способствует адекватному пониманию высказывания на коммуникативно-прагматическом уровне как в моно-, так и в межкультурном общении.
Материалом исследования послужили художественные произведения русских и англоязычных авторов начала XIX-XXI веков (всего около 800 иронических контекстов и 600 случаев репрезентации иронии). Это романы, рассказы, драматические произведения А. Чехова, М. Булгакова, А. Яхонтова, Н. Коляды, Д. Донцовой, О. Wilde, Jerome К. Jerome, М. Spark, J. Updike, A. Huxley, R. Via, J. Colgan. Обращение к прозе различных авторов, а также анализ текстов произведений современной, «массовой» литературы (Д. Донцова, J. Colgan) и пьес современных драматургов продиктована стремлением автора проследить тенденции в реализации иронии в речи. Несмотря на кажущуюся несопоставимость серьезной и массовой литературы, зачастую граница между этими жанрами достаточно неуловимая, и сами писатели видят в ней во многом необходимую составляющую литературного процесса [Семенова 2000: 169]. Исследователи отмечают, что массовая литература становится более интеллектуальной. Процессы общественной жизни последних лет усилили как никогда прежде ироничное отношение людей к происходящему, хотя ранее такое отношение служило способом (одним из немногих возможных) и постижения действительности и самоутверждения.
На защиту выносятся следующие положения: 1. Иронически маркированные единицы в русском и английском языках представлены следующими группами: а) единицы, в которых иронический экспрессивный элемент объективно входит в структуру значения (помечены в лексикографических источниках иропич., humorous); б) единицы, приобретающие иронический компонент в ситуативном контексте. В первой группе наблюдается развитие полярных семантических оттенков в слове (энантиосемия), что является результатом семантического переосмысления слова. Единицы второй группы сами по себе не имеют эмоционального элемента, но при ироническом употреблении наполняются эмоциональным содержанием и превращаются в свою противоположность, в связи с чем происходит расширение их семантического значения. Единицы второй группы не обладают автономностью, т.е. конкретизируются
только в определенном контексте, где получают референтную отнесенность.
Изучение иронии, локализованной в одном слове, ставит проблему выделения семантических типов слов, подверженных иронии. Классификация расширена нами за счет выделения группы слов, описывающих действия (представлена главным образом глаголами), и подгруппы слов с гиперболизированным количественным значением.
Каждый случай актуализации иронического смысла в ткани художественного произведения может быть проанализирован с позиции концепции существования единственного контекста - глобальной ситуации, компонентами которого являются ситуативный контекст, эксплицитный вербальный контекст, эксплицитный невербальный (параязыковой) контекст и имплицитный контекст. Антропоцентрическая переориентация лингвистического знания требует учета и внетекстовых условий создания текста: творческой позиции автора, его мировоззрения, истории развития общества и литературного процесса, объема фоновых знаний и системы ценностей интерпретатора. Таким образом, создается база для дискурсивного анализа текста, рассматривающего последний в событийном аспекте.
Диапазон средств создания иронического эффекта в таких разноструктур-ных языках как русский и английский полностью совпадает. Средства и приемы могут быть менее или более специализированы для выражения авторского иронического отношения к излагаемому (каламбур, оксюморон, парадокс, гипербола).
Контекстный анализ семантических модификаций показывает, что иронически маркированные каламбуры практически никогда не соседствуют с юмором и смехом, в основном они вызваны отчаянием, горечью положения героев, их неприятием окружающей действительности. Иногда причиной образования становится своеобразный ход мысли героя, но в большинстве случаев посредством иронического каламбура раскрывается спо-
собность критиковать и с иронией размышлять о том, что волнует и тревожит.
В процессе контаминации в русском языке продуктивными являются основы английского происхождения. Незафиксированность подобных новообразований в словарях и языковом сознании не препятствует адекватной рецепции их носителями русского языка, как не препятствует и осознанию иронического контекста их употребления. Английский язык пользуется внутренними ресурсами и не прибегает к помощи иноязычных заимствований, что является одним из проявлений процесса глобализации.
Иронический смысл имеет прагматическую основу - касается не только содержания описываемого, но и отношений между говорящим и адресатом. Ирония позволяет «замаскировать» сообщение и благодаря этому выразить те смыслы, которые находятся под запретом. Наиболее отчетливо это проявляется в случае апелляции к иронии в виде обращения, что случается реже, чем использование иронии в описательных и повествовательных контекстах.
Структура исследования обусловлена поставленной целью и задачами, а также материалом исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического списка. Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, определяются цели и задачи работы, устанавливается научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, методологические и теоретические основы диссертации. В первой главе рассматривается ирония как эстетическая категория, в частности как одна из разновидностей комического, и как категория лингвистики; освещаются черты сходства и различия иронии, юмора, сатиры, сарказма; исследуются предпосылки возникновения термина «ирония» и ключевые этапы исторического становления данной категории. Вторая глава посвящена рассмотрению особенностей текстовой экспликации иронии в ткани художественного произведения; семантическим преобразованиям иронически употребленных единиц текста (наиболее распространенными из которых
являются энантиосемия и расширение семантического объема слова); основополагающим категориям интерпретации иронического контекста (текстовой импликации, подтексту) и особенностям интерпретации последнего. В третьей главе проводится анализ репрезентаций иронического смысла в ткани художественного произведения в русском и английском языках, делается попытка установить ее коммуникативно-прагматический статус и выработать методику анализа иронического контекста. Работа содержит библиографию, включающую статьи и монографии, материал исследования и справочную литературу на русском, английском и немецком языках.
В качестве апробации работы по результатам проведенного исследования были сделаны доклады на итоговой научной конференции Педагогического института СГУ им. Н.Г. Чернышевского (2002, 2003, 2004 гг.), на международной конференции «Деловой и юридический английский: лингвистические и методические аспекты» (2005 г.), на 2-ой межвузовской научной конференции «Язык, образование и культура» (2006 г.), на международ- ной конференции «Язык и культура в едином экономическом пространстве» (2006 г.), на международной конференции «Языковые и культурные контакты» (2006 г.). По теме исследования опубликовано 8 статей общим объемом 2.6 п.л.
Предпосылки возникновения термина «ирония»
Полное и последовательное изучение сущности такого явления в литературе и искусстве, как ирония, невозможно без обращения к вопросу об этимологии самого термина «ирония» и изучения исторических и культурных условий его появления. Обращение к истокам понятия, которые обнаруживаются в далеком прошлом науки, во многом способствует более глубокому его пониманию. Для того, чтобы вписать новейшие взгляды в общую историю изучения понятия «ирония», необходимо охарактеризовать основные предшествовавшие этапы. Краткое введение в историю проблемы поможет перейти к совершенному понимаю ее сути, раскрытию сущности определения иронии и семантической многослоиности самого понятия. Процесс создания нового, по словам В.И. Вернадского, часто подразумевает повторную интерпретацию теории прошлого с позиции настоящего, ее уточнение и расширение с использованием данных современной науки [Вернадский 1981: 191-192].
Исследователи признают, что за вопросами, встающими перед современной лингвистической наукой, существует огромная традиция, начало которой положено в античности. Для большинства отечественных и зарубежных справочных изданий характерно признание греческого происхождения термина «ирония». Подтверждение тому находим в «Кратком словаре иностранных слов» СМ. Локшиной [Локшина 1988: 211], в «Словаре литературоведческих терминов» [Чавчанидзе 1974:109], в «Толковом словаре иноязычных слов» Л.П. Крысина [Крысин 2003: 285], в «Словаре иностранных слов и выражений» Н.Г. Комлева [Комлев 1999: 65], в «Немецком лексиконе» Буссманна [Bupmann 1990: 335], в «Толковом словаре немецкого языка» [dtv 1992: 336] и др. Факт греческого заимствования термина упоминается и в работах отдельных исследователей, занимающихся изучением иронии как категории эстетики и категории стилистики (М.Ю. Скребнев, О.С. Ахманова, Ю.Б. Борев, СИ. Походня, Д. Чавчанидзе, Л.И. Тимофеев, Л.В. Чернец и др.) .
В этимологическом словаре русского языка М. Фасмера прослеживается цепочка заимствований этого термина через польский язык или скорее французский, немецкий из латинского от греческого "еІгопеіа" [Фасмер 1986: 139]. На заимствование термина из греческого языка посредством французского указывает и Л.П. Крысин [Крысий 2003: 285]. Значение же его в греческом языке сводится к следующему: ирония - тонкая насмешка, выраженная в скрытой форме (в интерпретации различных исследователей - вопрос, ставящий в тупик (М. Фасмер), притворное самоуничижение (Л.П. Крысин), притворство (Д. Чавчанидзе, Л.В. Чернец), притворство в речи (X. Буссманн)..
И.С. Алексеева, изучая историю перевода во времена античности, указывает на тот факт, что древнегреческая цивилизация мало подпитывалась воздействием извне и ощущала себя как самодостаточная. У греков за несколько веков сформировалась разносторонняя и систематизированная словесная культура, как устная, так и облеченная в письменную форму. Необходимости в переводе произведений с чужих языков не возникало, и на протяжении всего периода греческой античности не известно ни одного произведения литературы, которое являлось бы переводом [Алексеева 2004: 54-55].
Это еще одно подтверждение того, что именно Грецию следует рас-. сматривать как родину большого количества терминов стилистики, поэтики и литературоведения. Истоками современной традиции иронии являются теоретические рассуждения авторов о «мнимой похвале» и «мнимом уничижении», об «обмане простодушных глупцов» [Третьякова: http://www.relga. rsu.ru/n73/rus73_2.htm].
Однако в отличие от наблюдаемого единодушия исследователей в признании авторства термина «ирония» за греками о времени заимствования не упоминается. Термин «ирония» широко освоен русским языком и принадлежит к разряду слов, заимствованных из других языков, но осознающихся в. настоящее время как единицы русского языка, которые обладают русской словоизменительной парадигмой, реализуют русские словообразовательные модели и модели построения словосочетаний, Таким образом, «ирония» на уровне бытового общения воспринимается как общеупотребительная лексическая единица, и, как правило, выражает общее представление о комической ситуации, ситуации критики или осмеяния. То есть, как говорят ученые-терминологи Б.Н. Головин и Р.Ю. Кобрин, слово «ирония» реализует свое нетерминологическое значение [Головин, Кобрин 1987: 5].
В речи профессионалов (филологов, искусствоведов) «ирония» приобретает значение и функции термина, т.е. имеет специальное значение, выражающее профессиональное понятие и применяемое в процессе познания и освоения научных объектов и отношений между ними.
Общеизвестно, что изначально термины появляются тогда, когда начинает развиваться наука, теоретическое знание. Любой вид трудовой деятельности рождает свою терминологию. Возникновение в древнегреческой науке интереса к ораторскому искусству (VI - V вв. до н.э.) наряду с философскими, этимологическими и грамматическими исследованиями не может не наводить на мысль о том, что появление некоторых (а возможно и многих) терминов современного литературоведения и стилистики датируется именно этим периодом. Известно, что в основе обучения риторике лежало чтение и воспроизведение текстов художественной прозы. Античная риторика состояла из пяти частей: нахождение материала, расположение, словесное выражение, запоминание и произнесение. Словесное выражение включало учение о. трех стилях (высоком, среднем и низком) и о трех средствах возвышения стиля (отборе слов, сочетании слов и стилистических фигурах (анафоре, эпифоре, симплоке, антитезе, оксюмороне, хиазме, умолчании и др.) [Черепанов 1999: 23].
Историческое становление категории иронии
По отзывам древних, в иронии всех превзошел Сократ. Однако так называемая «сократовская ирония» (Socratic Irony) переосмысляла обыденную иронию-насмешку в ином направлении: ирония предстает как глубоко жизненная позиция, отражающая сложность человеческой мысли, как позиция диалектичная, направленная на опровержение мнимого и ложного знания и установление самой истины. По замечанию А.В. Михайлова, сократовское «притворство» начинается с внешней позы насмешливого «неведения», но имеет своей целью конечную истину, процесс открытия которой, однако, принципиально не завершен [Михайлов Ирония Сократа, по словам профессора Эдинбургского университета К. Колбрук, призывает перейти от формы иронического высказывания к его содержанию, от повседневных рассуждений к размышлению, отбросить софистику, где истина достигается ошибочными методами [Colebrook http:/www.englit.ed.ac.uk/studying/2004-2005/cmc_irony. htm]. Современные исследователи находят, по крайней мере, четыре различных оттенка иронии Сократа: 1) постоянное использование таких риторических фигур, как «осмеяние, чтобы восхвалять» и «восхваление, чтобы осмеивать»; 2) мнимое неведение; 3) постоянное самоумаление и насмешливая симпатия к людям, идеям, событиям (современное проявление этого аспекта называют ироническим образом действия или иронической манерой); 4) соединение совершенно разных элементов в гармоничную мысль (ирония отстранения). В современных концепциях, по мнению В.О. Пигулевского и Л.А. Мирской, так или иначе, существует истолкование сократовской и софоклов-ской иронии. Если ирония Сократа носит по преимуществу субъективный характер - отмечают исследователи - то ирония Софокла, напротив, является обнаружением объективного хода вещей, противоречащего устремлениям личности. В современном виде этот тип иронии описывается как ирония судьбы, событий, драматическая или трагическая ирония [Пигулевский, Мирская 1990: 120]. Римляне называли иронию столичным притворством, а Цицерон считал, что это такой вид смешного, когда мы говорим иначе, чем чувствуем, то есть когда мы серьезно шутим. Другими словами, ирония по Цицерону -троп, основанный на переносе значения по принципу противоположности [dtv 1992: 336]. Именно этот подход лег в основу концепций риториков эпохи Возрождения, рассматривавших иронию в ряду других образных средств языка. Таким образом, восприятие иронии как риторической категории превзошло сократовское толкование ее как категории бытия. Подобная ситуация сохранилась вплоть до XVIII столетия. Один из исследователей исторического становления категории иронии Е. Третьякова подчеркивает, что в эстетике классицизма иронию понимали как атрибут комического, один из приемов смеховой критики в сатире. Принадлежность иронии к низкому стилю была строго зафиксирована, но при этом существовало выражение «ирония судьбы», означавшее роковое расхождение предположений человека с тем, что предрекли ему боги. «Ирония судьбы» соответствовала не комической, а трагедийной коллизии [Третьякова: http://www.relga.rsu.ru/n73/rus73_2.htm]. Ю.Б. Борев большое внимание уделяет особому типу иронии - романтической иронии. В.Е. Хализев так же считает ее значительным явлением культуры и искусства Нового времени. Этот тип иронии рождается в XVIII -начале XIX века. Во второй раз в немецкой литературе возникает процесс кристаллизации структурных форм на основе иронии как типа эстетического отношения. Возможно, предполагает Ю.Б. Борев, даже создается на определенный период художественного развития (романтизм) ирония как особый род литературы [Борев 1970: 101], [Хализев 1999: 79].
Виды иронии на лексическом уровне
Все больше и больше укрепляется идея о том, что информация, используемая человеком при интерпретации текста, не ограничивается знанием только языка. Понимание иронического текста, в частности, включает знания о мире в целом. Всесторонний учет знаний (экспланаторность) стал рассматриваться как важнейший принцип новой лингвистической парадигмы [Куб-рякова: 1994]. Однако сколько бы сведений помимо языковых ни требовалось для правильного понимания текста или дискурса, начальный импульс такого понимания задан поверхностной языковой формой, и она рассматривается как отправная структура в этом сложнейшем процессе.
Анализ текстового материала на русском и английском языках позао--ляст идентифицировать ситуации, при которых контекстуальное значение конкретного слова диаметрально противоположно его словарному значению. Функционирование данного типа иронии можно проследить на примере высказывания одного из персонажей комедии О. Уайльда «Как важно быть серьезным» (О, Wilde. The Importance of Being Earnest): Jack (very irritably): How extremely kind of you, Lady Bracknell! [Wilde 1979:81].
Выражение насмешки и одновременно иронического смысла происходит путем употребления слова kind в значении прямо противоположном его, основному значению. Словарное значение данного прилагательного - having, showing thoughtfulness, sympathy, or love for others [The Advanced Learner s Dictionary of Current English: 1996]. В процитированной реплике kind реализует два значения: предметно-логическое (словарное) и контекстуальное, которые диаметрально противоположны по смыслу, ибо автор высказывания только иронически может назвать леди Брэкнелл доброй и сердечной. В отношениях с окружающими людьми ею движет лишь корыстный расчет. Заслуживает внимания и авторская ремарка, усиливающая эффект иронии: образуется антонимическая пара irritably - kind, компоненты которой к тому же снабжены наречиями степени very и extremely соответственно. За счет употребления наречий данная пара приобретает более сильное ироническое звучание. Из уст молодого человека, Джона Уординга, читатель слышит притворное восхваление леди Брзкнелл, за которым в действительности стоит порицание. На основании данного примера можно судить и реальных взаимоотношениях, сложившихся между двумя главными героями: неприязни/ нелюбви, скрытой враждебности и насмешке друг над другом.
Примером подобной иронии может служить фрагмент рассказа О, Уайльда «Кентервилльское привидение» (О. Wilde. The Canterville Ghost):
After a time, however, the brave old Canterville spirit asserted itself, and he determined to go and speak to the other ghost as soon as it was daylight [Wilde 1979:50].
Ирония автора явственна, так как описание имеет место после ночного происшествия в одном из коридоров замка: дети нового владельца, решив пошутить над привидением» изготовили из подручных средств еще одно «привидение», при встрече с которым Кентервилльский дух ужасно испугался и был вынужден спасаться бегством. При этом употребление прилагательного brave - ready to face danger, pain or suffering; having no fear - происходит прямо с противоположными коннотациями. Противоположность коннотации состоит в перемене оценочного компонента с положительного на отрицательный, чтобы показать реальную беспомощность привидения перед неожиданной опасностью, его одиночество и страх. Стилистический эффект иронии усиливается и за счет употребления антонимичного по значению слову brave глагола to frighten и сопутствующих ему эмоционально окрашенных глаголов to speed, to rush, описывающих «отступление» привидения. Поскольку ирония автора не похожа на издевку, а напоминает скорее ласковую насмешку, можно судить о ее невысокой степени едкости, которая смещает ее в сторону юмора.
Механизм иронии на лексическом уровне в русском языке строится по тому же принципу, что и в английском. В романе Д. Донцовой «Жена моего мужа» автор мастерски строит контекст, в котором от контраста слов и ситуации возникает иронический подтекст, слова «минимальные» и «не настаивает» приобретают противоположное значение:
Требования к будущей супруге предъявляются «минимальные». Она должна быть из хорошей семьи, с образованием и приличной работой. Желательно также, чтобы блондинкой, лет тридцати. Конечно лее, отменного здоровья, без детей и престарелых родственников. Наличие хорошей квартиры обязательно. При этом Гера вовсе не настаивает, чтобы избранница обладала европейскими 90 - 60 - 90. В конце концов, готов согласиться на 92-62 - 92. Мне такое чудо света не встречалось ни разу, но Гера полон энтузиазма [Донцова 2005: 41],
Перечисленные характеристики потенциальной невесты не являются чем-то нереальным; женщины с такими качествами существуют. Ирония в том что требования минимальными не назовешь. Более того, соискатель (Гера) не относится к категории людей, удачливых в отношении брачных сою зов - возраст за тридцать, непривлекательная внешность, житель провинциального городка без особого материального достатка и психологической зависимостью от матери, которая и подыскивает ему невесту. При внимательном прочтении становится очевидным, что требования к будущей супруге прямо противоположны качествам самого жениха, что влечет ироническое восприятие высказывания.
Каламбур
Одним из самых распространенных средств апелляции к иронии является каламбур- В работах многих исследователей каламбур изучается прежде всего как средство создания комического эффекта [Виноградов 1970: 237], [Береговская 2001; 23], [Кулинич 1994: 70], [Орлова 2003: 136], [Рахимкулова 2003: 35], [Сковородников 2004: 79], [Бондаренко 2004], [Ильясова 2000]. Представляется однако, что понятие иронии шире, чем понятие комического, так как кроме случаев языковой игры существует много средств выражения, явного и скрытого авторского иронического отношения, которое в ряде случаев указывает на иронический подтекст повествования в целом.
Лингвистический анализ текстового материала на русском и английском языках позволяет выделить следующие виды каламбура, 1. Игра слов, в основе которой лежит многозначность слов (взаимодействие прямых и переносных значений), в результате чего возникает двусмысленность. Пример такого каламбура можно найти в пьесе современного российского автора А. Яхонтова «Выпьем за Девятое мая!». Действие описываемого эпизода происходит в одном из залов ресторана во время поминального обеда.
Бр am В до в ы. Помянем замечательного человека. Василия Николаевича. Ему выпал сложный жизненный путь. Хлебнул достаточно. Хороший. Работящий. Настоящий русский умелец. Не везло ему. Так бывает. Пусть теперь отдохнет. Царство небесное. Давайте, не чокаясь. С ос е д. Хлебнул - это да. Еще как. Мы с ним ... Иногда... Начнем с чекушки.,. [Яхонтов 2004; 1].
Герменевтический иронический указатель эксплицируется в глаголе «хлебнуть», интерпретация которого не может быть только буквальной. Присутствует возможность расширенного толкования за счет практически одновременной актуализации двух словарных значений, обладающих в данном ситуативном контексте различной степенью позитивности. Первое, буквальное, значение сводится к следующему: «пить большими глотками, причмокивая», «хлебнуть лишнего - выпить много хмельного» [Ожегов 1983: 767]. В переносном значении «хлебнуть» значит «испытать много неприятного/ тяжелого» [Ожегов 1983: 767]. Родственники и близкие, собравшиеся помянуть Василия Николаевича, согласно традиции, делают это добрым словом и озвучивают лишь приятные и положительно его характеризующие воспоминания. Искреннее и непосредственное высказывание Соседа иронично, причем вектор иронии направлен на говорящего, единственные ассоциации которого при упоминании слова «хлебнул» носят буквальный характер и сводятся к совместному возлиянию, В данном ироническом высказывании ярко представлена смысловая двуплановость слова, что характерно для семанти-ко-стилистической организации языка драмы. Следует также отметить, что-стилистически ирония выполняет характерологическую функцию, поскольку способствует косвенной характеристике одного из действующих лиц.
Смысловая двуплановость слова наблюдается и в следующем примере из повести АЛ. Чехова «Моя жизнь». Однако в отличие от рассмотренного выше эпизода ирония является результатом одновременного использования прямого и переносного значений глагола «летать (полететь)» в одном контексте:
Управляющий сказал мне: «Держу вас только из уважения к вашему почтенному батюшке, а то вы бы у меня давно полетели». Я ему ответил: «Вы слишком льстите мне, ваше превосходительство, полагая, что я умею летать» [Чехов 1983:19].
Умозаключения в данном случае строятся на основе истинности одного из вариантов значений глагола. Иронический контекст может быть расшифрован в процессе формирования точного смысла каждого высказывания. Реплика управляющего, где глагол хотя и употреблен в переносном значении (потерять работу, лишиться места работы) переосмысляется адресатом, В речи последнего ироничен, как это ни странно, глагол «летать» в буквальном значении. Известно, что люди способностью к полету без вспомогательных средств не обладают; истинный смысл слов управляющего понятен любому носителю русского языка; тем не менее герой повести Мисаил, не утративший дворянской гордости, считает возможным на фоне подчеркнуто вежливого тона употребить иронию. Повесть «Моя жизнь», по словам исследователей, насыщена емкими экспрессивными деталями, живыми портретами отдельных лиц, В Линков говорит: «Трудно отделаться от впечатления, что автор повести относится с явным пренебрежением к идеям своих героев» [Линков 2005: 299], Это во многом объясняет авторское иронизирование, имеющее место как в структуре повествования, так и в диалогах героев. Используя иронию как средство критики, А. Чехов отходит от принципа «универсального иронизирования», характерного для предшествующего периода романтизма. 2. Игра слов, построенная на омофонных лексических элементах. Наилучшим примером в данном случае является заголовок одной из пьес О. Уайльда - «Как важно быть серьезным» ("The Importance of Being Earnest"). Прилагательное ""earnest", имеющее значение serious; determined", перекликается со сходным по звучанию мужским именем Ernest, обладателю которого приписываются такие черты характера, как серьезность, важность, решительность, искренность. Стилистический эффект иронии создается здесь тем, что ни один из персонажей комедии, использующий это имя, подобными качествами не обладает: и Джон Уординг, и Алджернон Монкриф смотрят на мир как на гротесковую сценическую площадку и актерствуют, преследуя желание освободить себя от прозаических забот и тяготящих условностей. Подобный вызов современному обществу четко обозначает критическую дистанцию между личностью автора и обществом, что в конце XIX - начале XX вв. рассматривается как качественно новый подход к иронии.