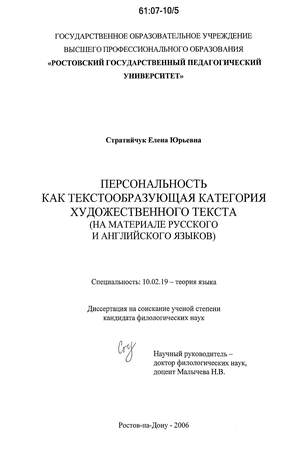Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Персональность как текстообразующая категория 9
1.1. Лингвистические особенности текста 9
1.1.1. Понятие «текст» в современной лингвистике 9
1.1.2. Соотношение понятий «дискурс» и «текст» 15
1.2. Понятие текстовой категории 27
1.3. Категория персональное 40
Выводы к главе 1 49
Глава 2. Языковые средства выражения категории персональности (на материале русского и английского языков) 53
2.1. Лексико-семантические средства и их функция в формировании образа автора в произведениях А.П. Чехова и У.С. Моэма 55
2.2. Грамматические средства и их функция в формировании образа автора в произведениях А.П. Чехова и У.С. Моэма 70
2.3. Прагматический аспект художественного текста как источник изучения категории персональности 87
Выводы к главе 2 95
Глава 3. Субъектоцентризм как речевое условие репрезентации категории персональности в художественном тексте 100
3.1. Феномен субъектоцентризма в нарративной структуре художественного дискурса 100
3.2. Проблема субъективации авторского повествования 111
3.3. Речевые способы реализации явного авторского присутствия на сверхфразовом уровне 130
3.4. Проблема скрытого авторского присутствия в художественном тексте 143
Выводы к главе 3 149
Заключение 152
Библиография 155
- Лингвистические особенности текста
- Понятие текстовой категории
- Лексико-семантические средства и их функция в формировании образа автора в произведениях А.П. Чехова и У.С. Моэма
- Феномен субъектоцентризма в нарративной структуре художественного дискурса
Введение к работе
Язык - это один из обязательных и неотъемлемых атрибутов человека. Характерной чертой современной лингвистики является поиск языкового моделирования человека в тесной объективно существующей взаимосвязи с другими сопредельными науками о человеке.
Язык пронизан субъективностью, поэтому субъективный,
человеческий фактор все больше и больше перемещается в центр
современных лингвистических исследований. Становление
антропологической лингвистики свидетельствует о смещении фокуса лингвистических исследований в направлении от «язык в человеке» к «человек в языке».
Являясь выражением «человека в языке», текстовая категория персональности представляет огромный интерес для современного исследователя. Это объясняется потребностью углубления и конкретизации лингвистических представлений о принципах и закономерностях использования языка человеком.
Актуальность настоящего исследования определяется существующей в современной лингвистике необходимостью системного описания концептуальной категории персональности, имеющей статус сверхкатегории и проявляющейся в художественном тексте авторского или личностного начала и выявления всего спектра разнообразных средств выражения данной категории.
Несомненный интерес представляет исследование категории персональности в текстах на русском и английском языках в прагматическом ключе. Наряду с этим, очевидна необходимость более подробного исследования понятий, связанных с категорией персональности, таких как авторская модальность, субъективация повествования и др., для получения всестороннего представления о данной проблеме.
Объектом исследования в предлагаемой диссертации является текстообразующая категория персональности в современной лингвистике.
Предметом исследования служат лексические и грамматические средства выражения и текстообразующая функция категории персональности в русскоязычных и англоязычных художественных текстах писателей двадцатого века.
Целью данной работы является исследование специфики языковых средств выражения текстообразующей категории персональности и особенностей их функционирования в художественных текстах на русском и английском языках.
В соответствии с поставленной целью предполагается реализация следующих задач:
- выявить и описать характерные особенности текстообразующей
категории персональности и связанных с ней понятий;
- определить специфические лексические и грамматические средства
выражения текстообразующей категории персональности как основные
показатели вербальной репрезентации позиции автора в художественных
текстах на материале русского и английского языков;
рассмотреть особенности средств выражения категории персональности в русскоязычных и англоязычных художественных текстах с позиции прагматического подхода, предполагающего включение в исследование фоновой информации о субъекте;
- систематизировать стратегии реализации субъектоцентризма в
художественных текстах на русском и английском языках.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Концептуальная категория персональности имеет статус сверхкатегории и проявляется в художественных русско- и англоязычных текстах авторского или личностного начала, что объясняется тем, что автор текста организует повествование на основе своей точки зрения на экстралингвистическую действительность. Текстовая категория персональности формирует художественный текст, являясь, таким образом, и текстообразующей.
Текстообразующая категория персональное имеет универсальный характер, так как присуща текстам, созданным на разных языках, в частности, на русском и английском, но система и нормы русского и английского языков обусловливают различия в конкретном языковом выражении текстообразующей категории персональности.
Средства выражения текстообразующей категории персональности обладают значительным прагматическим потенциалом и в русском и английском языках, что обусловлено языковыми свойствами и особенностями речевой реализации данных средств. Отличия наблюдаются на уровне логического мышления и, как следствие, на уровне языковых феноменов: русский язык характеризуется преобладанием, по сравнению с английским, оценочно окрашенной лексики, в английском же для выражения текстовой категории персональности используются модальные глаголы. Существенными характеристиками средств выражения текстообразующей категории персональности является их оценочность, образность и информативность.
4. План содержания функционально-семантической категории
персональности органически взаимодействует с авторской модальностью,
формирующей как антропоцентричность художественного текста, так и его
субъектоцентричность, которая реализуется с помощью определённых
речевых тактик и приёмов, позволяющих выразить динамику образа
персонажа.
В качестве методологической основы исследования следует рассматривать основные положения материалистической диалектики о всеобщей связи явлений в природе, обществе и сознании; об отношении языка к действительности и мышлению, о единстве и борьбе противоположностей; о единстве формы и содержания, а также представления о диалектических антиномиях общего и частного, конкретного и абстрактного, материального и идеального; индуктивные и дедуктивные методы познания.
Общенаучными предпосылками исследования послужили идеи В.В. Виноградова (1971) о творческом сознании субъекта в его отношении к объективной действительности, а также теоретические исследования текста И.Р. Гальперина (1981), З.Я. Тураевой (1986), Н.С. Валгиной (1998), Р. Барта (1989, 2005), М.Я. Дымарского (2001), Н.В. Шевченко (2003), исследования дискурса Н.Д. Арутюновой (1990), Т.В. Милевской (2003) и др., труды по функциональной грамматике и теории поля А.В. Бондарко (2001, 2002), Г.А. Золотовой (1998), Ю.Н. Власовой (1998), работы по прагматике И.В. Арнольд (1984), И.В. Якушевой (1983), Т.А. ван Дейка (2001), Г.Г. Матвеевой (1980,1990).
Частнонаучными основами для данного исследования стали работы по исследованию образа автора М.М. Бахтина (1979, 2000), В.Б. Катаева (1966), Н.А. Кожевниковой (1977), Н.В. Малычевой (2003) и др., а также труды по субъектоцентризму Г.Ф. Гавриловой (2004, 2005), Г.В. Колшанского (1975), Т.Н. Красновой (2002), В.В. Гуревич (1998).
В соответствии с целью и задачами в диссертации были комплексно использованы различные методы исследования: описательно-аналитический метод, метод сопоставления, метод наблюдений и моделирования, элементы методов трансформации, лингвистического эксперимента и количественной оценки, а также контекстуальный и интерпретационный методы. Следует отметить, что данные методы использовались не изолированно друг от друга, анализ проводился комплексно, с привлечением на каждом этапе работы тех приёмов и методов, которые более всего удовлетворяют поставленным целям и задачам исследования.
Научная новизна предлагаемой диссертации состоит в том, что в ней впервые предпринято комплексное исследование языковых средств выражения текстовой и текстообразующей категории персональности на материале русскоязычных и англоязычных художественных текстов, уточняется система средств выражения данной категории в английском и
русском языке. Это позволяет систематизировать и объективировать имеющиеся в лингвистической науке знания о категории персональное как ведущей текстовой и текстообразующей категории.
Достоверность полученных результатов обеспечивается репрезентативной выборкой фактического материала, непротиворечивостью избранных методологических позиций, адекватностью методов исследования изучаемому материалу, ссылками на авторитетные научные источники.
Теоретическая значимость работы. Многоаспектный анализ, проведённый в исследовании, позволил выявить и систематизировать специфические, характерные только для художественных текстов на русском и английском языках, средства выражения текстовой и текстообразующей категории персональности. Данное исследование относится к одному из перспективных, на наш взгляд, направлений в лингвистике -коммуникативному - и представляет собой разработку одной из проблем данного направления, вносит вклад в теорию текста.
Практическая ценность диссертации заключается в том, что её
результаты могут быть использованы в учебных курсах по теории языка,
лингвистике текста, функциональной грамматике, стилистике, риторике,
литературоведению, переводоведению, филологическому анализу текста.
Материалы работы могут использоваться при создании коммуникативно-
прагматически ориентированных руководств, призванных
усовершенствовать владение языком. В частности, материалы работы могут
стать частью содержания спецкурсов и спецсеминаров по проблемам текста.
Эмпирический материал может быть использован при составлении
сборников упражнений по дисциплинам лингвистического цикла.
Материалом исследования явились тексты художественных произведений авторов конца XIX - начала XX века А.П. Чехова и У.С. Моэма. Выбор этих авторов обусловлен некоторым сходством стилей, которое наблюдается в последовательном развитии повествования, глубоким проникновением этих авторов во внутренний мир персонажа и многогранном
психологическом взгляде на человеческую природу. Общий корпус примеров, полученных методом сплошной выборки, составил около 3000 текстовых фрагментов.
Основные теоретические положения диссертации, фрагменты её содержания получили апробацию на Международной научной конференции «Язык. Дискурс. Текст», посвященной юбилею В.П. Малащенко (Ростов-на-Дону, 2004), региональной конференции «Русский язык в молодежной субкультуре» (Ростов-на-Дону, 2005), II Международной научной конференции «Язык. Дискурс. Текст», посвященной юбилею Г.Ф. Гавриловой (Ростов-на-Дону, 2005), Всероссийской научной конференции «Актуальные проблемы современной лингвистики», посвященной юбилею А.Я. Загоруйко (Ростов-на-Дону, 2005), Международной научной конференции «Концептуальные проблемы литературы: художественная когнитивность» (Ростов-на-Дону, 2006). Диссертация обсуждалась на заседании кафедры русского язьжа и культуры речи лингвистического института Ростовского государственного педагогического университета.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии. Библиографический список включает 288 наименований работ по исследуемой теме.
Основные результаты исследования по диссертации отражены в восьми публикациях.
Лингвистические особенности текста
Отечественная лингвистика является цельной именно в том смысле, что она интегрирует, объединяет в своих рамках очень разные и вполне самостоятельные области исследования. Известное единство ей обеспечивает общий концентрирующий стержень, вокруг которого группируется актуальная языковедческая проблематика, ведется разработка всех ее существенных узлов. Концептуальные изменения в отечественной лингвистической науке конца XX- начала XXI века связаны со становлением антропоцентрической доминанты исследования языка, позволяющей идентифицировать человека как языковую личность, проследить творческую составляющую его речевой деятельности. Антропоцентрический подход в гуманитарных изысканиях дает также возможность представить мир человека как развивающуюся социокультурную систему, а сам язык как реализацию универсальных и этнолингвистических традиций данной системы. Отсюда, в частности, повышенный интерес современных лингвистов к категории персональное, грамматическим особенностям именования лица в языке художественной литературы. Исследование данной категории ведется преимущественно через посредство текстов как репрезентантов стилей. Существует множество определений текста, исходящих из разнообразия не только в трактовке самого понятия «текст» и его природы, но и в методике его изучения. С.Г. Ильенко (Ильенко, 1988: 7) отмечает, что с некоторым упрощением можно говорить о трёх основных концепциях исследования текста в отечественном языкознании: 1) лингвистика текста (И.Р. Гальперин), которая трактует текст как структуру; самое же рассмотрение текста идёт по пути от целого к части, и именно это целое получает свою дефиницию; 2) грамматика текста (О.И. Москальская, Г.И. Золотова, Г.Я. Солганик и др.) - связана с выделением суперпредложенческих единств, которые могут составить особый (суперсинтаксический) уровень языка. Текст в этом случае трактуется как система, а его рассмотрение идёт от части к целому; 3) стилистика текста (В.В. Одинцов, О.И. Нечаева), которая изучает разнообразные типы текстов и их стилистические особенности, функционально-смысловые типы речи, индивидуальные стили. Е.И. Диброва также подчёркивает зависимость содержания понятия от аспекта исследования и отмечает, что текст может исследоваться: - семиотически как вербальная знаковая система (Р. Якобсон, Ю.М. Лотман, Б.Я. Успенский и др.); - дискурсивно в характеристиках междисциплинарных областей знания (Э. Бенвенист, Дейк Ван Т.-А., ранний Барт и др.); - лингвистически в системе функциональных значимостей единиц языка (В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, В.П. Григорьев, Г.Я. Солганик, Л.А. Новиков, Н.А. Кожевников и др.); - постструктуралистски в единстве сфер философского, литературоведческого, социолингвистического, исторического знания (Ж. Деррида и др.); - деконструвистски как анализ текста в понятиях «культурного интертекста» литературного, лингвистического, философско- антропологического характера (Ж. Делез, Ю. Кристева, Р. Барт и др.); - нарратологически в рамках теории повествования как активного диалогического взаимодействия писателя и читателя (В. Пропп, В. Шкловский, Б. Эйхенбаум, М. Бахтин, П. Лабокк, Н. Фридман, Э. Лайбфрид, В. Фюгер и др.); - психолингвистически как динамическая система речеобразования и его восприятия (Л. С. Выготский, А.Р. Лурия, Н. И. Жинкин, Т. М. Дридзе, А. А. Леонтьев и др.); - психофизеологически как многомерный феномен, реализующий психологию автора в определённой литературной форме языковыми средствами (Е.И. Диброва, Н.А. Семёнова, СИ. Филиппова и др.) и т.д. (Диброва, 1998: 250). Остановимся на лингвистических определениях текста. По мнению З.Я. Тураевой, «текст - это некое упорядоченное множество предложений, объединенных различными типами лексической, логической и грамматической связи, способное передавать определенным образом организованную и направленную информацию. Текст есть сложное целое, функционирующее как структурно-семантическое единство» (Тураева, 1986: 11). По И.Р. Гальперину, «текст является произведением речетворческого процесса, обладающим завершенностью, объективированным в виде письменного документа, литературно обработанным в соответствии с типом этого документа, произведением, состоящим из заглавия и ряда особых единиц (сверхфразовых единств), объединённых разными типами лексической, грамматической, логической, стилистической связи. Текст - это произведение, имеющее определенную целенаправленность и прагматическую установку» (Гальперин, 1981: 81). Г.Я. Солганик даёт следующее определение текста: «Текст (от латинского textus - ткань, сплетение, соединение) можно определить как объединённую смысловой и грамматической связью последовательность речевых единиц: высказываний, сверхфразовых единиц (прозаических строф), фрагментов, разделов и т.д.» (Солганик, 2001: 16). В этих определениях отмечено, из чего состоит текст, т.е. названы его единицы, элементы. Но они (элементы) различны. З.Я. Тураева считает элементами текста «множество предложений», а И.Р. Гальперин и Г.Я. Солганик - «особые сверхфразовые единства». В первом определении отражен лишь внешний взгляд на текст, во втором - учтена переработка этого «множества предложений» в особую единицу особого уровня. Единица нового, высшего, уровня должна быть качественно новой. Практика многих исследований показала, что в лингвистике, как и везде, количество переходит в качество (один из законов диалектики). Словосочетание - это не просто сочетание слов, а качественно новое образование; сложное предложение -это не просто соединение нескольких простых предложений по принципу сочинения, подчинения или бессоюзным способом, а качественно новая синтаксическая единица, обладающая своими особыми свойствами. Благодаря этому в современном синтаксисе выделяют не две единицы (словосочетание и предложение), а три (словосочетание, простое предложение и сложное предложение). Имеются основания разграничивать простое неосложненное и простое осложненное предложение, с одной стороны, и среди сложных выделять особую разновидность -контаминированные сложные предложения (с разными видами связи). То же наблюдается и применительно к тексту.
Понятие текстовой категории
Категория - это понятие, в котором отображены наиболее общие и существенные свойства, признаки, связи и отношения предметов и явлений объективного мира; это отражение двустороннего характера текста, единство формы и содержания, которое может структурироваться.
Категории могут находиться на разных уровнях языка и в связи с этим различают морфологические категории, синтаксические, текстовые и др. В основе морфологической категории лежат морфемы, выделяемые в структуре той или иной части речи (например, морфемы времени в структуре глагола). В основе синтаксической категории находятся синтаксемы (элементарные синтаксические единицы). Вопрос о возможных синтаксических категориях затронул в 1973 г. в докладе на VII Международном съезде славистов А.В. Бондарко, говоря о морфологических категориях, таких, как наклонение, время, лицо, число: «Понятие синтаксической категории пока еще разработано недостаточно, однако нужно признать необходимость "отведения места" для такого понятия» (Бондарко, 1973: 43). Действительно, формы морфологических категорий (хотя и не всех) в предложениях на основе синтаксической связи передают ту или иную семантику, которую соответственно и можно назвать синтаксической семантикой. На базе морфологической семантики возникают противопоставления, именуемые морфологическими категориями, также и синтаксическая семантика может стать основой синтаксической категории. И, наконец, текстовая категория — это признак, который свойствен всем текстам и без которого не может существовать ни один текст, то есть типологический признак текста.
В свою очередь, текст может рассматриваться как совокупность определённым образом соотнесённых категорий (Шевченко, 2003: 21).
В лингвистическую науку понятие «текстовая категория» вошло уже в середине 70-х годов, однако до сих пор оно четко не определено. Частично это связано с тем, что нередко категориями называют признаки, поэтому и в работах по теории текста эти термины выступают либо как взаимозаменяемые, либо однотипные характеристики текста в одних исследованиях относятся к его признакам, в других - к категориям. Признаки же текста призваны отличать его от единиц другого рода, выделять из числа подобных (Красных, 1998), в то время как категории, которые могут быть более абстрактны, чем признаки, выделяются по отношению к ним. В свою очередь, обоснованному установлению текстовых категорий препятствует недостаточная разработанность круга понятий, передаваемых этими категориями (Тураева, 1986: 10).
Все это приводит к тому, что классификации текстовых категорий в работах исследователей, занимающихся этим вопросом, представлены весьма разнообразно. Большинство учёных выделяют категории на уровне структуры и на уровне семантики, то есть делят их на структурные и содержательные (Гальперин И.Р., Тураева З.Я., и др.). Но принципы выделения категорий текста, их названия и количество отличаются.
И.Р. Гальперин отмечает, что отдельные категории являются одновременно и содержательными, и структурными (континиум, подтекстовая информация и др.), поэтому не проводит между ними чёткого разграничения. В монографии И.Р. Гальперина «Текст как объект лингвистического исследования» (Гальперин, 1981) перечислены такие категории текста, как информативность, модальность, когезия (внутритекстовые связи), членимость, автосемантичность отрезков текста, континиум (пространство и время), ретроспекция, протекция, интеграция и завершенность. Подобные категории, как у И.Р. Гальперина, а именно связность, единство и цельность текста, называет А.А. Леонтьев (Леонтьев, 1979, 1998). В то время как некоторые учёные склонны относить их скорее к признакам текста. Подтверждение такой точки зрения находим в книге А. Новикова «Семантика текста и ее формализация» (Новиков, 1983), в которой говорится не о категориях, а об общих признаках внешней и внутренней стороны текста, относя к ним развернутость, последовательность, связность (внутреннюю и внешнюю), законченность, а также глубинную перспективу, статику и динамику текста.
Как видим, во всех этих классификациях главным образом повторяется категория связности, которая, действительно, является основным неотъемлемым признаком текста. Ряд ученых разделяет признаки, которые, как мы отмечали, некоторые из исследователей считают категориями, на две основные группы, базирующиеся на связности, - структурную (когезия) и содержательную (когеренция), при этом, однако, они подчеркивают условность такого деления (Тураева, 1986: 81). Глобальным, доминирующим компонентом признается когеренция, в то время как показатели структурной связности в тексте могут не всегда проявляться. Например, текст может быть не законченным, но все равно, обладая смысловым единством, будет относиться к текстам.
Лексико-семантические средства и их функция в формировании образа автора в произведениях А.П. Чехова и У.С. Моэма
В языке художественного произведения встречаются разные виды монологической и диалогической речи, смешиваются элементы письменной и разговорной речи (в ее самых разнообразных проявлениях), элементы ораторской речи, повествовательно-книжные стили, сказовые и т. д. Все эти отдельные элементы взаимно действуют и соединяются в языке писателя и художественного произведения. Их художественное единство определяется и оправдывается литературной личностью автора. Стили речи в художественной литературе, своеобразно сочетаясь и объединяясь, отражаются и выражаются в стиле автора, в стиле «образа повествователя», в стиле персонажей литературного произведения.
В стиле произведений многих писателей большое значение имеют языковые единицы, которые, находясь в составе словосочетаний и предложений, оказывают влияние на сознание читателя. С их помощью автор предлагает более точно представить и понять образ персонажа, предмета или же явления.
По утверждению А.И. Новикова, понимание есть «процесс перекодирования, позволяющий осуществлять переход от линейной структуры текста, образуемой последовательностью материальных знаков языка, к структуре его содержания» (Новиков, 1983: 179). Восприятие и понимание содержания произведений А.П. Чехова обусловливает необходимость выявления имплицитного смысла тех фрагментов текста, в которых заключена важная информация о герое или событии. Имплицитные смыслы представляют собой «невербализованные семантические компоненты содержания текста, восприятие которых возможно лишь при наличии соответствующего опыта, пресуппозиции читателя» (Чернухина, 1990: 107).
Было бы интересно посмотреть, как образ автора проявляется в произведениях A.IL Чехова и У.С. Моэма. Именно эти авторы, творившие на рубеже 19 и 20 веков, характеризуются некоторым сходством стилей, последовательным развитием повествования. Необходимо также отметить присущий им многогранный, психологический взгляд на человеческую природу, глубокое проникновение во внутренний мир персонажа.
Сомерсет Моэм выстраивает произведения, опираясь на своё мировоззрение, своё восприятие отношений между людьми. Реальный механизм воплощения наблюдений в образах персонажей романов, рассказов, пьес У.С. Моэм описывал так. Писателю нет необходимости знать человека досконально .. . . Всё, что ему необходимо, - это некий толчок, эмоциональный импульс, который ляжет в основу представления о человеке, а остальное довершат жизненный опыт, знание людей и интуиции художника. Поэтому литературный персонаж и может не иметь почти ничего общего со своим прототипом - кто знает, куда заведёт автора его воображение... У.С. Моэм считал, что писатель совмещает в себе черты многих разноплановых личностей, поэтому он и может описать их с достоверностью: «Писатель не сочувствует, он чувствует за других». И если какой-либо характер получился у автора неубедительным, значит, в нём ничего нет от этого человека, и писатель не прочувствовал и не пережил, а лишь описал своего героя (Татаринов, 2004: 21-22). У.С. Моэм «растворяется» в своих персонажах, и его отношение к ним находит отражение в выборе средств построения текста, в том числе и лексико-семантических. Однако фигура автора не довлеет над читателем, явно не желая выступать в роли судьи. Жизнь как бы сама себя рассказывает, сама себя судит и выносит нравственный приговор.
Для чеховской прозы также характерно неявно выраженное присутствие автора. Его «образ» может принимать разные формы в языковой структуре художественного текста: в виде внутренней, прямой или несобственно-прямой речи. Анализ фигур речи способствует выявлению авторской позиции по отношению к изображаемым персонажам. Авторская модальность, являющаяся значимой семантической категорией в текстах А.П. Чехова, помогает осветить взгляд писателя на положение, в котором оказался герой, и на то, как он меняется под давлением внешних обстоятельств. В.В. Одинцов отмечает, что «семантические отношения, образующие текстовую структуру, взаимодействуя с экспрессивными языковыми средствами, создают общий стилевой рисунок текста. Структурные формы, характерные для эмоциональной художественной речи, преображают, видоизменяют рационально-логические связи» (Одинцов, 1980: 60). Такие связи проявляются и в прозе А.П. Чехова. «Коммуникативная модальность предложения - вопросительная, утвердительная, отрицательная, побудительная - отражает, как известно, ту цель, которую ставит перед собой говорящий, строя свое высказывание» (Гуревич, 1998: 27).
Феномен субъектоцентризма в нарративной структуре художественного дискурса
Современная лингвистика в целом формируется как антропоцентрическая, иначе говоря, исследование языковых процессов протекает в неразрывной связи языка, мышления, сознания с потребностями коммуникативной деятельности, что предполагает учет человеческого фактора, когда субъект речи и ее реципиент включаются в описание языковых механизмов (Малычева, 2003: 45). Вопросы, связанные с взаимодействием таких лингвофилософских сущностей, как язык, мышление и сознание, интересуют ученых уже с античных времен, но наиболее четкое решение они находят в рамках когнитивной парадигмы, становление которой осуществляется в последние десятилетия. Особое внимание к ней обусловлено той ролью, которую приобрел на современном этапе развития лингвистической мысли фактор Homo sapiens. Картина мира, общая для данного социума и неповторимая для каждого из его представителей, возникает в сознании индивидуума в процессе восприятия окружающего мира, преломляется сквозь призму оценивающего «Я», формируется мыслью и выражается в языке. Названные этапы и составляют, в сущности, суть познавательной деятельности говорящей/пишущей личности. И.П. Сусов подходит к этой проблеме с позиций системного подхода: «Язык включен в сложную систему познания мира человеком, в информационно-когнитивную систему, в которой взаимодействуют мышление, сознание, память и язык. Она локализована в мозгу человека. Ее основным назначением является обеспечение процессов восприятия информации извне, переработки этой информации и ее сохранения, ее передачи другим индивидам» (Сусов, 2002: 3). Являясь важными составляющими информационно-когнитивной системы, познавательный, мыслительный и речевой виды деятельности говорящей/пишущей личности находятся в тесной взаимосвязи, причем, первый из них занимает, очевидно, доминирующее положение относительно двух последующих.
Их объединяет динамичность, ориентированность на субъекта речи, осознанность осуществления и целенаправленность речевого действия. Эти виды деятельности носят линейный, развернутый во времени характер, их характеризует направленность на объект и осуществление в пределах дейктического эгопространства субъекта. Результаты когнитивной и речевой деятельности говорящей/пишущей личности представлены такими параметрами, как знания, сознание и язык, которые и составляют основу этой деятельности.
Антропоцентризм языка проявляется в художественном тексте в том, что субъект речи выступает в качестве организующего центра- речевой деятельности. Именно говорящий, рассчитывая на перлокутивный эффект, обеспечивает отбор необходимых языковых средств. Картина мира, моделируемая в тексте, оказывается пропущенной через индивидуальное сознание автора, что и определяет имплицитно или эксплицитно выраженное присутствие субъекта речи в любом речевом произведении. В связи с этим возникает вопрос изучения «процесса диалектического расслоения художественного Я» (по терминологии В.В. Виноградова), или проблемы расщепления субъекта.
Под субъектоцентризмом мы понимаем факт абсолютизации субъектом художественного повествования собственной духовной, мыслительной позиции на уровне художественного текста. Субъектоцентризм в архитектонике художественного произведения является одним из важнейших условий личностного понимания художественного текста. В двух своих ранних работах «Автор и герой в эстетической деятельности» и «Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве» М.М. Бахтин понимает под субъектоцентризмом субъект эстетической активности. Эта творящая сила и есть то, что учёный называет первичным автором. Основная категория, которая используется при его описании, -«вненаходимость», или «трансгредиентность» (Бахтин, 1979: 33).
Сопоставляя область эстетического и сферы познавательного и этического, он утверждал: «художник не вмешивается в событие как непосредственный участник его ... он занимает существенную позицию вне события, как созерцатель, незаинтересованный, но понимающий ценностный смысл совершающегося...». Мысль о позиции вне события, будучи основой дальнейших рассуждений, позволила сделать М.М. Бахтину важнейший вывод: художник, становясь «активным в форме» и занимая «позицию вне содержания - как познавательно-этической направленности», впервые получает возможность «извне объединять, оформлять и завершать событие... Автор-творец - конститутивный момент художественной формы», и потому, в частности, единство произведения - это «единство не предмета и не события, а единство обымания, охватывания предмета и события» (Бахтин, 1979: 59, 64).
В этих высказываниях зафиксированы два момента эстетической деятельности творца слова. «Обымание» превращает фрагмент жизни в материал для художественного произведения, который реализуется впоследствии в виде определенной формы. Активность, направленная на внешний мир, охватывает его и становится активностью, которая через художественную форму воздействует на когнитивное сознание читателя. «Обымая» мир, автор оформляет его, и этот уже оформленный мир, встречаясь с читателем, через форму выявляет активность автора, субъектоцентризм художественного текста в целом.