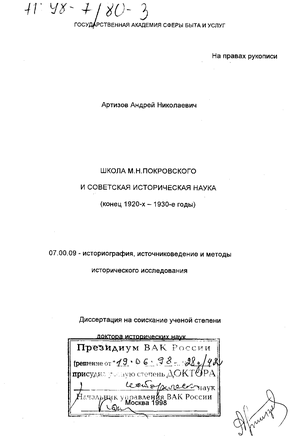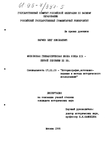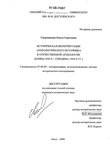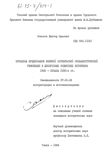Содержание к диссертации
Введение
Глава первая. Учитель: деятельность М.Н.Покровского в конце 1920-х - начале 1930-х гг.
Параграф 1. М.Н.Покровский накануне и в год "великого перелома" (1928-1929 гг.)-
Параграф 2. М.Н.Покровский в последние годы жизни (1930-1932 гг.) 52-85
Глава вторая. Ученики: биографии и судьбы 86-139
Параграф 1. "Школа М.Н.Покровского": содержание понятия, состав участников
Параграф 2. Павел Осипович Горин (1900 -1938) 93-106
Параграф 3. Николай Николаевич Ванаг (1899 -1937 гг.) 107-126
Параграф 4. Борис Николаевич Тихомиров (1898 -1937) 127-139
Глава третья. Критика М.Н.Покровского и его школы 140-182
Параграф 1. Партийно-правительственные постановления о преподавании истории середины 1930-х гг. и конкурс на учебник по истории СССР
Параграф 2. Кампания критики М.Н.Покровского и его школы 158-182
Заключение 183-186
Список основных опубликованных источников и литературы
- М.Н.Покровский накануне и в год "великого перелома" (1928-1929 гг.)-
- М.Н.Покровский в последние годы жизни (1930-1932 гг.)
- "Школа М.Н.Покровского": содержание понятия, состав участников
- Партийно-правительственные постановления о преподавании истории середины 1930-х гг. и конкурс на учебник по истории СССР
Введение к работе
Вопросы истории науки, без изучения которых невозможно понять ее нынешнее состояние, противоречия и проблемы, перспективы дальнейшего развития, всегда привлекали внимание отечественных ученых . Это внимание, как правило, усиливалось в периоды общественных кризисов и революционных потрясений. Стремясь проникнуть в сущность происходившего вокруг, историки, будто по договоренности, дружно обращались тогда к опыту предшественников, выискивая там подсказки или готовые ответы на актуальные вопросы текущего дня. Жизнь и творчество деятелей ушедшего времени при этом нередко примерялись или даже экстраполировались применительно к задачам новой эпохи.
Сегодня, когда наше Отечество в очередной раз переживает коренную ломку уклада общественной жизни, эта истина находит яркое тому подтверждение. В современных условиях смены сложившихся стереотипов, отказа от монопольного господства одной идеологии ученые активно пытаются осмыслить творчество своих предшественников1. Со всей остротой они обозначают чрезвычайно актуальные для нынешнего времени проблемы - преемственности в науке и ее взаимоотношений с властью. Что из опыта предшествующих лет можно позаимствовать и взять с собой в дальнейшую дорогу, а от какого наследства следует отказаться? Каким путем добиться мимизации зависимости научных исследований от идеологической линии властей, от политической конъюнктуры? Как избежать фальсификаций, идеализации, апологетики, догматизма, других недостатков исторических трудов, которые, к сожалению, были так хорошо знакомы советской историографии? Эти вопросы волнуют ученых, порождают дискуссии, подталкивают их к критическому пересмотру прежних концепций и оценок о развитии отечественной исторической науки, заставляют в поисках нового фактического материала обращаться в архивы, ставшие в последние годы более доступными.
Особую актуальность приобретают в этой связи в качестве объекта исследования процессы, происходившие в отечественной историографии в период культа личности Сталина. Именно в эти годы служители музы Клио попали, пожалуй, под наиболее беспощадный и жестокий прессинг со стороны власть предержащих. Именно тогда историки вынуждены были неоднократно и далеко не всегда по своей воле возвращаться к проблеме преемственности в своей профессии.
Не следует забывать, что жизнь и творчество советских ученых первого поколения представляют большой научный интерес не только с точки зрения прикладного изучения с целью обосновать правильность решения проблем развития сегодняшней исто-
рической мысли. Исследование исторической науки периода конца 1920-х - 1930-х гг. позволяет по-новому поставить некоторые вопросы теории и методики историографических исследований, возвращает нас к подзабытой сегодня, но по-прежнему актуальной проблеме периодизации советской историографии.
Прежняя периодизация, наиболее ярко воплощенная в последних томах "Очерков истории исторической науки в СССР" и подразделяющая начальный период советской историографии на этапы до середины 1920-х гг. и середины 1930-х гг., по мнению многих исследователей, устарела и нуждается в пересмотре. Впервые высказанная в зарубежной литературе точка зрения, что главным рубежом в развитии советской исторической науки довоенного периода следует считать не середину третьего и даже четвертого десятилетия, а конец 1920-х гг., находит все больше сторонников2.
Именно в годы так называемого "великого перелома" канул в Лету период отно
сительно благополучного функционирования исторической науки, когда еще сохранялась
возможность сосуществования различных исторических направлений и школ, имел место
реальный плюрализм мнений, формы и структуры научных объединений отличались раз
нообразием, активно продолжалась широкомасштабная публикация источников. Изме
нившаяся вместе с крахом НЭПа и установлением единовластия Сталина общественно-
политическая обстановка поменяла отношения политики и историографии. В ходе целе
направленных политических акций ("академическое дело", сопровождавшееся репрес
сиями старой профессуры; письмо Сталина в журнал "Пролетарская революция" и кам
пания по его проработке; подготовка под наблюдением вождя первых томов "Истории
гражданской войны в СССР" и "Краткого курса истории ВКП(б)"; постановления партии об
учебниках по истории середины 1930-х гг.; кампания критики М.Н.Покровского и его шко
лы; конкурс по написанию учебника истории СССР для начальной школы и др.) произош
ла "сталинизация" советской историографии, В результате исчезла былая относительная
автономия научных исследований; историческая наука в значительной мере преврати
лась в придаток партийно-государственной машины, идеологически обслуживавший её в
целях формирования угодного правящей верхушке политического и исторического созна
ния масс. Обществу всеохватывающей централизации и тотального регламентирования
как нельзя лучше соответствовал сложившийся в 1930-х гг. тип "огосударствленной" ис
торической науки с административно-директивными методами управления ею, неограни-
\ ченным вмешательством власть предержащих в творческий процесс, с жесткой цензурой,
забвением свободы научных дискуссий, единообразием организационных форм, унификацией исторических учебников и подготовки научных кадров, канонизированной официальной концепцией истории, обязательной для всех исследователей.
Труды более чем полувековой давности, являясь ценными историографическими памятниками, запечатлели все эти процессы, отличавшие советскую историографию довоенных лет. Отражая уровень тогдашних исторических и историографических знаний, они также зафиксировали ту политическую и идеологическую борьбу, которая развернулась в 1920 - 1930-х гг. в стране и частью которой оказался так называемый исторический фронт. В этой смысле избранный нами объект исследования вплотную смыкается с изучением истории общественно-политической мысли, с темой истоков и сущности сталинизма, относится к ним как важная составная часть к целому.
Наконец, детальное исследование исторической науке периода культа личности Сталина может существенно помочь преподаванию историографии в вузах.
В качестве предмета исследования автором избрана деятельность школы Покровского в рамках периода "огосударствленной" исторической науки, когда эта школа при поддержке партийно-государственного руководства пережила сначала этап подъема, заняв близкое к монопольному положение в советской историографии, а затем "с помощью" тех же вождей оказалась низвергнутой до положения незаконной и отовсюду гонимой. При этом, учитывая накопленные современной литературой знания, подробно рассматриваются научная и общественная деятельность не только создателя и главы школы, но и тех его учеников, чьи жизнь и творчество еще не становились предметом специального изучения.
Взаимоотношения учителя и учеников, имеющие прямое касательство к проблеме преемственности, традиций и новаторства в науке, затрагивают также такую актуальную и далеко не всегда приятную для обобщений тему, как этика ученого. В этом смысле изучение школы Покровского по-своему благодатно. Возвращая к событиям недавнего прошлого, оно предоставляет немало поучительных примеров извращения общечеловеческих принципов морали и этики в угоду ложно трактуемым классовым и партийным подходам. Оно также напоминает об извечной проблеме нераздельности политической, научной и нравственной позиции ученого.
Историография исследуемой темы одновременно богата и бедна. О самом Покровском написано, вероятно, больше, чем о ком-либо из отечественных историков3. Только в последнее двадцатилетие увидели свет монографии А.А.Говоркова, Дж.Энтина, Д.Барбера, А.А.Чернобаева, в которых обстоятельно анализируются те или иные аспекты жизни и научного наследия ученого 4. Однако, как было признано в ходе недавней полемики на страницах журнала "Вопросы истории", его деятельность и творчество еще имеют немало "белых пятен", многое из написанного нуждается в переосмыслении5. Слабо, в частности, изучены последние годы жизни руководителя историков-марксистов, падающие на переломное время развития советской науки. До недавней поры по известным
причинам табу для российских исследователей являлись такие темы, как, например, "Покровский, "академическое дело" и роспуск РАНИОН", "борьба между Покровским и Ярославским за лидерство в марксистской историографии", "критика школы Покровского и репрессии среди историков". В книгах и статьях В.А.Дунаевского, А.И.Алаторцевой, В.Ю.Соколова, Т.И.Калистратовой, В.С.Брачева, Б.В.Ананьича, В.М.Панеяха, А.Н.Цамутали, А.Л.Литвина, Ф.Ф.Перченка, СО.Шмидта, в большинстве своем появившихся в последние годы, освещены важные, но далеко не все стороны вопроса6. Изучение сюжета в зарубежной, главным образом англо-американской, историографии в силу недоступности для авторов архивных источников также страдает неполнотой7. Иными словами, до сих пор отсутствует комплексная реконструкция жизни и деятельности главы историков-марксистов на рубеже третьего и четвертого десятилетий, когда в советской историографии происходили радикальные изменения.
Хуже обстоит дело с другими аспектами темы. Отсутствует ясность с содержанием понятия "школа Покровского", составом ее участников. Н.В.Иллерицкая задается даже вопросом: существовала ли вообще "школа Покровского", - и дает противоречивый ответ на поставленный вопрос. "Сама по себе концепция Покровского, - разъясняет она, - была столь уязвима и с научной, и с политической точки зрения, что не могла служить основой научной школы" (как будто концепция В.О.Ключевского не была уязвимой в политическом и научном отношении уже при его жизни, о чем неоднократно писали его же ученики П.Н.Милюков, Н.А.Рожков и др.). С другой стороны, продолжает она, поскольку "имя Покровского было в идейной борьбе 20-х гг. символом марксистского направления в историографии, то правомерно сделать вывод, что "школа Покровского" имеет скорее общественно-политическое, нежели научное содержание"" (именно так, если подразумевать под названной школой весь лагерь историков-марксистов).
За исключением отдельных выдающихся учеников, уцелевших в годы террора и
сохранивших позднее руководящее положение в советской исторической науке
(академики А.М.Панкратова, М.В.Нечкина, И.И.Минц, профессора А.Л.Сидоров,
Э.Б.Генкина и др.), биографии и творческое наследие остальных, в большинстве репрес
сированных, изучены крайне скудно9. Между тем многие из представителей школы По
кровского, играли не только заметную роль в событиях, разворачивавшихся на историче
ском фронте в 1920 - 1930-х гг., но и внесли определенный вклад в науку, оставив после
| себя ценные научные труды.
Казалось бы, без ссылки на партийно-правительственные постановления об исторической науке и преподавании гражданской истории середины 1930-х гг. не обходится ни один серьезный учебник по отечественной историографии; эти директивные документы давно известны всем историкам науки. Однако подоплека их принятия, роль вождей в
формулировании установок, взаимосвязь постановлений с кампаниями по подготовке учебников и критике школы Покровского также изучены недостаточно. Единственной работой, которая не может исчерпать тему, является подготовленная еще в середине 1960-х гг., но долгие годы по понятным причинам не публиковавшаяся содержательная статья академика М.В.Нечкиной, освещавшая роль Сталина в подготовке и принятии документов, положивших начало кампании критики Покровского и его школы10.
При оценке уровня современного знания темы необходимо также учесть следующее важное обстоятельство. До последнего времени в отечественной историографии не принято было подвергать критическому (в том числе историографическому и источниковедческому) анализу партийно-правительственные документы, господствовало устойчивое мнение об их исключительно благотворном влиянии на развитие науки. Лишь недавно появились первые ласточки, прокладывающие дорогу новому пониманию значения постановлений середины 1930-х гг., в которых предпринята попытка переосмыслить сложившиеся стереотипы, уйти от односторонней апологетики11.
Поэтому задача диссертации - не просто показать роль и значение "школы Покровского" и ее отдельных видных представителей на разных этапах развития советской исторической науки в конце 1920-х - 1930-х гг., но и переосмыслить, используя новый, в значительной мере неизвестный фактический материал, многие из событий, происходивших в отечественной историографии в ту эпоху.
Диссертация подготовлена с позиций исторического материализма, который является ее методологической основой. Автор придерживается мнения, что в сумме внутренних и внешних факторов развития науки последние играют определяющую роль. Социально-экономические, политические, культурные и иные условия, сама атмосфера жизни, формируя потребности и интересы, влияют на характер научного творчества (идеологию) ученого, в значительной степени обуславливая и способы "обработки" мыслительного материала ("стиль мышления"), и предмет исследования, и специфику оценки (результат) изучаемых явлений. Иными словами, ученому чрезвычайно сложно абстрагироваться от той общественной среды, к которой он принадлежит, и тех воззрений, которые ей свойственны. В тоталитарном обществе подобное абстрагирование чересчур смелому мыслителю порой может стоить жизни. Общественная практика, сама являясь предметом исследования во временном срезе, "выдает" историку социальный запрос, стимулируя научный поиск и определяя круг изучаемых проблем. Примеров тому, возвращаясь к избранной автором теме, - великое множество.
С другой стороны, зависимость между условиями жизни ученого и его творческой деятельностью далеко не всегда так открыто детерминирована, как это зачастую изображалось в советской философии и историографии. Историческая наука - это не собра-
ниє поучительных иллюстраций и примеров прошлого во имя сиюминутных политических интересов какой-либо социальной группы. Как система кооперативной познавательной деятельности людей (сам тип её в конечном счете обусловлен соответствующей организацией общества), наука в своем развитии обладает относительной самостоятельностью, автономностью. Накапливаемая ею сумма знаний оказывает важное и все более возрастающее влияние на постановку новых задач. Увеличение знаний, дальнейшее разделение труда, усложнение внутренней структуры исторической науки лишь повышают её автономность, выдвигая на повестку дня такие собственные ценности науки, как установление истины, научное описание и анализ событий, их объективное понимание, а не субъективный "классовый приговор".
Источниковая база диссертации разнообразна по своему видовому составу и включает опубликованные и архивные материалы. К числу опубликованных источников относятся: постановления, другие документы партийных и государственных органов об исторической науке, значительная часть которых недавно была рассекречена и обнародована в журналах "Исторический архив", "Источник. Вестник Архива Президента РФ" и сборнике документов "Сталинское Политбюро в 30-е годы"; выступления и письма Сталина, Молотова, других членов высшего партийного руководства, по сути мало чем отличавшиеся от официальных директив; стенограммы различных мероприятий и совещаний; тезисы партийных органов и учреждений; воспоминания и переписка очевидцев событий Э.Б.Генкиной, А.И,Гуковского, Н.М.Дружинина, А.Л.Сидорова, К.М.Симонова, самого Покровского; наконец, труды ученых. Среди последних - не только коллективные сборники статей, монографии, другие крупные работы, но и плохо или совсем неизвестные рецензии, обзоры, доклады, некрологи и иные публикации, увидевшие свет на страницах газетной и журнальной периодики, в малотиражных серийных сборниках. Наиболее важные из них (общее их число превышает полутысячу) приведены в прилагаемом к диссертации списке основных опубликованных источников и литературы.
Самостоятельной частью источниковой базы диссертации являются архивные материалы. Их значение трудно переоценить, особенно при освещении "внутренней кухни", сопровождавшей борьбу на историческом фронте и сопутствовавшей выработке тех судьбоносных решений, которые принимались властными органами. В подобных случаях архивные документы выступают в роли главного, зачастую единственного информатора о событиях.
Видовой состав архивных источников в основном повторяет тот, что перечислен применительно к опубликованным материалам: это официальные и делопроизводственные документы партийных органов, творческие и подготовительные материалы ученых, их переписка и воспоминания и т.д. Документы эти выявлены в архивных фондах Полит-
бюро и аппарата ЦК, Наркомпроса, Комакадемии, РАНИОН, главной редакции "Истории фабрик и заводов", редакции журнала "Историк-марксист", партийных организаций ИКП и Института истории Комакадемии, Калужского обкома и Мосальского укома партии, в личных фондах И.В.Сталина, ААЖданова, М.Н.Покровского, Е.М.Ярославского, В.И.Невского, М.Н.Тихомирова, А.В.Шестакова, Н.Л.Рубинштейна, которые хранятся в Архиве Президента РФ (АП РФ), Российском центре хранения и изучения документов новейшей истории (РЦХИДНИ), Центре хранения современной документации (ЦХСД), Государственном архиве РФ (ГА РФ), Архиве Российской Академии наук (Архиве РАН), Отделе рукописей Российской государственной публичной библиотеки (ОР ГПБ), Центральном архиве общественных движений г. Москвы (ЦАОД г. Москвы), Государственном архиве Калужской области (ГАКО).
Особо хотелось бы охарактеризовать ранее практически недоступный вид источников - уголовные дела репрессированных из Центрального архива Федеральной службы безопасности РФ (ЦА ФСБ РФ). В ходе подготовки диссертации было изучено около 30 подобных дел ученых-историков, в том числе дела П.О.Горина и Н.Н.Ванага (с делом Б.Н.Тихомирова, сфабрикованным Азербайджанским НКВД и там отложившимся, автор, к сожалению, не имел возможности познакомиться).
Особенности содержания этого вида источников в какой-то мере определяют специфику их использования. Обычный состав уголовного дела не зависит от его объема. Почти в каждом из них, включает оно один или несколько томов, содержатся следующие документы: справка органов НКВД об изобличающих будущего арестанта показаниях других лиц или, что гораздо реже, утвержденное прокурором обвинительное постановление в его адрес; ордер на арест; протокол обыска, в который входит список изъятых архивных материалов и литературы; заполненная подследственным биографическая анкета (анкета арестованного); конверт с двумя тюремными фото в фас и профиль; постановление об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого; протоколы его допросов и очных ставок; протоколы допросов других лиц; обвинительное заключение, иногда вместе со справкой органов НКВД об окончании следствия и передаче материалов в суд; протокол подготовительного заседания судебного органа; расписка арестованного об ознакомлении с обвинительным заключением; протокол судебного заседания; приговор; справка о его исполнении. В отдельных делах имеются постановления о переквалификаций обвинения, о продлении срока следствия, справки о состоянии здоровья арестованного, написанные им в камере показания или обращения в партийные и государственные инстанции.
К делу бывают также приобщены рецензии и отзывы на научные труды подследственного, материалы проверок учреждений, где он работал, копии решений партийных
органов о взысканиях и исключении его из партии, обличительные письма в ЦК ВКП(б) и органы НКВД от бывших сослуживцев. Очень редко встречаются изъятые при обыске документы личного архива, так как по завершении дела они чаще всего уничтожались. К счастью, в делах СА.Пионтковского и И.Л.Татарова такие документы сохранились. В первом случае - это обширный и чрезвычайно познавательный для историка науки дневник, который ученый вел начиная с середины 1927 г. (в ходе следствия с его подлинника сделали машинописную копию, которая и составила самостоятельный том уголовно-следственного дела). Во втором - фрагменты из дневника Татарова конца 1920-х гг. и материалы его переписки с Покровским, А.Е.Пресняковым, Б.А.Романовым, Б.Д.Грековым, другими известными историками.
Последовательность расположения в уголовном деле документов, как правило, совпадает с хронологией следствия. Однако часто справки об обвинениях и даже ордера на арест оформлены задним числом, когда следствие уже вовсю развернуло свою работу-
Особое место в деле занимают протоколы допросов. В зависимости от сроков следствия, важности арестованного, его готовности сотрудничать с органами НКВД их число варьируется от двух-трех до нескольких десятков. Протоколы допросов подследственного перемежаются протоколами допросов других лиц. Последние, представляя деятельность арестованного в негативном свете, служили зачастую главным обоснованием его вины. Редкий, но по своему характерный для тогдашних уголовно-процессуальных норм факт: протокол допроса "разговорчивого" подследственного может отсутствовать в его уголовном деле, но найдется в делах его знакомых или сослуживцев.
Действующее архивное законодательство, исходя из интересов защиты прав личности, предусматривает ограничения на пользование подобным специфическим материалом. Допущенный к этим делам не должен разглашать сведения, составляющие тайну личной жизни гражданина (его семейные и интимные отношения, здоровье, имущественное положение), а также сведения, угрожающие безопасности его семьи. Руководствуясь этими правилами, автор диссертации не считал для себя приемлемой, как с правовой, так и с нравственной точки зрения, роль прокурора с вынесением обвинительных вердиктов или выяснением, кто из историков кого тогда оговорил.
Заключительный раздел уголовного дела — материалы о реабилитации, относящиеся ко второй половине 1950-х или к концу 1980-х гг. Здесь обычный набор документов состоит из заявления родственников или самого репрессированного, справок и заключений прокуратуры о пересмотре дела, определения суда об отмене прежнего приговора, наконец, копии справки отдела загс о дате смерти реабилитированного лица, выдаваемой на руки членам семьи. Этот последний документ в отличие от находящейся в
деле справки о расстреле обычно является фальшивым и имеет свою подоплеку, восходящую к трагическим 1930-м гг. По тогдашней, санкционированной сверху "гуманистической" практике родственникам, если приговор о высшей мере наказания был приведен в исполнение, сообщались другие сведения, например, что их муж и отец осужден к нескольким годам исправительно-трудовых лагерей без права переписки. Позднее в ответ на их настойчивые просьбы объяснить затянувшееся молчание осужденного отделы загс по поручению органов НКВД выдавали липовые справки о его смерти.
Эта процедура, преследовавшая цель скрыть истинные масштабы репрессий, сохранялась до 1980-х гг. и широко использовалась в период массовой реабилитации во второй половине 1950-х гг. Семье историка П.П.Парадизова, как сообщает Е.Н.Никитин, прокуратурой в 1944 г. и отделом загс в 1982 г. были выданы справки о смерти ученого 30 октября 1940 г.12 Копии этих справок аккуратно подшиты в его уголовном деле. В действительности согласно другой справке из этого же дела он был расстрелян еще 20 июня 1937 г, на следующий день после вынесения приговора. Схожая ситуация со смертью историка Б.Н.Тихомирова, брату которого академику М.Н.Тихомирову была выдана справка о его гибели 5 мая 1939 г. И здесь установить реальную дату смерти ученого можно лишь при непосредственном обращении к материалам его уголовного дела.
Итак, уголовные дела даже при наличии законных ограничений на их использование дают богатую пищу для анализа механизмов организации репрессий, в деталях раскрывают прежде закрытый для науки "тюремный" период жизни пострадавших тогда ученых, уточняют с помощью самих репрессированных (анкета арестованного) вехи их деятельности. Особенно возрастает значение уголовных дел в связи с гибелью личных архивов людей, позволяя восстановить хотя бы в общих чертах биографическую канву их жизни13. Судьбы историков "школы Покровского", чьи архивы за редкими исключениями не сохранились, невозможно осветить без привлечения материалов уголовных дел.
Совокупность выявленных опубликованных и архивных источников позволила впервые в отечественной историографии предпринять попытку комплексного исследования процессов, происходивших в советской исторической науке в конце 1920-х - 1930-х гг., роли и значения в них "школы Покровского". В такой постановке вопроса заключается научная новизна диссертации.
Практическая значимость работы определяется возможностями использования её материалов для создания обобщающих трудов по истории отечественной исторической науки, а также при подготовке лекционных курсов, учебников, учебных и методических пособий по историографии.
Диссертация состоит из 3 глав, содержание которых в целом соответствует хронологии событий. Первая глава посвящена реконструкции жизни и деятельности главы
школы в переломный период развития советской историографии на рубеже 1920-1930-х гг. Во второй главе анализируется содержание понятия "школа Покровского", определяется её состав. Сквозь призму характеристики научного творчества и деятельности видных представителей "школы" П.О.Горина, Н.Н.Ванага и Б.Н.Тихомирова раскрываются процессы, происходившие в советской исторической науке во второй половине 1920-х -середине 1930-х гг. В третьей главе подробно рассматриваются две основные кампании, охватившие советскую историографию во второй половине 1930-х гг., - кампания по написанию исторических учебников (фактически по созданию официальной концепции истории) и кампания по критике Покровского и его школы, сопровождавшаяся широкомасштабным!! репрессиями ученых.
Такой подход к формированию структуры диссертации позволил учесть, с одной стороны, закономерности развития советской исторической науки в период с конца 1920-х гг. по 1941 г., с другой - задачи исследования, подразумевающие необходимость показать роль и значение "школы" в целом на разных этапах развития событий, реконструировать биографии и творчество отдельных видных представителей "школы Покровского".
1 За последние два года вышли пять коллективных трудов и сборников на эту тему. См.:
Историки России XVill - XX веков. Вып. 1-4. Архивно-информационный бюллетень. 1995-1997. №№
9,10, 14,16; Советская историография. М. 1996; Россия в XX веке: Судьбы исторической науки. М.
1996; Исторические исследования в России: тенденции последних лет. М. 1996; Историческая нау
ка России в XX веке. М. 1997.
2 См., напр.: Барсенков А.С. Основные этапы изучения советского общества в историче
ской науке // Вестник Московского университета. Серия 8. История. 1990. № 2; Соловей В.Д. Исто
рическая наука и политика в СССР. 20 - 30-е годы /У Историческое значение НЭПа. Сб. ст. М. 1990;
Алексеева Г.Д. Историческая наука в России после победы Октябрьской революции // Россия в XX
веке: Судьбы исторической науки. М. 1996; Ее же. Октябрьская революция и историческая наука //
Историческая наука в России в XX веке. М. 1997; Афанасьев Ю.Н. Феномен советской историогра
фии // Советская историография. М. 1996.
3 Соколов О.Д. Оценка М.Н.Покровского как историка в советской историографии // Про
блемы истории общественного движения и историографии. М. 1971.
4 Говорков А.А. М.Н.Покровский о предмете исторической науки. Томск. 1976; Enteen G.
The Soviet Scholar-Bureaucrat: M.N.Pokrovskii and the Society of Historians. P.A. 1978; Barber J. Soviet
Historians in Crisis. 1928 - 1932. Lnd. 1981; Чернобаев A.A. "Профессор с пикой", или три жизни ис
торика М.Н.Покровского. М. 1992.
5 Энтин Дж. Спор о М.Н.Покровском продолжается // Вопросы истории. 1989. № 5. С. 154-
159; Дунаевский В.А. Стоит ли вновь возвращаться к М.Н.Покровскому? // Там же. 1995. № 2. С.
173-175.
6 Дунаевский В.А. Большевики и германские левые на международной арене (Некоторые
аспекты темы в освещении советской историографии конца 20-х - начала 30-х гг.) // Европа в новое
и новейшее время: Сб. ст. М. 1966; Алаторцева А.И. Советская историческая периодика 1917 - се
редина 1930-х гг. М. 1989; Ее же. Советская историческая наука на переломе 20-30-х годов // Исто
рия и сталинизм. М. 1991; Соколов В.Ю. История и политика (К вопросу о содержании и характере
дискуссий советских историков 1920-х - начала 1930-х гг.). Томск. 1990; Калистратова Т.И. Институт
истории ФОН МГУ - РАНИОН (1921-1929). Ниж. Новгород, 1992; Брачев B.C. Русский историк Сер
гей Федорович Платонов. Ч. 1-2. СПб. 1995; Ананьич Б.В., Панеях В.М., Цамутали А.Н. Предисло
вие. Сергей Федорович Платонов. Биографический очерк // Академическое дело 1929-1931 гг.
Вып.1. Дело по обвинению академика С.Ф.Платонова. СПб. 1993; Литвин А.Л. Без права на мысль:
историки в эпоху Большого Террора. Очерки судеб. Казань. 1994; Перченок Ф.Ф. Академия наук "на великом переломе" // Звенья: Исторический альманах. М.1991. Вып.1; Шмидт СО. Доклад С.Ф.Платонова о Н.М.Карамзине 1926 г. и противоборство историков // Археографический ежегодник за 1992 г. М. 1994.
7 См., напр.: Shteppa К. Russian historians and the Soviet state. New Brunswick. 1962; Aran P.
M.N.Pokrovskii and the Impact of the First Five-Year Plan on Soviet Historiography II Essays in russian
and soviet history in honor of G.T.Robinson. N.Y. 1963; Szporluk R. Pokrovsky and russian history II
Servey. 1964. № 53; Idem. Pokrovskii's view of the russian revolution It The American Slavic and East
European Review. 1967. Vol.26. № 1; Idem. Pokrovsky's selected works II Ibid. 1971. vol. 30; Frankel G.
Party Genealogy and the soviet historians (1920 - 1938) II Ibid. 1966. vol. 25; Eissenstat B.
M.N.Pokrovsky and the Soviet Historiography: some reconsiderations II Ibid. 1969. vol. 28. № 4; Dorotich
D. Disgrace and rehabilition of M.N.Pokrovsky II Canadien Slavonic papers. 1966. vol. 8; EnteenG. Soviet
historians review their own past: the rehabilitation of M.N.Pokrovsky II Soviet studies. 1969. vol. 20. № 3;
Harvey A. The rise, fall and resurrection of M.N.Pokrovskii II The russian review. 1972. vol. 31; Mazour A.
The writing of history in the Soviet Union. Stanford. 1971; Idem. Modern russian historiography. 3rd rev.
ed. Westport. 1975 etc. См. также: Соловей В.Д. Процесс становления советской исторической науки
(1917—середина 30-х п.) в освещении американской и английской историографии // История
СССР. 1988. №4.
8 Иллерицкая Н.В. Становление советской историографической традиции: наука, не об
ретшая лица // Советская историография, М. 1996. С. 169.
9 Краткие биографические сведения о некоторых учениках и соратниках Покровского
впервые приведены в нашей статье "Судьбы историков школы М.Н.Покровского (середина 1930-х
годов)" (Вопросы истории. 1994. № 7).
10 Нечкина М.В. Вопрос о М.Н.Покровском в постановлениях партии'и правительства 1934-
1938 гг. о преподавании истории и исторической науке (К источниковедческой стороне темы) // Ис
торические записки. Т. 118. М. 1990.С. 232-246.
11 См., напр.: Опенкин Л.А. Механизм торможения в сфере общественных наук: истоки
возникновения, факторы воспроизводства // История СССР. 1989. № 4; Константинов СВ. Дорево
люционная история России в идеологии ВКП(б) 30-х гг. // Историческая наука России в XX веке. М.
1997.
1г Никитин Е.Н. Архив историка П.П.Парадизова //Археографический ежегодник за 1988 год. М. 1989. С. 251.
13 См. также: Литвин А. Следственные дела как исторический источник // Гасырлар авазы (Эхо веков). 1995. Май. С. 170-176.
М.Н.Покровский накануне и в год "великого перелома" (1928-1929 гг.)-
Уже давно зарубежные специалисты обратили внимание на трагические события, происшедшие в советской исторический науке в конце 20 - начале 30-х гг.1 После долгих лет умолчания, освободившись от идеологического диктата, к этой теме пришла, наконец, отечественная историография.
Среди многочисленных публикаций, появившихся в последнее время, немало страниц посвящено М.Н.Покровскому и той роли, которую он сыграл в этих событиях. Оценки при этом высказываются полярные. В изображении ААЧернобаева Покровский -"умирающий гладиатор" из когорты старых революционеров, который много сделал для становления марксистской концепции русской истории и пытался по возможности противостоять Сталину 2. Дж.Энтин, напротив, указывая на эволюцию взглядов ученого, считает возможным говорить о совпадении воззрений и действий историка на закате его жизни с установками вождя партии, хотя "это шло вразрез с совестью Покровского"3. Доносчиком на С.Ф.Платонова, безнравственной личностью с острым политическим чутьем ("он готов был казаться роялистом более чем король") рисует Покровского С.О.Шмидт4. По-разному характеризуя причастность ученого к гонениям на Академию наук и РАНИОН, Ф.Ф.Перченок, В.С.Брачев, Т.И.Калистратова, Б.В.Ананьич, В.М.Панеях и А.Н.Цамутали, Ю.В.Кривошеев и А.Ю.Дворниченко солидарны в одном - Покровский историографически обосновал разгром старой профессуры5.
Спор о Покровском продолжается, продвигая изучение темы вперед, побуждая исследователей искать дополнительные факты в подтверждение своих идей, переосмысливать не раз прочитанные и, казалось бы, давно известные тексты. Совместными усилиями выявлен и опубликован значительный корпус источников6, сформулированы ценные историографические обобщения о переломном периоде истории советской науки и ропи в ее развитии Покровского. Увидела свет полная библиография его трудов7. Все это позволяет осуществить попытку более детальной реконструкции деятельности и творчества ученого в 1928 - 1932 гг. В начале 1928 г. общественный и научный авторитет Покровского кажется не-зыблимым. Огромен круг его служебных обязанностей: первый заместитель наркома просвещения РСФСР, председатель ГУСа и его научно-политической секции, председатель президиумов Комакадемии и РАНИОНа, член Комитета по заведыванию учеными и учебными заведениями при ЦИК СССР, ректор Института красной профессуры (ИКП), председатель Общества историков-марксистов (ОИМ), член редакций журналов "Историк-марксист" , "Под знаменем марксизма", "Вестник Комакадемии", член президиума Большой Советской Энциклопедии, главный редактор отделов обществоведения и русской истории БСЭ, отвечающий за политическое направление всего издания, и др. Но из почти 20 служебных функций три главных, унаследованные от предшествующих месяцев, заботы волнуют ученого: подготовка к расширению состава Академии наук и выборам новых академиков; предстоящий выход советских историков на международную арену; организация I Всесоюзной конференции марксистско-ленинских научно-исследовательских учреждений. Все эти проблемы находятся в поле зрения ЦК ВКП(б), от того, как они будут реализовываться, зависит политический и научный авторитет ученого.
Еще в ноябре 1927 г. Комиссия по наблюдению за работой Академии наук при СНК СССР (А.С.Енукидзе, А.В.Луначарский, В.П.Милютин, Н.П.Горбунов, В.Г.Кнорин, которого вскоре заменил А.И.Криницкий) определила, с учетом замечаний А.И.Рыкова, Покровского0, Д.Б.Рязанова, В.П.Волгина, А.Н.Баха и др., предварительный список кандидатов в академики и направила его членам Политбюро ЦК ВКП(б) с просьбой высказать мнение о кандидатах. Из-за проведения ХУ съезда партии вопрос временно отложили, и вот теперь - в середине января - к его рассмотрению решено вернуться. По поручению Комиссии Н.П.Горбунов внес в Политбюро ЦК ВКП(б) проект постановления "К выборам акалемиков" вместе с пояснительной запиской9. В записке констатировалось, что в последнее время "правая реакционная группа академиков, сосредоточенная, главным образом, в Отделении гуманитарных наук, настолько обнаглела, что идет на конфликт даже с такой умеренной группой, как группа /С.Ф./ Ольденбурга", предлагались, с целью проведения нужных кандидатов, четыре пути воздействия на Академию. Первый - использование непременного секретаря АН С.Ф.Ольденбурга и вице-президента АН А.Е.Ферсмана и близких к ним членов Академии, второй - создание соответствующего общественного фона вокруг выборов, чем немедля должен заняться Агитпроп ЦК ВКП(б) и местные парторганизации, третий - работа самой Комиссии, четвертый - "административное воздействие через ОГПУ - ...как крайняя мера, для временного изъятия наиболее вредных элементов Академии на время выборов". Члены высшего партийного руководства ставились в известность, что "Комиссия не считала возможным до утверждения списка в Политбюро вести с кем-либо из кандидатов (за исключением тт. Рязанова и Покровского, которые участвовали в работах Комиссии) переговоры о согласии на выставление их кандидатур. Поэтому возможны в дальнейшем отказы со стороны некоторых кандидатов. Товарищи Рязанов и Покровский уже отказываются ..., причем тов. Рязанов ... в решительной и категорической форме. Тем не менее Комиссия считает необходимым настаивать на включении их в список".
16 января без заседания опросом Политбюро ЦК ВПК(б) приняло решение поручить комиссии в составе В.М.Молотова (созыв), А.И.Рыкова и Н.И.Бухарина изучить поставленные вопросы и подготовить предложения для нового рассмотрения. Трудно сказать, в какой степени Молотов оказался причастен к выработке уточненного проекта постановления, но 22 марта на заседании Политбюро, где состоялось повторное рассмотрение, вместо него докладывали Рыков и Покровский, который все более активно включался в выборную кампанию. По итогам обсуждения решено было увеличить число академических кафедр до 80, утвердить предложенный список желательных кандидатов, разрешить Комиссии в зависимости от обстоятельств вносить в него изменения, признать необходимым организовать пропагандистскую кампанию в прессе и провести выборы до осени, "просьбу т.Рязанова и т.Покровского о снятии их кандидатур отклонить и обязать их согласиться на избрание их в академики"10.
В феврале Покровский выполнил еще одно поручение ЦК - подготовил записку о возможном составе делегации советских ученых на предстоящем в Осло УІ международном историческом конгрессе. По мнению главы историков-марксистов, в делегацию следовало ввести представителей трех республик - России, Украины и Белоруссии,- партийцев и беспартийных, ибо "иной состав делегации косвенно подтвердил бы белогвардейскую сплетню, будто в СССР немарксистам запрещено заниматься историей". Персонально Покровский предлагал В.В.Адоратского, В.П.Волгина, С.М.Дубровского, Е.А.Косминского, Н.М.Лукина, П.Ф.Преображенского, Е.В.Тарле, А.Е.Преснякова, Б.Л.Богаевского, М.С.Грушевского, М.Н.Слабченко, А.Н.Федоровского, М.И.Яворского, В.А.Юренца, В.М.Игнатовского и В.И.Пичету, добавляя к ним свою фамилию. "Все беспартийные делегаты от РСФСР, - заключает Покровский,- считаются в своем кругу марксистами, кроме Тарле. То же можно сказать и об украинских делегатах, кроме Грушевского"11.
М.Н.Покровский в последние годы жизни (1930-1932 гг.)
Как это часто бывает, надежда скоро вернуться на родину не оправдалась. Из-за очередного обострения болезни Покровский вынужден был остаться в Берлине значительно дольше, чем намечал. В новом письме Горину от 8 января 1930 г. ученый побоялся даже заикнуться о конкретном сроке отъезда. В течение полугода буду по-прежнему болеть, - с горечью писал он, - поэтому поездки, участие в диспутах невозможны, придется действовать литературным путем. "А чтобы не подумали, что я помер и под моим именем пишет кто-то другой, я могу два-три раза показаться в торжественных случаях"1. Одновременно с письмом в Москву было отправлено заявление с просьбой об освобождении на полгода от всякой административной работы. В листе голосования по проекту постановления Секретариата ЦК ВКП(б), предлагавшем удовлетворить это заявление с сохранением за Покровским занимаемых постов, А.Н.Поскребышев 11 января сделал запись: "Сталин за".
Ученики по-прежнему информировали учителя о новостях политической и научной жизни. В числе главных из переданных Покровскому - сообщение о его утверждении председателем Археографической комиссии Академии наук взамен находящихся под следствием Платонова и исполнявшего после него обязанности председателя Н.П.Лихачева. Регулярно из постпредства в больницу присылалась советская пресса. Глава историков-марксистов имел возможность знакомиться с ней с незначительным опозданием в день-два после публикации. Его внимание, несомненно, привлекли непривычно объемный, восьмистраничный номер "Правды" от 21 декабря 1929 г. с восторженными статьями, посвященными 50-летию Сталина (среди избранных авторов - Ярославский), а также информация об организованной Комакадемией Всесоюзной конференции аграрников-марксистов и выступлении на ней вождя партии, потребовавшего преодолеть отставание теории от практики социалистического строительства.
Ученый оперативно получил стенограмму состоявшегося 16 и 25 января в секции истории ВКП(б) и ленинизма ОИМ первого диспута о "Народной воле", на котором с докладами выступили защищавшие Покровского Невский, Татаров и их оппонент Теодоро-вич. "Провал Ивана Адольфовича, - писал по прочтении её 3 февраля Покровский Татарову, - совершенно ясен. Уж если человеку пришлось 40 минут доказывать существование утопического социализма (!!), обойдя молчанием всю решительно аргументацию
В.И.Невского, - то это даже не капитуляция, а просто бегство с поля битвы. Интересно, найдутся ли у него сторонники?"2
Выполняя обещание дать материал для очередного номера журнала "Историк-марксист", Покровский закончил в эти дни вторую часть статьи "Америка и война 1914 года". В ней он продолжил характеристику интимных и доверительных связей между государственными деятелями США и Великобритании накануне и в годы мировой войны. Цитируя многочисленные документы и воспоминания, ученый продемонстрировал при этом тонкое умение читать между строк, видеть подлинный смысл политики великих держав, скрывавшийся за пышными фразами дипломатов. Но едва содержание статьи затронуло вопрос о виновниках войны, как это умение неизвестно куда испарилось. Не веря англичанам, автор в угоду идее о вине Антанты поверил немцам. Словно слепой, он доверился словам кайзера Вильгельма о его нежелании воевать, высказанным им в июне 1914 г. при приеме американского представителя Хауса. "Ясно было одно, - безаппеля-ционно утверждал Покровский, оценивая результат этой встречи, - Вильгельм воевать сейчас не хочет. Сейчас Германии война не выгодна". И далее, завершая рассуждения на эту тему, ученый вновь повторил давнюю свою мысль о том, что "война была действительно "предупредительной", но только - не со стороны Германии, а со стороны Англии", и сетовал на плохое проникновение "этой истины в сознание историков"3.
К середине февраля после нескольких сложных операций по удалению опухоли здоровье улучшилось, и Покровские вернулись, наконец, в Москву. Из далекого и равнодушного зарубежья ученый попал в самое пекло событий, многие из которых бросали вызов его главенствующему положению в историографии и подвергали сомнению результаты его научного творчества.
Накануне приезда в секции истории ВКП(б) и ленинизма ОИМ состоялся заключительный диспут о "Народной воле", затем там же с 9 по 13 февраля прошло всесоюзное совещание по вопросам преподавания истории партии и Коминтерна. Вечером в первый день совещания докладчик на нем Ярославский, как записал в дневнике Пионтковский, собрал у себя авторов готовившейся под его руководством четырехтомной "Истории ВКП(б)". Говорили не о содержании очередного тома, а о совещании и ситуации в исторической науке. Руководитель авторского коллектива заявил, что не доволен подготовленными к совещанию тезисами Д.Я.Кина, декларировавшими необходимость создания подлинно научной истории партии и умалявшими ценность проделанной участниками встречи работы. Жена "виновника" дискуссии об азиатском способе производства Дубровского Б.Б.Граве "произнесла обширную речь, где доказывала, что сейчас идет полнейшее угнетение на историческом фронте и даже боятся говорить о торговом капитале". Ярославский схватился за это заявление и, - как отметил Пионтковский, - "вопреки моим возражениям, попросив разрешения у Граве, сослался на неё и брякнул это в своей речи на конференции. Это было понято как осуждение линии Общества /историков-марксистов/ и как призыв к дискуссии и проработке Покровского. Сейчас же стали обвинять Ярославского в либерализме, в собирании фракций, прорабатывать /Н.Н./Эльвова за его неудачную книгу и на всех перекрестках и в кулуарах ругать меня". Масла в огонь подлил Теодорович, открыто выступивший на совещании против "вреднейшей", по его словам, книги Покровского "Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв.". За отсутствовавшего председателя ОИМ вступились С.Е.Сеф, Татаров, Горин, многие другие. Большинством голосов, вопреки мнению Ярославского, была проведена резолюция с персональным осуждением критиков Покровского - Дубровского с его "антиленинской точкой зрения об эволюционистской механистической смене общественных формаций" и Теодоровича за "стремление к идеализации роли народничества, которое в современных условиях приводит в свою очередь к идеализации мелкого производителя"4.
Потерпевший неудачу Ярославский на следующий после совещания день появился в кремлевском кабинете Сталина. Прием, как свидетельствует журнал регистрации лиц, принятых вождем, занял более часа5. Сложно сказать, на какую тему беседовали генеральный секретарь ЦК и секретарь партколлегии ЦКК ВКП(б). Во всяком случае после разговора Ярославский с не меньшей настойчивостью продолжил критику политики ОИМ, проводимой Покровским и его ближайшим окружением.
"Школа М.Н.Покровского": содержание понятия, состав участников
Как это не удивительно, но до сего дня в современной исторической литературе отсутствует ясность с содержанием понятия "школа М.Н.Покровского".
Это понятие впервые и сразу в негативном толковании появилось в официальном сообщении "В Совнаркоме Союза ССР и ЦК ВКП(б)" 27 января 1936 г., где осуждались "ошибочные исторические взгляды, свойственные так называемой "исторической школе Покровского"1. Это, конечно, была не научная дефиниция, а броский, запоминающийся ярлык, удобный для очередной политической кампании и шельмования неугодных. К вредительской "школе" не возбранялось причислять - и причисляли - любого, кто оказался "врагом народа", даже если он имел весьма отдаленное отношение к Покровскому. Представителями "школы" были объявлены активные критики Покровского при его жизни молодые историки Э.Я.Газганов, А.И.Ломакин, П.С.Дроздов, вечно фрондировавший против него САПионтковский. Спустя год после ареста в 1935 г. к ней отнесли учеников и соратников В.И.Невского П.И.Анатольева, В.З.Зельцера, П.П.Парадизова.
В послесталинский период, утратив первоначальный обличительный оттенок, сохранилось привычное расширительное толкование "школы" в отечественной историографии2. Это произошло, быть может, из-за того, что большинство историков-марксистов действительно учились у Покровского в ИКП или в аспирантуре РАНИОН. Или потому, что Покровский долгие годы являлся руководителем историков-марксистов, и всех их -его сподвижников и противников, ортодоксов и сомневающихся - при многих различиях в трактовке отдельных проблем объединяли воинствующий материализм, гиперклассовый подход к изучению прошлого, стремление связать исследовательскую работу с политическими требованиями дня.
Сам "виновник" возникшей неясности, будучи "последовательным монистом", не любил, по крайней мере на словах, акцентировать внимание на личностном факторе. В предшествующей главе уже отмечалось, что понятие "научная школа" Покровскому не нравилось, как и многое другое из оставшеегося в наследство от прежней буржуазной науки. Характеризуя современную ему историографию, глава исторического фронта предпочитал вкладывать в старую дефиницию новый смысл, разумея под "школой" скорее "научное направление", т.е. "определенное количество выдержанной в марксистско-ленинской методологии молодежи". Себя он видел не создателем какой-то очередной научной школы, а лидером единственно правильного марксистского направления русской исторической мысли.
Но такое расширительное толкование "школы Покровского", конечно, не исключало ранее и тем более не исключает сегодня признания реальной зависимости и преемственности между Покровским-учителем и его ближайшими учениками. Входившие в его окружение молодые историки внимательно прислушивались к советам наставника, руководствовались ими в политической и научно-организационной деятельности, в своем творчестве. Уже применительно к отечественной исторической науке второй половины 1920-х гг. можно говорить о существовании сплотившейся вокруг Покровского группы его соратников и учеников, составивших "школу Покровского" в традиционном смысле этого слова. Именно это узкое понятие "школы Покровского" используется далее в данной работе.
Каков был первоначальный состав участников "школы Покровского" и изменялся ли он с течением времени? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо, хотя бы кратко, остановиться на преподавательской деятельности её главы. Как свидетельствует исторический опыт, эта деятельность в наибольшей мере способствует складыванию школы. В процессе обучения начинающие ученые из первых рук получают советы и указания по выбору тем и источников, методологии и методике исследовательской работы, правилам поведения в научной среде и общественной жизни.
Преподавать Покровский начал еще в конце XtX века. Но по-настоящему его преподавательская деятельность развернулась после Октябрьской революции. Сначала это были, как правило, краткосрочные курсы пропагандистов при Социалистической академии или Коммунистическом университете им. Я.М.Свердлова, в рамках которых серьезную научную подготовку проводить было невозможно. Хотя именно здесь состоялось знакомство главы историков-марксистов со многими будущими своими учениками, посещавшими подобные курсы.
С образованием ИКП, в стенах которого развернулось обучение и воспитание марксистских кадров высшей квалификации в области общественных наук, ситуация изменилась. Покровский регулярно объявлял в институте, ректором которого долгие годы являлся, свои исследовательские семинары. Слушателями первых его семинаров по отечественной историографии, истории Октябрьской революции и гражданской войны стали непосредственные участники изучаемых событий - бывшие партийные, советские и профсоюзные работники, комиссары войсковых соединений Красной армии Евгения Павловна Кривошеина, Сергей Михайлович Моносов, Андрей Васильевич Шестаков (обучались с 1921 г.), Николай Николаевич Ванаг, Сергей Митрофанович Дубровский, Берта Борисовна Граве, Григорий Соломонович Зайдель, Анна Михайловна Панкратова, Семен Григорьевич (Симха Генехович) Томсинский, Абрам Григорьевич Пригожий (обучались с 1922 г.), Павел Осипович Горин (Коляда), Давид Яковлевич Кин, Исаак Израилевич Минц (обучались с 1923 г.), другие будущие видные историки-профессионалы. Особую известность приобрел историографический семинар 1924/25 и 1925/26 учебных годов, слушатели которого, обучавшиеся на первом или втором курсах, Милица Васильевна Нечкина, Аркадий Лаврович Сидоров, Эсфирь Борисовна Генкина, Николай Леонидович Рубинштейн, Залмей Борисович Лозинский, Григорий Васильевич Ладоха, Отто Августович Ли-дак, Михаил Абрамович Рубач и др. при активной поддержке научного руководителя опубликовали свои семинарские доклады в двухтомном сборнике "Русская историческая литература в классовом освещении". В семинаре 1926/27 учебного года у Покровского занимались Аркадий Иосифович Ломакин, Эммануил Яковлевич Газганов, Андрей Ильич Малышев, Давид Анатольевич Баевский, Федор Дмитриевич Кретов и др. Для аспирантов Института истории РАНИОН Владимира Михайловича Хвостова, Петра Павловича Пара-дизова, Вениамина Хананьевича Стального и др. ученым в 1927/28 учебном году был поставлен специальный историографический семинар3. В конце 1920-х гг. школу семинаров по русской истории Покровского в ИКП прошли Самуил Самуилович Бантке, Моисей Андреевич Гудошников, Теодор Михайлович Дубыня, Владислав Иванович Зеймаль, Зиновий Львович Серебрянский, Петр Петрович Соловьев, Вениамин Наумович Рахметов, Яков Павлович Резвушкин, Николай Наумович Эльвов, Борис Николаевич Тихомиров и др.
Обучение было серьезным. Чтобы справиться с поставленными в повестку семинаров учебными темами, необходимо было прочитать огромное количество научной литературы и опубликованных источников, немало времени отдать архивным разысканиям, котором Покровский придавал важное значениие. Не случайно, как вспоминали позднее А.Л.Сидоров и Э.Б.Генкина, "некоторые семинарские работы икапистов и по нынешним требованиям представляли собой вполне полноценные кандидатские диссертации"4. Если можно говорить о снижении качества подготовки выпускников ИКП, то это время падает на 1930-е гг., период, когда Покровский уже не занимался преподавательской деятельностью. Именно тогда в угоду массовости обучения единый институт был разделен на несколько учебных заведений, количество слушателей многократно возросло, уровень подготовки поступающих и выпускников резко снизился.
Партийно-правительственные постановления о преподавании истории середины 1930-х гг. и конкурс на учебник по истории СССР
Имя Ванага знакомо сегодня лишь узкому кругу историков науки и упоминается разве что в специальной литературе1. Остаются неизвестными основные вехи его биографии, роль ученого в создании школьных учебников в 1930-х гг., отсутствует библиография его трудов. Между тем, занимая на протяжении ряда лет видное положение в советской исторической науке, Ванаг сыграл заметную роль в её истории.
Трагическая судьба Ванага, как, впрочем, многих репрессированных историков, предопределила скудость сохранившихся источников. Бедны сведения о детских годах будущего ученого. В краткой автобиографии, подготовленной по просьбе Комакадемии в первой половине 30-х гг., он пишет: "Родился в 1899 году в Риге. Отец, служащий бухгалтер, умер в 1900 г. Мать в годы, последовавшие за смертью отца; - швея. Я частично воспитывался на средства брата и сестры (старого члена социал-демократической партии Латвии, члена ВКП(б). Кончил гимназию, занимался преподаванием уроков"2.
Октябрьская революция перевернула жизнь молодого латыша, открыв перед ним иные перспективы. В 1917 г. он примкнул к революционному движению, вступил в юношескую коммунистическую организацию в г. Вольмар. А в сентябре 1918 г. в Москве по протекции видного деятеля большевистской партии П.И.Стучки Ванаг, в ту пору секретарь издательства наркомата юстиции РСФСР, становится членом РКП(б). "В конце 1918 г., - свидетельствует в автобиографии историк, - командируюсь в Советскую Латвию, где назначаюсь членом коллегии наркомата ревизии и контроля. Но фактически работаю в качестве продармейца в прифронтовой полосе. С падением Риги остаюсь на территории Советской Латвии в качестве члена ревкома и уездного комитета партии в прифронтовом Люцинском уезде. В 1919 г. осенью командируюсь на краткосрочные курсы в Москву (будущая Свердловка), которые не кончаю вследствие контузии, полученной при взрыве Московского комитете в Леонтьевском переулке, где наряду с некоторыми другими "свердловцами" присутствовал как один из организаторов-пропагандистов".
"После зачисления в лекторскую группу Свердловки, - продолжает Ванаг, - командируюсь, однако, в Азово-Черноморье, в Краснодар (Екатеринодар) на партийную работу". По завершении гражданской войны еще более года Ванаг остается на текущей партийной работе в качестве заведующего агитпропотделом Краснодарского окружкоме РКП(б), затем секретаря одного из городских райкомов партии. Рядовым бойцом-добровольцем участвует он в подавлении Кронштадтского восстания.
Вновь в учебную аудиторию Ванаг возвратился в середине 1921 г. Начался важный период его жизни - учеба на лекторских курсах при Комуниверситете им. Я.М.Свердлова, а с 1922 г. - на историческом отделении ИКП. Как и все слушатели ИКП, одновременно с учебными занятиями Ванаг ведет преподавательскую деятельность, сначала в Комуниверситете трудящихся Востока и "Свердловке", затем в Институте им. К.Либкнехта и Комуниверситете национальных меньшинств Запада. Вместе с С.Г.Том-синским Ванаг готовит для вузов учебную хрестоматию по экономическому развитию России во второй половине XIX - начале XX в. Её замысел - при помощи выдержек из различных исследований и статистических сборников дать студенту основные сведения о развитии российского капитализма. Разработку разделов, посвященных промышленности, берет на себя Ванаг, о сельском хозяйстве - Томсинский. Вышедшая впервые в 1925 г. хрестоматия выдерживает еще три издания3. "Справедливость требует сказать, что из имеющихся хрестоматий это одна из самых лучших ... . Авторы любовно собрали огромный материал (особенно в сводных статистических таблицах) и преподнесли его довольно удачно", - напишет по поводу 3-го переработанного издания хрестоматии её рецензент А.Л.Сидоров4.
Под влиянием Покровского, в семинаре которого Ванаг занимался, формируются его научные интересы, связанные с изучением российского капитализма и предысторией Октября. Начинающий исследователь смело вторгается в малоизученную область, плохо знакомую самому научному руководителю. В только закончившейся на страницах "Правды" дискуссии Покровского с Троцким проблема социально-экономических предпосылок Октября была рассмотрена лишь в общетеоретическом плане, причем "спор завершился не понятийным, а образным определением материальной зрелости России накануне Октябрьской революции. Если Покровский считал, что наша страна подошла к революции как, пусть маломощный, но идущий собственным ходом пароход, то Троцкий скептически заметил, что скорее было нечто среднее между пароходом и баржой, идущей на европейском буксире"5. Поэтому результаты конкретного исследования проблемы представляли для Покровского чрезвычайную ценность, и он настойчиво поощрял своего ученика.
С начала 1923 г. молодой слушатель ИКП много времени посвящает подготовке семинарского доклада, из которого выросла работа "Финансовый капитал в России накануне мировой войны. Опыт историко-экономического исследования системы финансового капитала в России"6.
Обращение к вопросу о финансовом капитале не было случайным. Для Ванага финансовый капитал - центральный элемент системы монополистического капитализма, причем элемент, который господствует в этой системе. О господстве банков над про 109 мышленностью как признаке финансового капитала писал западноевропейский экономист Р.Гильфердинг, выводы которого сохраняют, по мнению докладчика, теоретическую ценность.
Понимая сложность решаемой задачи, Ванаг мобилизует для исследования практически всю имеющуюся литературу по теме, многочисленные статистические сборники и справочники, промышленно-финансовую периодику, обращается к фонду дореволюционного Министерства финансов в Ленинградском отделении Центроархива. В результате исследователю удается довольно полно представить процесс формирования финансового капитала в России, показать механизм действия одной из важных особенностей отечественного монополистического капитализма - значительного превышения ввоза иностранных капиталов в страну над их вывозом. Не случайно позднее работа Ва-нага дважды переиздается.
На политически актуальный вопрос о материальной зрелости России накануне Октября и закономерности революции Ванаг дает ответ в соответствии с собственными политическими взглядами. Сторонник троцкистской позиции в партийных дискуссиях 1923-24 гг., он воспринимает идею Троцкого о России - "барже, идущей на европейском буксире", и обосновывает наличие в стране финансового капитала главным образом иностранного происхождения. "Начало развития русского монополистического капитализма, -пишет Ванаг, - тесно связано с международным банковым капиталом, который ... стал углублять свои связи с русской индустрией и к кануну войны фактически монополизировал почти всю систему русского промышленного капитала, по крайней мере её командные высоты. Только монополизация русской промышленности международным банковым капиталом совершалась в утонченной форме... Международный банковый капитал подчинил себе русскую промышленность через русские акционерные коммерческие банки, своей вывеской скрывавшие существо происходившего"7. Для Ванага нет ничего предосудительного в том, что российский империализм создавался на деньги европейских банкиров, главное, что он вообще создавался и формировал национальный пролетариат - будущего строителя социализма.
Положительный ответ на политический вопрос о зрелости России для социализма - таким оказался вывод первой работы Ванага. Развернув аргументацию в пользу теории "денационализации" русского капитализма, эта работа заняла видное место в ряду аналогичных по тематике исследований, а её автор во вспыхнувших вскоре спорах о "национализации" и "денационализации" по праву стал считаться главой научного направления, хотя ему тогда едва минуло двадцать пять.