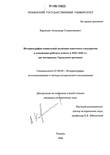Содержание к диссертации
Введение
Раздел первый. Превращение гуманитарного знания в науку в развивающемся историко-культурном контексте (на примере этнографии) (XIX - начало XX вв.) 24-89
Раздел второй. Становление, этнографии, антропологии, археологии, географии как учебных дисциплин. Деятельность Д.Н.Анучина (вторая половина XIX - начало XX вв.) 90-143
Раздел третий. Формирование и утверждение нового типа гуманитарных наук. Эволюция отношений власти и науки (на примере этнографии) (1920-е-начало 1930-х гг.) 144-231
Раздел четвертый. Основные тенденции развития советских гуманитарных наук. Эволюция отношений власти и науки в меняющемся социально- политическом контексте (на примере этнографии) (конец 1930-х - конец 1980-х гг.) 232-308
Раздел пятый. Кризисная трансформация гуманитарного знания в постсоветскую эпоху. Формирование нового типа отношений власти и науки, науки и общества (1990-е гг. - начало XXI в.) 309-339
Заключение 340-350
Источники и литература
- Превращение гуманитарного знания в науку в развивающемся историко-культурном контексте (на примере этнографии) (XIX - начало XX вв.)
- Становление, этнографии, антропологии, археологии, географии как учебных дисциплин. Деятельность Д.Н.Анучина (вторая половина XIX - начало XX вв.)
- Формирование и утверждение нового типа гуманитарных наук. Эволюция отношений власти и науки (на примере этнографии) (1920-е-начало 1930-х гг.)
- Основные тенденции развития советских гуманитарных наук. Эволюция отношений власти и науки в меняющемся социально- политическом контексте (на примере этнографии) (конец 1930-х - конец 1980-х гг.)
Введение к работе
Общеизвестно, что свидетельством уровня зрелости научной дисциплины служит появление работ по истории данной науки, осмысливающих пройденных ею путь. В каком-то смысле их можно сравнить с саморефлексией человека, осмысливающего самого себя. Особенно высока важность подобного самоосознания и самопонимания для гуманитарных наук, которые в несравненно большей степени, чем естественные и технические, впитывают и отражают происходящие -. в ч % обществе изменения.
В этом отношении, скажем, анализ развития исторической науки способен дать для понимания прошлого ничуть не меньше анализа любой из собственно исторических проблем. Молено привести хрестоматийный пример: восстановление исторического образования и подготовка учебников по истории в Советском Союзе середины 1930-х гг. свидетельствовали о (Ят) фундаментальных изменениях коммунистической идеологии и советской политики, возможно, более ярко и содержательно, чем постановления партийных пленумов.
Существует и специальная наука, занимающаяся изучением истории научных дисциплин - историография (за пределами социогуманитарного знания она называется науковедением). Правда, чаще всего ее понимают в суженном виде - как библиографию или обзор литературы по той или иной исследовательской теме, в то время как история собственно науки остается уделом сравнительно немногочисленных работ. Более того, даже самые качественные из них объединяет презумпция рассмотрения исследуемой науки изнутри самой этой науки: образно говоря, наблюдательная позиция находится внутри изучаемого предмета, а не вынесена вовне. Таким образом, в фокусе историографии находятся внутренние процессы изучаемой науки: филиация идей, смена парадигм и концепций, исследовательская проблематика, состояние институциональной структуры и научных кадров, а # формально внешние по отношению к науке факторы - политика, общественные влияния и др. - носят фоновый характер и чаще всего упоминаются вскользь, нередко - в виде своеобразного «довеска» к основной линии. Однако при кажущейся самоочевидности подобной исследовательской ориентации она не лишена кардинального методологического изъяна.
С точки зрения теории познания, нельзя адекватно описать предмет, процесс или явление, находясь внутри их; для адекватного описания и концептуализации феномена надо выйти за его пределы, занять фр наблюдательную позицию вовне, проанализировать связи и отношения w феномена с другими феноменами, поскольку он обнаруживает себя в качестве феномена лишь через взаимодействие с другими феноменами. Иными словами, теоретически осмыслить науку как социокультурный и интеллектуальный институт (или отдельные его стороны и аспекты) возможно лишь, выйдя за рамки этого института и взглянув на него не с точки зрения внутренних процессов и тенденций, а на предмет выяснения его места и роли в более широком контексте. Если наука вообще и всякая сложившаяся научная дисциплина, в частности, может быть рассмотрена как целостная и завершенная система, то для понимания функций этой системы (и ее отдельных элементов) надо определить ее место в социальной метасистеме, выявить и описать связи устанавливаемые между различными подсистемами и их элементами. Скажем, между наукой и идеологией, наукой и политикой и т.д.
Такой исследовательский ракурс - взгляд на науку не изнутри, а извне - предполагает выход за рамки историографического подхода и принадлежит исторической науке не меньше, чем собственно историографии.
Принципиальную важность здесь приобретает выбор наблюдательной позиции - той внешней по отношению к науке точке, с которой она рассматривается. Перечень наблюдательных пунктов потенциально бесконечен и зависит от цели и стратегии исследования: предполагается ли . # к изучить место и роль гуманитарного знания в политической социализации общества, или в легитимации государственной политики, или в ее идеологическом обеспечении, или в обосновании внешнеполитической линии государства? Хотя объект исследования здесь общий - условно, гуманитарное знание, - в каждом из этих случаев рассматриваются его отдельные стороны и аспекты в непременной взаимосвязи с вненаучными факторами, составляя в совокупности специфические предметы исследования. Ну а если целью исследования является наука в целом, наука как подсистема социальной метасистемы, то через какую связь, через какое отношение ее можно понять? Ответ очевиден: через отношение с властью, государством. Это - доминантное отношение феномена науки с «внешним» по отношению к ней миром, связь, предопределяющая институциональную специфику науки. Хотя во всем мире XX век прошел под знаком привилегированной роли государства в отношении производства и распространения научных знаний, советское государство было абсолютным (щ$ монополистом в этой области. Его усилиями в стране был создан полноценный институт современной первоклассной науки. В то время как ее относительная слабость и неразвитость в досоветскую эпоху была вызвана дефицитом государственного внимания, лишь отчасти компенсировавшегося общественным интересом.
\Ш В социогуманитарном знании конституирующая роль советского государства в отношении науки проявилась не только в материально-ресурсном обеспечении, определении институциональной структуры и социопрофессиональной рамки, подготовке кадров и формулировании исследовательских приоритетов, но также в проекциях на методологию, теорию и тематику исследований. Именно в гуманитарных дисциплинах демиургическая роль коммунистической власти проявилась наиболее ярко и гипертрофированно, что было вызвано тем, что претензия на научность и рациональность коммунистической идеологии открывала возможность вмешательства вооруженных этой идеологией инстанций в интеллектуальное содержание научной жизни.
Кардинальное изменение отношений между государством и наукой вследствие падения советского государства привело к глубокому кризису прежней модели науки в целом и организации гуманитарных дисциплин, в частности. Настойчиво подчеркну: в предлагаемой интерпретации первопричину переживаемого современной отечественной наукой кризиса составило не столько накопление внутренних трудностей, недостатков и дефектов, сколько изменение характера ее связи с внешним фактором -государством.
Цель данного исследования состоит в реконструкции общей логики взаимоотношений государства и комплекса гуманитарных дисциплин, выявлении, концептуализации и сравнительном анализе основных исторически складывавшихся моделей этих отношений, причем эти интеллектуальные операции осуществлены преимущественно (хотя не flflr исключительно) на материалах этнографической науки.
В пользу выбора именно этнографии в качестве главного исследовательского полигона послужили отнюдь не только многолетние и небезуспешные штудии автора диссертации в данной области, хотя это соображение имело немалую цену.
Ф Преимущественно теоретический и синтетический, а не описательный и аналитический характер представленной работы предполагал верификацию и конкретно-историческое развертывание авторской концепции или, другими словами, осуществление операции схождения от абстрактного к конкретному. Этнография представлялась наиболее подходящей, «технически» удобной наукой для целей подобной верификации.
Во-первых, этнография - важный «стыковочный» узел многих гуманитарных наук. В изучении прошлого она тесно взаимодействует с лингвистикой, фольклористикой, славистикой, физической антропологией и др., не говоря уже о различных разделах исторической науки. В то же время этнография сфокусирована на современности ничуть не меньше, чем на истории, сотрудничая в исследовании современности с социологией, политологией, психологией и т.д. Воплощая потенциальную и актуальную возможность широкого гуманитарного синтеза, этнография тем самым значительно расширяет возможности проверки концепции исследования.
Во-вторых, в семье исторических дисциплин этнография находится на периферии и ограничена в кадровом и институциональном отношениях, т.е. ее легче охватить взглядом. В то же время связи науки с государством (которые в случае с этнографией были порою не менее интенсивны, чем, V скажем, у историографии советского общества) легче проследить на ограниченном материале.
Но при этом работа не ставила целью описание, систематизацию и анализ основных составляющих этнографической науки, а фокусировалась на отношениях данной дисциплины с государством и теоретико-методологических проекциях этой связи - доминантной для всего комплекса социогуманитарного знания. В этом смысле диссертацию нельзя назвать этнографической в том числе и потому, что, помимо данных этой науки она содержит обширные экскурсы в историю исторической науки, историю лингвистики, историю социологии и даже историю географии, укрепляя уверенность в применимости исследовательской концепции не только к спектру исторических дисциплин, но и к социогуманитарному знанию в целом.
Автор работы абстрагировался от анализа внутренних тенденций науки, не ставил целью систематизированное и исчерпывающее изложение ее фактов и сконцентрировался на научной динамике в столицах.
С учетом этих ограничений были определены конкретные задачи исследования:
на примере генезиса этнографии рассмотреть рождение системы науки из вненаучных предпосылок, определить, в какое время эта система приобрела относительно завершенный и самодостаточный характер, охарактеризовать участие и роль государства в этом процессе;
изучить процесс учебной институционализации социогуманитарного знания, включая этнографию, в стенах
Московского университета;
на примере этнографии рассмотреть генезис советской науки как особого социокультурного и интеллектуального института, вскрыв специфику этого процесса и уделив особое внимание «коренному перелому» рубежа 1920-х и 1930-х гг. в гуманитарных дисциплинах;
охарактеризовать динамику методологической и проблемно-тематической рамки советской этнографии как сложившейся «социалистической дисциплины», выявить специфику социопрофессиональной организации гуманитарных наук в СССР;
Ф исследовать последствия драматического кризиса института советской науки для этнографии и комплекса социогуманитарных дисциплин. Хронологические рамки исследования охватывают период от первой трети XIX в. вплоть до сегодняшнего дня. В этом смысле диссертация беспрецедентна по хронологическому охвату, открывая возможность сопоставления различных исторических моделей отношений государства и науки.
Методологию исследования составила совокупность общенаучных методов, среди которых центральное место составили исторический и системный. Отечественная этнология рассматривалась в ее развитии от момента генезиса до сегодняшних дней, раскрывалось качественное своеобразие основных этапов ее эволюции. В то же время автор исследования исходил из того, что наука составляет самодостаточную систему, выступающую, в свою очередь, элементом несравненно более масштабной социополитическои и социокультурной системы, которая оказывает на институт науки и его траекторию в социальном пространстве и историческом времени определяющее - прямое и опосредованное - Ж ™ воздействие.
Ретроспективный и историко-культурный анализ - вариации общеисторического метода - были важны для раскрытия такой качественной специфики русской культурной и интеллектуальной истории, как ее тематизированность государством.
Историко-сравнительный метод явно или имплицитно использовался по двум направлениям: для сравнения трех основных исторических фаз отечественного социогуманитарного знания - дореволюционной, коммунистической, посткоммунистической; для сопоставления института отечественной этнографии с этнографической наукой других государств.
Внимание к персоналиям позволило оценить вклад (порою уникальный) в развитие науки, внесенный личностью того или иного Pi ученого.
Структурно-функциональный метод сыграл важную роль в определении места и роли специализированных научных институций в различные исторические периоды.
В целом пафос исследования состоял в том, чтобы от анализа ,ф отдельных этапов и феноменов перейти к синтетической картине, к обобщающему взгляду, осуществить концептуализацию отечественного социогуманитарного знания как интеллектуального и социокультурного института, верифицировав эту концепцию на материалах этнографической науки.
Здесь же имеет смысл внести важное для последующего изложения терминологическое уточнение: термины «этнография» и «этнология» используются в работе как тождественные и взаимозаменяемые, как это и принято в современной отечественной науке. Долгое время дискутировавшаяся в России перспектива дифференциации теоретической и A компаративистской этнологии от эмпирической и описательной этнографии оказалась теоретически бесплодной, не говоря уже об опасности разрыва двух неразрывно связанных уровней одной дисциплины. И если в анализе науки советской эпохи превалирует термин «этнография», то это связано с тем, что именно такое самоназвание было поначалу навязано, а затем и принято наукой того времени.
Историографический обзор наглядно демонстрирует слабую изученность проблемы «государство и наука», которая в случае с отечественной этнографией носит пунктирный характер. Да и в целом [Щ работы по истории этнографии сравнительно немногочисленны и чаще всего фрагментарны, причем ранние ее периоды исследованы относительно лучше поздних, хотя в них все равно остаются зияющие лакуны.
Впервые вопрос о влиянии государства на формирование отечественного гуманитарного дискурса был поставлен в четырехтомнике А.Н.Пыпина «История русской этнографии», вышедшем в конце XIX в.1 Щ! Автор не ограничил себя анализом развития русской этнографии в # т/ современном понимании предмета этой науки, а пытался осмыслить бытование и динамику в русском образованном обществе идеи «народности». То есть для Пыпина собственно этнография оказалась лишь частью общественно-политического и профессионального дискурса о «народности». Его труд дает хорошее представление об интеллектуальном, идеологическом и культурном контекстах развития русского гуманитарного дискурса и оплодотворявших его общественных идеях. В настоящее время работа Пыпина представляет не только историографический интерес, но и немалую источниковедческую ценность.
Эта характеристика применима и к немногочисленному корпусу работ начала XX в., вскользь затрагивавших отношения науки и власти .
Незначительность интереса к этой проблеме в дореволюционной историографии служит индикатором того незначительного внимания, которое государство уделяло науке.
В то время как по историографии 20-30-х годов прошлого века можно без труда проследить нараставшую интервенцию государства в научные дела, усиливавшееся влияние политико-идеологических коллизий на содержание и ход научных дискуссий. Корпус работ этого времени распадается на две группы. Первую составили юбилейные отчеты Академии наук и научных центров этнологического профиля3. Несмотря на традиционно присущую работам такого сорта подачу материала в триумфалистском ключе, по ним можно составить представление о кардинальном изменении государственной стратегии в отношении социогуманитарного знания. Эти изменения, направленные на стимулирование и актуализацию научных исследований, дали мощный и в целом позитивный импульс отечественным социогуманитарным дисциплинам.
\Щ Вторая группа включает материалы, характеризующие влияние «великого перелома» рубежа 1920-х и 1930-х гг. на науку. Это -«установочные» и «проработочные» статьи, грубо внедрявшие в научные исследования методологию марксизма4.
Эта линия продолжалась вплоть до середины 50-х годов, найдя свое отражение в соответствующей - количественно незначительной и v содержательно бедной - литературе .
Происходившее со второй половины 1950-х гг. постепенное изменение общественно-политической и научной атмосферы открыло возможность более объективного взгляда на развитие отечественной науки, хотя тема ее отношений с советским государством оставалась во многом табуированной и подавалась в ритуальном и догматизированном ключе. Вряд ли случайно С.А.Токарев в своем фундаментальном труде довел историю русской этнографии лишь до начала XX в. Хронологическое продолжение исследования выглядело потенциально опасным делом, а объективное рассмотрение проблемы отношений коммунистической власти и науки исключалось в любом случае.
Поэтому не удивительно, что в период 60-х - первой половины 80-Х годов XX в. эта исследовательская линия была фактически исключена из научного анализа, а работы по истории науки посвящались преимущественно отдельным ее институтам и персоналиям
Только с конца 1980-х гг. - по мере размывания политико-идеологических ограничений и раскрытия архивов - ученые смогли вплотную обратиться к исследованию острой и болезненной проблемы отношений власти и науки. При этом весьма показательно, что применительно к досоветской истории эта проблема по-прежнему находилась на исследовательской периферии, что отражало низкую интенсивность связей государства и социогуманитарного знания в XIX - v начале XX вв.
В контексте историографии советского времени учеными было уделено немалое внимание раскрытию такой специфической формы влияния государства на науку, как репрессии в научном сообществе8. В новом свете были рассмотрены некоторые научные институции9.
В целом тема «политика и наука» наиболее обстоятельно рассматривалась применительно к 1920-1930-м гг. Это работа американского Щ ученого (выходца из СССР) о «коренном переломе» в советской этнографии и ее жизни post mortem10, анализ связи динамики этногенетических исследований в СССР с политикой11, принадлежащий перу автора диссертации цикл исследований генезиса советской науки12. Также заслуживает отдельного упоминания работа В.М.Алпатова о влиянии марризма на гуманитарные науки
Содержательная монография Г.Е.Маркова о немецкой этнологии, кардинально повлиявшей на русскую науку, проливает свет на теоретико-методологическую сторону последней и открывает возможность интересных исторических сравнений, особенно в части, касающейся гуманитарной науки - в т.н. «тоталитарных» обществах . В этот - сравнительно-исторический - ряд можно поставить статью западного автора о влиянии советской этнографии на формирование «социалистических» гуманитарных дисциплин в Китае 1950-х гг.15.
В то же время первые два десятка послевоенных лет советской истории представляют историографическую лакуну в плане специального изучения взаимосвязи власти и науки.
Немногим лучше обстоит дело и с анализом этой проблемы по материалам 70-80-х годов прошлого столетия: лишь в начале XXI в. (!) появилось несколько серьезных статей на сей счет16.
Драматический кризис советской модели науки в 1990-е гг. уже стал предметом изучения , однако единственная (и небесспорная) попытка определить его причины, оценить смысл и значение применительно к этнографии была предпринята автором этой работы в рамках общего очерка отечественной этнологии XX в. - очерка, ставшего первого опытом подобного рода18.
За рамками историографии проблемы «власть и наука» стоит отметить несколько работ, оказавшихся очень важными для моего исследования. Это капитальная работа о динамике русского национального дискурса (причем, что очень важно, не только элитарного, но и массового) от Петра I до наших дней19; монография С.В.Соколовского, плодотворно использовавшего теорию колониального дискурса для анализа русского восприятия «других» народов империи (в одном концептуальном русле с ней находится написанная на ином материале обширная статья С.Беккера ); замечательный своим глубоким анализом качественных изменений отечественного обществознания 70-80-х годов XX в. очерк А.И.Фурсова ; книга Ж.-Ф.Лиотара - одно из наиболее проницательных (и спорных) исследований философии научного знания .
Хотя представленный обзор не носит исчерпывающего характера, он достаточен, чтобы составить представление об имеющейся историографии проблемы «государство и социогуманитарное знание» на материалах этнографии. Основу историографического корпуса составляют работы о персоналиях и отдельных институциях (с явным преобладанием юбилейных публикаций), также он включает несколько статей о взаимосвязи науки и политики (исключительно по материалам 1920-1930-х гг.). Другими словами, эта историография фрагментарна, в ней отсутствует попытка целостного взгляда на формирование и развитие института отечественного Щ обществознания через призму его отношений с государством, властью.
Специфика источниковой базы состоит в том, что важное место в ней занимает научная литература, выступающая в непривычной для себя роли историографического источника. Это значит, что она рассматривается не только в аналитическом качестве, но и как носитель информации о научной Ш динамике и взаимосвязи науки и политики. Поэтому ряд работ включен одновременно в историографический и источниковедческий обзоры.
Ценной разновидностью таких источников оказался корпус работ о предмете и задачах этнологии, ее методологических проблемах и категориальном аппарате. Наиболее высокой интенсивностью научного обсуждения этой проблематики характеризовались первое тридцатилетие XX в. и последние пятнадцать лет ушедшего века, когда влияние политико-идеологических факторов на теоретический дискурс было минимальным, а отечественная этнология переживала драматический кризис. Причем сравнительный анализ содержания этнологических дискуссий начала и конца ушедшего века обнаруживает удивительные параллели, сходства и сближения .
Хотя определение «научное обсуждение» неприменимо к диспутам рубежа 20-х и 30-х годов прошлого века, по их материалам хорошо прослеживается нарастающая интервенция в науку политико-идеологических коллизий и борьба за власть в науке, апофеозом чего стали «установочные» статьи марксистских лидеров этнографии первой половины 30-х годов, призывавшие раскассировать саму эту дисциплину25.
В первой половине 50-х годов существование этнографии уже не ставилось под сомнение, а среди относящихся к тому времени источников наибольший интерес представляли материалы, помогавшие реконструировать механизмы влияния коммунистической власти на формирование теоретико-методологической рамки науки .
Следующую группу источников, легших в основание диссертации, составила мемуаристика - воспоминания этнологов и других ученых гуманитарного профиля. Нередко воспоминания включают выраженный аналитический компонент, вплотную примыкая к историографии. Корпус этих источников, сформировавшийся в советское время, вскрывает подоплеку ряда тенденций и проливает свет на закулисную сторону многих событий отечественной науки27.
Однако более ценными для понимания происходившего в комплексе гуманитарных дисциплин оказались «непричесанные» воспоминания и зарисовки с натуры, которыми с автором охотно делились сослуживцы по кафедре этнологии МГУ и многочисленные коллеги-историки. Это была своеобразная «работа в поле», результаты которой интегрированы в исследование, хотя, по этическим соображениям, без ссылок на конкретных информаторов. Вообще субъективизм и пристрастность воспоминаний, особенно неопубликованных, не только помогли уловить неповторимый аромат ушедшей эпохи и проникнуть в ее скрытые течения, но и удачно сбалансировали некоторую сухость и даже безжизненность подцензурных историографических источников.
Кроме того, «устная история» и мемуаристика компенсировали некоторый дефицит архивных материалов, по иронии обстоятельств характерный для поздних этапов истории университетской этнологии.
Группу важных источников составили архивные материалы, извлеченные из московского отделения Архива РАН, Центрального муниципального архива г. Москвы (ЦМАМ) и Центрального исторического архива г. Москвы (ЦИАМ); часть из них впервые была введена в научный оборот.
В ЦИАМ наибольший интерес представлял Ф.418 (Московский императорский университет; описи 34, 54-72, 75, 82-95, 244, 461, 476, 487, охватывающие в общей сложности период с 1865 г. по 1918 г.), по которому удалось составить представление об институционализации этнографии и смежных с ней дисциплин в стенах Московского университета. Кроме того, в этом же архиве использовались Ф.213 (Лазаревский институт восточных языков, 1814-1918 гг.) и Ф.363 (Московские высшие женские курсы, 1900-1918 гг.) - учебных учреждений, где было поставлено преподавание этнографии - отдельно взятой или в комплексе с другими дисциплинами.
Хронологическим и тематическим продолжением этих архивных материалов послужили активно использовавшиеся Ф.1609 (I МГУ; опись 1 -1917-1931 гг.) и Ф.1906 (Лазаревский институт восточных языков) ЦМАМ. Документы Ф.1609 позволили осуществить реконструкцию учебного процесса на этнографическом отделении этнологического факультета I МГУ - одного из крупнейших центров подготовки профессиональных этнологов.
Это материалы ректората, совета и центрального аппарата университета; годовые отчеты университета и факультетов; протоколы заседаний деканата и учебного совета этнологического факультета за 1925-1931 гг.; протоколы заседаний совета и предметной комиссии этнографического отделения этнофака за те же годы.
Датируемые сентябрем 1918 г. - октябрем 1921 г. материалы Ф.1906 содержат информацию по истории создания и деятельности этнологическо-историко-филологического факультета Лазаревского переднеазиатского института. С их помощью удалось составить довольно полное представление о содержании учебного процесса и характере учебной подготовки на факультете.
В Архиве РАН в первую очередь стоит отметить Ф.337 (секция социологии Общества историков-марксистов (ОИМ)), материалы которого отличаются некоторой фрагментарностью, что вызвано характером источников. В этом фонде хранятся протоколы заседаний секции социологии (с 1930 г. - секция докапиталистических формаций) ОИМ, в работе которой активно участвовали не только московские этнологи, но также их ленинградские коллеги и студенты I МГУ; материалы дискуссий по теоретическим проблемам этнологической науки; стенограмма диспута «Марксизм и этнография», состоявшегося 4 июня 1930 г.; информация о работе марксистского этнографического кружка 1 МГУ.
В целом совокупность всех видов источников - как опубликованных, так архивных и устных - составляет репрезентативную и солидную источниковую базу, позволяющую поставить и решить сформулированные исследовательские задачи. На защиту выносятся следующие основные положения:
Формирование отечественной этнографии в качестве системы науки (да и то в незавершенном виде) относится к последнему двадцатилетию XIX в., а не к его середине, как принято считать в историографии. Ее оформление стало результирующим вектором констелляции ряда контекстуальных, внешних по отношению к науке тенденций, метафорически определенных как дух экспансии, дух национализма и дух познания.
Как свидетельствует история этнографии, рождение советской науки представляло амбивалентный процесс, где филиация идей, концепций и теоретических оснований, кадровая и культурная преемственность сочетались с выдвижением новых научных приоритетов, формированием качественно новой институциональной структуры и системы подготовки профессиональных кадров, формированием и распространением нового научного этоса. На рубеже 20-30-х годов XX в. эта двойственность была сломана: произошел коренной разрыв с прежней, досоветской моделью науки и возникла собственно советская наука - беспрецедентный интеллектуальный и социокультурный институт эпохи Модерна, легитимирующий дискурс в отношении которого единолично держало коммунистическое государство. Применительно к этнографии этот кардинальный разрыв с прошлым бытием произошел фактически в форме «инициатической» смерти.
Историческая динамика советского обществознания (и этнографии как части исторического знания) не влияла на его доминантное отношение - критическую зависимость от власти, наиболее заметными негативными выражениями чего служили решающая роль политико-идеологических инстанций в выработке общей теоретико-методологической рамки науки, некоторые тематические ограничения, минимизация экспертной роли гуманитарных наук. Позитивные моменты государственного патернализма включали масштабную . # поддержку науки, профессионального образования и (в случае с этнографией) экспедиционной деятельности. Причем позитивные и негативные аспекты составляли в институте советской науки нераздельное единство.
Хотя кризисные явления в советском обществознании восходили, в конечном счете, к политике государственного патернализма, их непосредственной причиной парадоксально оказались не столько ее негативные, сколько позитивные аспекты, поощрявшие вялость и паразитизм в советских гуманитарных дисциплинах, негативно сказывавшиеся на моральном, социальном и интеллектуальном качестве профессиональной корпорации. Все более заметно внутринаучная динамика определялась борьбой клановых группировок за власть в науке, что было проекцией в науку общей социальной динамики в СССР.
Тем не менее в ее зрелом состоянии советская этнография была способна выдержать самое требовательное сопоставление с западными науками этнологического профиля: уступая по одним параметрам, она превосходила их по другим. Магистральная методологическая парадигма советской А» этнографии - концепция этноса, несмотря на слабую инструментальность, имела бесспорные достоинства большой теории: обеспечивала онтологическое единство мира и служила рамкой теориям среднего ранга. Общий баланс достижений и потерь посткоммунистической науки складывается (пока) скорее в пользу последних. Тип и характер института «новой» науки в конечном счете зависит от источников ее легитимации, которые еще формируются, но в любом случае они не могут быть столь «щедрыми», как советское государство.
Научная новизна и теоретическая значимость диссертации состоит в том, что это первая в историографии попытка концептуализации через этиологию отечественного социогуманитарного знания как целостного социокультурного и интеллектуального института. В результате предложен радикально новый взгляд на генезис и развитие российской этнографической науки, который в своих основных выводах и наблюдениях (хотя и с некоторыми оговорками) применим к комплексу отечественных гуманитарных дисциплин.
В носящей последовательно теоретический характер работе намечены Щ/ нетривиальные подходы к ряду ключевых методологических проблем современной отечественной этнологии. Также она включает определенную прогностическую возможность в отношении перспектив развития социогуманитарного (и вообще научного) знания в современной России. В диссертации использован и обобщен широкий круг источников, которые в таком качестве, такой группировке и с такими целями никогда Щ ранее не использовались. Практическая значимость исследования заключается в том, что оно предлагает ценный материал, могущий быть интегрировгт гым в курсы отечественной истории, общие науковедческие курсы, а также составить основу работ и учебных курсов по истории гуманитарных дисциплин, в ш первую очередь этнографии.
По своей структуре работа состоит из пяти разделов, которые не предполагают систематизированного изложения, но связаны # хронологической последовательностью и объединены несколькими главенствующими идеями: в первом разделе (две главы) рассматривается рождение системы науки из вненаучных предпосылок и роль государства в этом процессе; второй посвящен учебной институционализации ряда дисциплин в стенах Московского университета; третий (две главы) анализирует генезис советской науки как специфического социокультурного и интеллектуального института; в четвертом (три главы) дан обзор теоретико-методологической и тематической рамки, а также социопрофессионального качества советских гуманитарных наук в их апогее; заключительный, пятый раздел (две главы) рассматривает последствия кризиса института советской науки для социогуманитарного знания.
Превращение гуманитарного знания в науку в развивающемся историко-культурном контексте (на примере этнографии) (XIX - начало XX вв.)
Из социологической абстракции - взгляда на науку как систему, следует конкретный важный вывод, относящийся к генезису отечественной этнографии. С легкой руки С.А.Токарева принято считать, что этнография в России окончательно выделилась в самостоятельную науку в 40-е годы XIX в. Так маститый ученый утверждал в своем капитальном, беспрецедентном по охвату и систематизации историографического материала труде «История русской этнографии» . Парадоксальным образом содержание книги Токарева ставит под сомнение вывод, который служит несущей опорой его историографической концепции. Произошедшее в Новое время превращение науки в социокультурный и интеллектуальный институт - систему производства знания - предполагало наличие, во-первых, организации производства этого знания, во-вторых, обеспечение воспроизводства самого этого института. Проще говоря, современная (в смысле восходящая к Модерну) наука не может существовать без институциональной структуры и без постоянной подготовки профессиональных кадров - это ее sine qua поп. Но в российской этнографии, как следует из монографии Токарева, вплоть до последнего двадцатилетия XIX в. невозможно обнаружить ни одно из этих непременных условий.
В то время как, скажем, в Германии, служившей устойчивым и, пожалуй, наиболее влиятельным научным и интеллектуальным образцом для русской общественности XVIIT-XIX вв., уже в первой половине XIX в. не только присутствовали все основные элементы этнологии как науки (институциональная структура, профессиональное образование, государственная поддержка, общие философско-культурные основания), но они еще и носили весьма развитой для того времени характер. При всем этом блестящий знаток немецкой этнологии Г.Е.Марков осторожно отмечал, что «окончательное утверждение этнологии (германской. - Т.С.) в качестве самостоятельной науки пришлось на начало второй половины XIX века», увязывая обособление этнологии, ее окончательную дифференциацию с формированием первой профессиональной теоретической парадигмы, получившей в Германии наименование «теории развития», а в остальном мире более известной как эволюционизм29.
Сам термин «этнография» вошел в отечественный общественный дискурс с 20-х годов позапрошлого века, в то время как в Германии термин «этнология» получил право гражданства сорока годами раньше30. Дело, конечно, не в терминологическом приоритете. Появление нового термина свидетельствует об оформлении понятия и тем самым служит важным конституирующим моментом в выделении новой предметной области, определении дисциплинарных границ новой науки. Ведь слово не только отражает, но и творит социальную реальность: как демонстрирует теория дискурса, люди используют язык для конструирования различных версий социального мира. В этом смысле можно сказать, что организация нового знания в дисциплинарных границах началась в Германии существенно раньше, чем в России и шла гораздо интенсивнее и успешнее. (Второе не обязательно следует из первого.)
Распространенные в советской историографической традиции поиски «истоков этнографии», «этнографических материалов и знаний» (чему обильную дань отдал Токарев) во времена, предшествующие оформлению этой дисциплины и даже появлению самого термина «этнография/этнология», выглядят недвусмысленной колонизацией прошлого . Вопреки прокламировавшемуся советской историографией принципу историзма, людям предшествующих эпох приписывалась несвойственная и нехарактерная им концептуализация.
Хотя реальность, изучением которой занимается этнография - назовем ее обобщенно «народы», - безусловно, существовала до появления самой дисциплины, она описывалась, структурировалась и виделась совершенно иначе и поэтому воспринималась как другая реальность. Пользуясь современным языком, это различие можно охарактеризовать как различие между проблемной и дисциплинарной, предметной организацией знания. В «донаучную» эпоху знания о народах были элементом синкретичных описаний. Описаний чего? Это уже зависело от имплицитной или эксплицитной цели наблюдения и, соответственно, выделения объекта наблюдения, а также от угла зрения и позиции наблюдателя. \Ч7
В рациональном XVIII в. знание о народах в России чаще всего оказывалось неотъемлемой частью триединого описания пространства: природы, территории и населения. Это тримодальное знание не было дифференцировано, поскольку его организация носила проблемный характер, будучи нацеленной на познание, описание и освоение российского пространства как целостности, причем целостности, воспринимаемой рационально, а не метафизической. В этой интеллектуальной перспективе описывавшиеся народы воспринимались скорее как атрибут пространства, элемент природного ландшафта, то есть их исследование было частью изучения и освоения пространства, а не самостоятельной научной задачей. (Вероятно, такой подход отчасти был навеян влиятельными в ту эпоху взглядами Монтескье, рассматривавшего народный дух как эпифеномен природно-климатических условий.) Поэтому неудивительно первоначальное отнесение этнографии к географии (или их рядоположение) - науке о пространстве - точка зрения, сохранявшая в России силу по крайней мере до Ц начала XX в.
Становление, этнографии, антропологии, археологии, географии как учебных дисциплин. Деятельность Д.Н.Анучина (вторая половина XIX - начало XX вв.)
В переломные моменты развития науки в ней нередко появляются личности, воплощающие пафос перемен и открывающие новые исследовательские горизонты. Особенно важной оказывается их роль в ситуации институционализации науки, формирования ее предметных и теоретических оснований, то есть учреждения науки в ее современном виде. Обращаясь к истории, замечаешь, что у истоков мощных институтов и организаций, влиятельных парадигм и теоретических направлений нередко оказываются талантливые и самоотверженные одиночки, по открытому которыми пути затем начинает двигаться наука.
Эта науковедческая закономерность в полной мере применима к этнографии. Титул «отца-основателя» британской социальной антропологии в историографии закрепился за Э.Тайлором, основоположником американской культурной антропологии считается Л.Г.Морган, появление во Франции этнологии как отдельной дисциплины связано с именем М.Мосса, «отцом немецкой этнологии» называют А.Бастиана. Для всех этих ученых, как правило, было характерно сочетание значительных теоретических достижений и прорывов с организаторской деятельностью, с созданием научных школ и направлений.
Можно ли найти аналог этим незаурядным личностям в истории отечественной этнографии? Была ли в ней такая судьбоносная фигура, которая произвела переворот, превратив (полу)любительское увлечение этнографией в науку в подлинном смысле? .
Несмотря на натянутость исторических аналогий, в отечественной этнографии действительно можно обнаружить такую основополагающую личность, хотя создателем русской этнографии этого человека никогда не называли, что связано не с неблагодарностью потомков, а с некоторой односторонностью его вклада в этнографию, спецификой его научных интересов и определенной парадоксальностью научного пути. Речь идет о Дмитрии Николаевиче Анучине, который считал «царицей наук» антропологию, всю жизнь стремился к созданию в Московском университете соответствующей кафедры, а попутно (что не значит случайно!) наладил в университете относительно систематическое преподавание этнографии и географии и немало поспособствовал становлению археологии. Тем самым ему принадлежит основополагающий вклад в институционализацию четырех научных дисциплин, организационно-кадровой площадкой для которых выступил Московский университет.
Почти невозможно представить себе ученого, который столь масштабную деятельность на организаторском и преподавательском поприще умудрился бы еще и сочетать с теоретическими прорывами в каждой из тех четырех дисциплин, которыми занимался. Время титанов Возрождения прошло, да и сам Д.Н.Анучин не питал особого интереса к теоретизированию, оставаясь преимущественно человеком фактов - этого «хлеба науки». «Занимаясь и разрабатывая новые в России научные отрасли, Дмитрий Николаевич отнюдь не был в них пионером или новатором, творцом новых систем или автором открытий...»98. Эта оценка весьма скромного теоретического вклада Д.Н.Анучина в науку представляется тем более заслуживающей внимания, что, во-первых, принадлежит перу его ученика в области антропологии В.В.Бунака, во-вторых, позаимствована из мемориальной статьи, написанной к первой годовщине кончины ученого, а для этого жанра, как известно, характерно преувеличение достоинств и заслуг усопших. Будучи хорошо осведомленным в современных ему научных теориях, Анучин никогда не был крупным теоретиком в одной из тех дисциплин щ% антропологии, археологии, географии и этнографии, - которыми увлеченно и плодотворно занимался многие годы. Более того, на подобную роль он никогда и не претендовал, поскольку к любым масштабным теоретическим построениям относился скептически, предпочитая им строго фактологические исследования, где в полной мере проявлялась его феноменальная память, так поражавшая современников. По словам того же Бунака, «теоретические построения играли крайне малую роль в ... научной деятельности» Анучина, зато он «обладал исключительной способностью отчетливого восприятия единичных конкретностей, которые, благодаря его выдающейся памяти, существовали для него независимо от каких-либо теоретических систем» 9.
Формирование и утверждение нового типа гуманитарных наук. Эволюция отношений власти и науки (на примере этнографии) (1920-е-начало 1930-х гг.)
Советская этнология (как и феномен советской науки вообще) возникла в первую очередь, если не почти исключительно, вследствие государственной политики. Обратившись к семантике словосочетания «советская наука», молено без труда обнаружить, что, помимо привязки к определенной стране, подобно «французской» или «немецкой» науке, оно со всей определенностью указывает на государственный статус науки. Хотя в XX в. любое государство обладало (и все еще. обладает в XXI в.) привилегией в отношении производства и распространения знаний, советское государство было абсолютным монополистом в этой области.
Выступив в широком смысле субъектом, созидателем качественно новой социально-политической и экономической системы в пространстве бывшей Российской империи, советская власть в узком смысле сформировала особый тип науки и интеллектуально-культурной жизни как элементов этой системы.
Генезис советской этнографии хронологически совпал с генезисом коммунистической системы, происходившим приблизительно до рубежа 1920/30-х гг. Эти полтора десятка лет после победы большевистского переворота советская историография по существу точно определяла как «переходный период», то есть такой специфический этап, когда происходило рождение новой системы, но сама эта система еще не возникла, и когда( элементы и логика нового находились в сложном взаимодействии (не обязательно в конкуренции) с логикой и элементами старой системы. В рамках новой системы разрешались кардинальные и казавшиеся неразрешимыми противоречия старой, но с течением времени в победившей системе формировались собственные противоречия.
Развертывание этой общесоциологической абстракции на отечественную этнографию означает, что качественное отличие советской и досоветской этнографии как социальных институтов (в этом смысле они были разными пауками) сочеталось с филиацией идей, теорий и концепций, сохранением некоторых традиций, определенной преемственностью профессиональных кадров и исследовательской проблематики. Однако в рамках утвердившейся и заработавшей новой системы элементы включенной в нее старой приобрели иной смысл и другое функциональное предназначение. Наиболее плотное и фронтальное взаимодействие «старого» и «нового» в этнографии происходило в 1920-е гг., причем победа «нового» ознаменовалась как разрешением ряда кардинальных противоречий старой системы, относящихся к социальному статусу, институциональной структуре и материальному обеспечению этнографии, так элиминированием (не снятием, а уничтожением!) принципиальных теоретико-методологических проблем науки.
Для того чтобы понять, о каких именно противоречиях и проблемах идет речь, необходимо проанализировать состояние отечественной этнографии в первые десятилетия прошлого века.
Даже в начале XX в. формирование русской этнографии еще не было полностью завершено, ряд элементов системы науки характеризовался незрелостью, в кадровом и институциональном отношениях она напоминала недостроенное здание. Вот какую сжатую, но содержательную характеристику этнографии в России дал В.Ф.Миллер, руководитель подсекции этнографии на 12-м съезде естествоиспытателей и врачей (конец 1909 г. - начало 1910 г.): «Вполне научно подготовленных этнографов специалистов у нас еще очень мало; исследований, посвященных эволюции этнографических явлений - немного. В то время как в Америке... этнография преподается в 33 университетах... в то время как в Берлине имеются 4 кафедры этнографии, у нас самостоятельной кафедры этнографии в университетах еще не существует, хотя курсы по этой науке и предлагаются в некоторых из них»1 .
В большинстве российских университетов этнография как отдельная дисциплина вообще не преподавалась, а относительное многообразие типов этнографических институций - научные общества, самодеятельные учреждения, журналы, музеи - не могло компенсировать их организационной, кадровой и финансовой слабости. Ни один из этих центров не обладал потенциалом для проведения фундаментальных исследований и (за частичным исключением ИРГО) масштабной экспедиционной деятельности, в то же время в Академии наук отсутствовало подразделение этнографического профиля. Профессиональные журналы «Этнографическое обозрение» и «Живая старина» - жили исключительно безвозмездным трудом своих сотрудников.
Цена наблюдений немалого отряда этнографов/краеведов-любителей с научной точки зрения была весьма невысока: «Работы эти носят случайный, отрывочный характер и редко покушаются на суммирование и систематизацию наблюдения»154. В более широком плане протогражданское общество России, обеспечивая частичную легитимацию этнологии, не могло служить существенным источником ее финансово-материальной поддержки. Институциональное состояние науки решающим образом зависело от характера ее взаимоотношений с государством. В этом смысле можно говорить о низком статусе и государственной невостребованности (за исключением отдельных военно-стратегических, (гео)политических тем и сюжетов) российской этнографии, что радикально отличало ее положение от этнографии, скажем, в Германии и Великобритании.
Основные тенденции развития советских гуманитарных наук. Эволюция отношений власти и науки в меняющемся социально- политическом контексте (на примере этнографии) (конец 1930-х - конец 1980-х гг.)
Определения «возрождение» или «реанимация» были бы сущностно ошибочной характеристикой процесса восстановления этнографической науки в конце 1930-х гг. Старая наука умерла безвозвратно, феномен, возникший на излете 30-х годов, был советской этнографией - качественно новой наукой. Хотя некоторые линии преемственности со старой этнологией - например, кадровая и проблемно-тематическая - прослеживались, теоретико-методологические и институциональные основания, структура науки, действовавшие в ней принципы и правила стали кардинально другими. Если 20-е годы происходил генезис советской этнографии (и в этом смысле ее еще не было), то с конца 30-х годов она существовала как относительно завершенная и самостоятельная система. Время в течение 30-х годов, когда этнографии как бы не было, можно сравнить с инициацией: пережив символическую смерть, наука перешла в новое качество, стала другой.
Последующая внутренняя динамика советской этнографии не затрагивала ее качественной специфики, поскольку оставались неизменными принципы системы науки. Несмотря на появление в ней новых элементов, изменение конфигурации самой системы, напряженности и интенсивности связей между ее элементами, она оставалась советской этнографией -специфическим интеллектуальным и социокультурным институтом. Более того, внутринаучная динамика в конечном счете (хотя чаще всего опосредованно) зависела от изменений в государстве, ведь именно коммунистическая власть была подлинным демиургом как института советской науки, так социополитической системы, интеллектуально-культурного континуума, элементом которой она выступала.
Другими словами, сначала изменение власти, затем - характера (но не модальности!) ее взаимоотношений с наукой, что давало импульс находившимся под спудом внутринаучным тенденциям, - такова самая общая логика перемен в советской науке. Однажды возникнув, внутренняя динамика науки приобретала самоподдерживающийся характер, а сам этот институт объективно развивался в направлении большей автономии от власти, никогда, тем не менее, не отказывавшейся от его контроля.
Вне зависимости от степени свободы науки в СССР, как институт она в решающей степени зависела от власти, от ее отношения к науке. Исходя из этого историю советской этнологии можно разделить на два хронологических периода: с конца 30-х по середину 50-х годов, когда государство использовало «террористический» (по выражению Ж. Ф.Лиотара) язык в отношении науки; и с середины 50-х до середины 80-х годов, когда отношения государства и науки приобрели нормальный (в контексте советской системы) характер.
Зловеще символичным началом советской этнографии стала расправа над теми интеллектуалами, которые на рубеже 20-х и 30-х годов громили «буржуазную» этнологию, наделяя этнографию статусом «условного» знания. В духе эпохи минимизация этнографии в первой половине 30-х годов была объявлена «вражеской вылазкой». Оценки, исходившие из научного центра - Института этнографии, формулировались железным языком судебных приговоров: «...одним из основных методов вредительства, проводившегося пробравшимися в прошлом к руководству на этнографическом фронте троцкистско-бухаринскими бандитами, была дезориентация в области теоретических установок с целью задержать и ликвидировать развитие советской этнографии как науки»1.
«Условными» оказались заслуги перед большевистской партией и даже сами жизни В.Б.Аптекаря, С.Н.Быковского, Н.М.Маторина, которые в 1937-1938 гг. были арестованы и расстреляны. В волне репрессий, прокатившейся в середине 30-х годов по всем гуманитарным дисциплинам, наиболее пострадавшей стороной, в отличие от начала 30-х, оказалась не старая профессура, а самые яростные ревнители «марксизации» науки, в первую очередь те из них, кто узурпировал право выражения партийной линии. Так, в исторической науке основной удар пришелся по «школе М.Н.Покровского».
Из числа этнографов старшего поколения наиболее тяжелой потерей 1937 г. оказался арест и последующая гибель в лагере П.Ф.Преображенского, поводом к чему, по всей видимости, послужил донос, вызванный борьбой за лидерство в этнографии. «Закрепившаяся за Преображенским репутация выдающегося теоретика и организатора, пусть даже «буржуазной» этнологии, оставляла его потенциальным конкурентам не очень много шансов занять лидерские позиции в науке, освободившиеся после «зачистки» воинствующих марксистов. Тем более опыт восстановления системы исторического образования показывал, что «буржуазная» профессура оказалась в гораздо большей цене, чем ее недавние марксистские ниспровергатели с их скудным профессиональным багажом, состоявшим преимущественно из абстрактных социологических схем.
Однако изменение баланса сил не означало изменения узкой концептуально-методологической рамки этнографии, сформулированной «вредителями» в первой половине 30-х годов. Ее постепенное расширение и корректировка к началу 50-х годов произошли под влиянием, в первую очередь, политических обстоятельств, а не вследствие внутринаучной динамики.