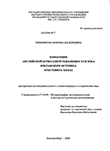Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Критика «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина и осмысление перспектив науки русской истории в 1820 — 1830-е гг 49
Глава II. Общество истории и древностей российских в 1830 - 1850-е гг.:
принципы организации историографического пространства 75
1. Традиции и нововведения в организации ОИДР под председательством С.Г. Строганова (1836 - 1848 гг.) 77
2. Принципы обновления состава ОИДР в конце 1830-х - 1840-х гг 103
3. ОИДР и «история Флетчера» 127
4. ОИДР под руководством А.Д. Черткова и И.Д. Беляева 148
Глава III. Концептуальные поиски славянофилов и «новой исторической школы» конца 1840 — 1850-х гг 166
1. Программы изучения русской истории К.Д. Кавелина и Ю.Ф. Самарина в середине 1840-х гг 167
2. Последователи К.Д. Кавелина на рубеже 1840 - 1850-х гг.: обретение статуса школы 185
3. Спор СМ. Соловьева со славянофилами об «антиисторическом направлении» 1857 г 207
4. Судьба историографического наследия К.Д. Кавелина в годы «великих реформ» 224
Глава IV. Местная история и построения историков-федералистов в эпоху «великих реформ» 247
1. Изучение местных сюжетов в рамках исторических концепций 1840-1850-х гг 247
2. Местная история в федеративной концепции Н.И. Костомарова 274
3. От государственности к местной истории: молодые последователи «новой исторической школы» на рубеже 1850 - 1860-х гг 296
4. Концепция местного саморазвития в земской теории А.П. Щапова 320
Глава V. Историки в обновленном обществе 1860 - 1870-х гг. и проблема выбора модели социальной идентичности 351
1. Аполлон Григорьев об исторических школах в России в эпоху «великих реформ» 352
2. Российская историографическая традиция и исторический опыт в осмыслении историков-«федералистов» в начале 1860-х гг 368
3. Историки-«федералисты» и этнографическая экспедиция Русского географического общества 392
4. Кризис федеративных построений в науке русской истории 414
Глава VI Преемственность и новые тенденции в науке русской истории на исходе эпохи «великих реформ» 442
Заключение 473
Примечания 481
Список использованных источников и литературы 509
Список сокращений
- ОИДР и «история Флетчера»
- Спор СМ. Соловьева со славянофилами об «антиисторическом направлении» 1857 г
- От государственности к местной истории: молодые последователи «новой исторической школы» на рубеже 1850 - 1860-х гг
- Историки-«федералисты» и этнографическая экспедиция Русского географического общества
Введение к работе
Актуальность исследования. Идейное наследие, оставленное историками 1830 – 1870-х гг., вплоть до настоящего времени продолжает питать исследования, посвященные прошлому России. Авторы исторических монографий, появляющихся в наши дни, ссылаются на труды М.П. Погодина, С.М. Соловьева, А.П. Щапова и их современников, – в них уже на протяжении полутора столетий черпаются наблюдения, все еще не перечеркнутые усилиями ученых последующих эпох. Более того, многие важнейшие элементы структуры исторического знания, впервые отчетливо обозначившиеся в указанный период, настолько глубоко укоренились с тех пор в отечественной историографической традиции, что безотчетно воспроизводятся в российской исторической науке, несмотря на переживавшиеся затем ею внутренние кризисы и внешние потрясения. Это и закрепление русской истории в университетском пространстве на уровне специальных кафедр, согласно уставу 1835 г., и превращение монографии в основную форму научного исторического письма, и появление собственно исторической периодики. Даже отголоски споров славянофилов с К.Д. Кавелиным, С.М. Соловьевым и их последователями, давно отошедшие в область историографического предания, временами подспудно проявляются и за пределами исторической публицистики.
Столь непосредственное освоение историографического наследия середины XIX в. указывает на безусловную преемственность современного исторического знания по отношению к этой эпохе. По сравнению с историческими текстами XVIII – начала XIX в., за редким исключением представляющими сегодня сугубо источниковедческий и историографический интерес, плоды изучения русской истории в 1830 – 1870-е гг. востребованы гораздо шире. Между тем наличие общих научных форм и требований, вызывающее у современного исследователя ощущение непрерывности историографического процесса, подчас позволяет забыть о своеобразии историографической ситуации указанной эпохи.
Такое невольное пренебрежение к временной дистанции, отделяющей современного историка от ученого середины XIX в., в исследовательской практике неизбежно оборачивается анахронизмом, который лишает картину становления исторической науки в России временной перспективы. Другое следствие этого упущения – схематизм, подгоняющий сложное и противоречивое содержание этого процесса под незамысловатую формулу неотвратимого торжества передовых идей, не важно, понимается ли под последними марксистско-ленинское учение или позитивистский проект социальных наук. Вытекающие отсюда трудности препятствовали пониманию причин небывало интенсивных концептуальных поисков, развернувшихся в эту эпоху и завершившихся созданием нескольких соперничавших, явно или скрыто, между собой оригинальных построений, призванных дать исчерпывающую интерпретацию хода русской истории.
Отчасти невнимание к проявлениям специфики историографической ситуации середины XIX в. объясняется отсутствием труда, который вобрал бы в себя все устремления исторической мысли того времени. О том, что монументальная «История России с древнейших времен» С.М. Соловьева, при всем ее выдающемся научном значении, не смогла претендовать на создание объединяющего образа национального прошлого, писал в 1930-е гг. еще Г.П. Федотов. Другими словами, середина XIX в. лишена такой доминанты, которыми для предшествующего и последующего периода в развитии отечественной историографии стали «История государства Российского» Н.М. Карамзина и лекционный «Курс русской истории» В.О. Ключевского.
Эта особенность, как известно, не помешала ученым той поры впервые сформулировать (если не разрешить) ряд принципиальных вопросов, на многие десятилетия определивших проблемное поле отечественной исторической науки. Генезис российской государственности и место общины на разных этапах истории страны, «доваряжское» прошлое восточного славянства и положительное содержание «удельной» эпохи, причины крепостничества и истоки московской централизации – этот перечень проблем, затронутых историками середины XIX в. и впоследствии, по сути, не выходивших из исследовательского обихода, без труда может быть дополнен.
Итак, только тщательное рассмотрение принципов, с одной стороны, обусловивших концептуальное единство исследовательских поисков в области русской истории в 1830 – 1870-е гг., а с другой – обеспечивших ей плодотворное и долговременное воздействие на разработку проблематики отечественного прошлого, позволит по достоинству оценить значение этой эпохи в истории исторического знания в России. Опыт такого рассмотрения, представленный в настоящем исследовании, заставляет по-новому взглянуть на потенциал научных замыслов полуторавековой давности, что и определяет его актуальность.
Объектом настоящего исследования является историография отечественной истории в 1830 – 1870-е гг.
Концептуальные поиски в России 1830 – 1870-х гг. сделали возможным складывание исторических знаний об отечественном прошлом в единую научную традицию исследования русской истории. Процесс становления этой традиции, запечатлевшейся в реализованных и нереализованных исторических проектах той поры, составляет, таким образом, предмет данной диссертации. Исследование указанного процесса предполагает рассмотрение структуры исторического знания середины XIX в., требований, предъявляемых учеными и публикой к концептуальному оформлению исторических работ, изменений научных замыслов, обусловленных как внутренней их эволюцией, так и выбором социальных стратегий, накладывавших свою печать на ход и содержание исторических изысканий.
Хронологические рамки исследования обусловлены принципиальным единством рассматриваемого периода. Обоснованность этих рамок – 1830 – 1870-е гг. – не вызывает сомнений после исследования взаимной связи между отечественной исторической наукой и журналистикой, недавно проведенного М.П. Мохначевой. Высказанные ею аргументы можно дополнить еще и соображениями о преемственности исследовательских программ этого времени, вдохновляемых «народностью» и изысканиями в сфере «внутренней истории» и о непосредственных контактах между исследователями прошлого, оказавшимися современниками одной эпохи, центральным событием для которой стали либеральные преобразования начала 1860-х гг.
Итак, верхней границей работы являются 1830-е гг., когда в результате исторической полемики вокруг «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина преодолевались классицистические тенденции, господствовавшие до этого в отечественной историографии. Нижней границей исследованию служат 1870-е гг., когда проникновение позитивистской социологии в исследования по русской истории приводит к новому осмыслению задач и методов исторического знания, выходящему за рамки историографической традиции середины XIX в.
Цель диссертационного исследования заключается в том, чтобы путем внимательного анализа исторических текстов полуторавековой давности, а также сопутствующих им материалов – периодики, мемуаров, дневников, переписки, официальных документов – реконструировать результаты концептуальных исканий историков той поры. Для достижения этой цели необходимо решить ряд исследовательских задач:
1) выявить основные тенденции в изучении отечественного прошлого, наметившиеся в результате усвоения уроков публичного обсуждения «Истории государства Российского» в конце 1820-х – 1830-е гг.;
2) определить организационные основы и концептуальное содержание деятельности наиболее устойчивого и многочисленного института исторического знания в Российской империи времен николаевского царствования – Общества истории и древностей российских при Московском университете;
3) установить степень преемственности исторических построений славянофилов и школы К.Д. Кавелина и С.М. Соловьева в отношении к концептуальным практикам российских историков 1830 – начала 1840-х гг.;
4) проследить развитие исторических школ 1840 – начала 1860-х гг., исходя из заявленной их участниками задачи построения целостной концепции русской истории;
5) выявить связь между конструированием исследователями истории России собственной социальной идентичности в середине XIX в. с их научными замыслами.
Теоретико-методологическая основа работы сочетает в себе приемы, вполне традиционные для исследований, решающих историографические задачи, и подходы, которые в настоящее время только завоевывают себе место в исторической науке. К числу первых следует отнести историко-генетический метод, позволяющий проследить преемственность в развитии исторических концепций, и историко-сравнительный, который дает возможность соотнести содержание этих концепций с общенаучным и социальным контекстом эпохи. Особое значение в диссертации имеет метод реконструкции, с помощью которого, на основе анализа исторических текстов 1830 – 1870-х гг., восстанавливаются породившие их системы взглядов.
Среди новых подходов, разрабатываемых в современной интеллектуальной истории, в исследовании учитываются, главным образом, те, что еще в 1980-е гг. отнесены Роже Шартье к «социальной истории идей». Наиболее близкими к настоящему диссертационному исследованию по своим задачам можно назвать работы Ф. Левин («Любители и профессионалы: антикварии, историки и археологи в викторианской Англии…», 1986) и Р. Стивена Тернера («Историзм, критический метод и прусская профессура с 1740 по 1840 год», 1983). И в том, и в другом случае сюжет из истории гуманитарного знания рассматривается на фоне социальных процессов, и это приводит авторов к любопытным выводам. Ф. Левин проследила переход от любительских занятий изучением прошлого к становлению профессионального сообщества историков и археологов в Великобритании. Р. Тернер показал, каким образом прусскому ученому сословию на рубеже XVIII – XIX вв. удалось, благодаря разработке и усвоению приемов филологической критики, адаптироваться в условиях изменившихся запросов общества к гуманитарному знанию. Впрочем, наблюдения упомянутых авторов могут послужить лишь в качестве одного из импульсов для предпринимаемого нами исследования: российская университетская традиция в середине XIX в. едва ли отличалась такой же устойчивостью, как прусская, история которой к тому времени исчислялась столетиями; так же вряд ли есть основания полагать, что предпосылки для профессионализации исторической науки в России накануне и в эпоху «великих реформ» были столь же развиты, как и в современной ей Британии. Очевидно, использование этих новых подходов может оказаться плодотворным при условии внимательного учета специфики российской историографической ситуации 1830 – 1870-х гг.
Степень изученности темы. Изучение концептуальных исканий в науке русской истории середины XIX в. имеет давнюю традицию. Своеобразным прологом к ее становлению можно считать обзоры исторической литературы А.Н. Афанасьева, публиковавшиеся в «Современнике» и «Отечественных записках» в начале 1850-х гг., рецензии К.Н. Бестужева-Рюмина и А.А. Григорьева рубежа 1850 – 1860-х гг. на труды С.М. Соловьева, К.Д. Кавелина, Н.И. Костомарова и других авторов этой эпохи. Эти работы, нередко обращающиеся к наследию карамзинской эпохи, а иногда и к более ранним пластам русской исторической мысли, дают немало ценных сведений о том, какими виделись тенденции развития отечественной историографии середины XIX в. ее современникам. Однако, несмотря на множество интереснейших наблюдений, содержащихся в этих сочинениях, сами они составляют неразрывное целое со своей эпохой: следы полемики, которыми в большей или меньшей степени богато каждое из них, свидетельствуют о горячем желании их авторов не только понять, но и повлиять на ход развития исторического знания в России.
Достоянием науки вопросы, поднятые учеными 1830 – 1870-х гг., вновь могли стать, лишь освободившись от налета политической и публицистической злободневности, который заметен в исследованиях М.О. Кояловича, А.Н. Пыпина и Н.П. Барсукова, появившихся в последние десятилетия XIX в. В них, особенно в биографических хрониках Н.П. Барсукова, представлен огромный, но лишь едва затронутый критикой массив свидетельств интересующей нас эпохи .
Вопрос о ее концептуальном содержании, пожалуй, впервые был поставлен на исходе XIX в. П.Н. Милюковым в лекционном курсе по русской историографии, который читался им в Московском университете. Интересующий нас период, по большей части, не вошел в первый и единственный том «Главных течений русской исторической мысли», между тем, как свидетельствуют материалы его литографированного курса лекций, их обработка обещала обогатить отечественную историографию интересными наблюдениями.
Работы, созданные в первые советские десятилетия, решительно порывают с дореволюционной традицией. И в дальнейшем, вплоть до 1980-х гг. советскими авторами, изучавшими историографическую ситуацию 1830 – 1870-х гг., преимущественно руководило стремление выявить если не классовую, то, во всяком случае, общественно-политическую подоплеку исторических изысканий ученых XIX – начала XX в.
Концептуальным поискам, которые, несмотря на частые разногласия между учеными, могли свидетельствовать о непрерывности историографического процесса 1830 – 1870-х гг., о понимании современниками общности задач, стоящих перед наукой русской истории, находилось немного места на той арене борьбы революционно-демократического, либерально-буржуазного и официально-охранительного дворянского течений, в виде которой обычно изображалась историческая наука этого периода.
Во всяком случае, после «Русской историографии» Н.Л. Рубинштейна (1941), реконструкция единого историографического пространства середины XIX в. надолго выпадает из перечня исследовательских проблем. Из значимых попыток заново осмыслить концептуальное содержание этой эпохи можно назвать монографию А.Н. Цамутали, где «либеральное направление» перестает выглядеть привычным для советской литературы монолитом, противостоящим революционерам-демократам и готовым за небольшие уступки стать опорой реакционной политике царского правительства.
Компенсировать однобокость схемы, во главу угла которой были положены социально-политические характеристики ученых, было призвано обращение к биографическому жанру, интерес к которому в историографических исследованиях еще в советское время был возрожден во многом стараниями М.В. Нечкиной. Одним из итоговых трудов, запечатлевших усилия исследователей в этом направлении, стал недавно появившийся сборник «Историки России. Биографии».
Достоинства биографии как историографического жанра неоспоримы. Не случайно и в иностранной литературе, посвященной российскому историографическому процессу, этот жанр так же получил широкое распространение. Единственная работа зарубежного автора, выходящая за рамки конкретного, чаще всего, биографического сюжета – «Современная русская историография» А.Г. Мазура – носит, скорее, обзорный характер и небогата оригинальными наблюдениями.
Однако чрезмерное увлечение биографиями чревато издержками, поскольку зачастую оно приводит исследователей к малообоснованной апологетике и заставляет забывать об активном и постоянном участии в деятельности историка и сложившейся историографической традиции, и меняющихся общественных запросов. Преодоление этих недостатков выводит исследователей за пределы биографического жанра, но успехи этих новых разыскания, по большому счету, миновали середину XIX в., остающуюся, таким образом, своеобразной лакуной в реконструируемом исследователями российском историографическом процессе.
Попытки истолкования историографической ситуации 1830 – 1870-х гг., исходя из становления в эту пору научных исторических школ в университетских центрах, выглядят пока мало убедительными. Так, весьма спорной видится точка зрения, которой руководствовался А.Н. Шаханов при выборе «исследовательской, педагогической и организационной деятельности профессоров и приват-доцентов кафедр русской истории столичных университетов» в качестве предмета предпринятого им исследовательского анализа. Исходный посыл А.Н. Шаханова о том, что «именно их труды, лекционные курсы и диссертации определяли «главные течения» отечественной науки, «толкали мысль вперед, расширяя и углубляя ее …русло» на протяжении всей второй половины XIX и в начале XX в., еще сам нуждается в доказательствах. При анализе историографической ситуации 1830 – 1870-х гг. следует считаться с хорошо обоснованным М.П. Мохначевой выводом, что в середине XIX в. «не было еще строго очерченных профессиональным статусом границ между научной, литературной, журналистской деятельностью».
А это вновь возвращает к проблеме социальной природы того сообщества, занятием которого в 1830 – 1870-е гг. было изучение русской старины. Подступы к решению этой проблемы намечены в любопытных, но, к сожалению, не вызвавших серьезного обсуждения статьях В.П. Козлова и американской исследовательницы Э. Катцев.
Изыскания В.П. Козлова, сосредоточенные на проблеме статуса истории в России в конце XVIII – первой четверти XIX в., примечательны в плане выявления «условий для того взлета исторической науки, который мы наблюдаем в последующее время», т.е. в рассматриваемый в настоящей диссертации период. К большим удачам исследователя следует отнести проведенный им анализ деятельности официально учрежденных и неформально существующих обществ, кружков и салонов, тщательно собранные репрезентативные данные о множестве авторов исторических текстов той поры.
Вместе с тем, В.П. Козлов явно переоценивает уровень профессионализма, достигнутый русскими учеными к исходу первой четверти XIX в.: «Их нельзя назвать профессиональными историками по основному роду службы (исключая Калайдовича и Строева, работавших в Московском архиве Коллегии иностранных дел), но они безусловно являлись таковыми по своей научной квалификации в области истории». Эта квалификация, в которой В.П. Козлов справедливо видит один из важнейших показателей профессионализации исторического знания, очевидно, предполагает не одни только умения и знания ученых, но и их соответствующее социальное признание. Однако даже такой бесспорный, по мнению Козлова, профессионал, как П.М. Строев признавался в 1850 г., что за тридцать пять лет своей деятельности «постиг только горькую истину: специальным, чисто-ученым трудом существовать не можно; многосторонние знания и великая опытность не спасут от бедности».
Вопрос о происхождении профессиональной автономии в российской исторической науке – центральный в работе Эллисон Катцев, посвященной выяснению историографических позиций московского профессора и издателя «Вестника Европы» М.Т. Каченовского. Но и здесь главный тезис автора о том, что знаменитый глава «скептической школы» выступил с требованием профессиональной автономии для историков, как представляется, недостаточно обоснован. Проблема профессионализации исторической науки едва ли может быть решена в отрыве от анализа научных концепций, составляющих содержательную сторону историографического процесса
Итак, среди задач, стоящих сегодня перед историей отечественной исторической науки, как показывает приведенный обзор литературы, по-прежнему важнейшее место принадлежит интерпретации концептуальных построений в науке русской истории 1830 – 1870-х гг., в которой необходимо учесть как многообразие бытовавших в эту пору исследовательских практик, так и социальные установки ученых, трудившихся тогда над разработкой вопросов отечественного прошлого. Пока же обращения к опыту историографии середины XIX в., выходящие за рамки жанра научной биографии, носят в основном характер обзорных очерков, страдающих недостатком анализа.
Источники исследования. Решению поставленных в настоящей диссертации задач должно содействовать привлечение широкого круга используемых источников. Использованная в настоящем исследовании источниковая база включает в себя как опубликованные, так и неопубликованные материалы. Последние извлечены из фондов нескольких архивохранилищ Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Казани и Саратова: Государственном архиве Российской Федерации, Российском государственном архиве древних актов, Российском государственном архиве литературы и искусства, Научно-исследовательском отделе рукописей Российской государственной библиотеки, Отдела письменных источников Государственного исторического музея, Российском государственном историческом архиве, Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинского Дома), Отделе рукописей и редкой книги Российской национальной библиотеки, Архиве Географического общества, Институте рукописей Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского, Центральном государственном историческом архиве Украины, Государственном архиве города Киева, Национальном архиве Республики Татарстан, Отделе рукописей и редкой книги Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского Казанского университета, Государственном архиве Саратовской области.
Привлеченные для решения задач настоящего исследования можно разделить на шесть групп:
1. Авторские исследовательские тексты историков 1830 – 1870-х гг. образуют главную группу источников, используемых в настоящем исследовании. К этой группе относятся монографии, диссертационные «рассуждения», статьи, очерки, рецензии, тексты лекций, черновики и подготовительные материалы различных исторических работ, путешественные заметки, служащие прологом к критической работе историка, как это случалось с Н.И. Костомаровым и Д.И. Иловайским.
Опубликованные источники, относящиеся к этой группе, получают обстоятельную характеристику в основной части диссертационной работы. В целом, они позволяют в общих чертах проследить происхождение, развитие и дальнейшие судьбы концептуальных поисков русских историков. Находящиеся в архивных фондах творческие тексты в виде готовых работ имеют для настоящего исследования, как правило, только вспомогательное значение.
Из них наибольший интерес представляют тексты лекций Костомарова в Петербургском университете, отложившиеся в архивном фонде Н.П. Барсукова. Они до сих пор почти не привлекали внимания исследователей. Все лекции от вступительной и до последней, датируемой 31 марта 1861 г., аккуратно переплетены во внушительный по объему том, большую часть которого составляют записи, сделанные рукой Н.П. Барсукова. Несколько лекций, судя по пометкам Барсукова, были составлены Л.Н. Модзалевским. Обильную пищу для наблюдений представляет также рукопись Ю.Ф. Самарина «О ходе русской истории как науки» – обширное предисловие к незавершенному труду по новгородской истории.
2. Источники эпистолярного жанра, использованные в настоящей работе, представлены письмами, авторами которых были несколько десятков деятелей науки русской истории изучаемого времени. Привлекаемые эпистолярные материалы призваны, главным образом, помочь в воссоздании повседневной действительности, окружавшей историков в эту эпоху – той атмосферы, которая с трудом передаваема историческими источниками иного рода. Даже давно опубликованные усилиями еще дореволюционных авторов – Н.П. Барсукова, Е.В. Барсова, А.А. Титова, П.И. Бартенева, С.А. Белокурова – письма до сих пор лишь в крайне незначительной степени введены в научный оборот. Многие привлекаемые нами эпистолярные материалы не только не опубликованы, но и не использовались исследователями. К числу особенно любопытных относятся письма Д.И Иловайского к К.Н. Бестужеву-Рюмину 1860-х гг., письмо С.В. Максимова к И.Е. Забелину 1864 г., где очень обстоятельно рассказывается о намерении создать в Петербурге историческо-этнографическое общество при активном участии Костомарова.
3. Сравнительно немногочисленны привлекаемые в настоящем исследовании источники мемуарного жанра. Большинство рассматриваемых в настоящей диссертации авторов не оставили после себя воспоминаний, по крайней мере, о зрелых годах своей жизни. «Записки…» С.М. Соловьева, «Мои воспоминания» Ф.И. Буслаева и «Автобиография» Костомарова – ценнейшие источники, очень верно характеризующие исторические взгляды и общественные позиции этих ученых. Однако концептуальные поиски, подробная характеристика исследовательской деятельности остаются, по сути, вне поля зрения мемуаристов. «Воспоминания» Бестужева-Рюмина, обрывающиеся на 1860 г., в этом плане более содержательны. Интересны признания Бестужева-Рюмина о том большом влиянии, которое на него имели в те годы французские историки и публицисты федералистского направления.
4. Немало пользы при решении поставленных в диссертации задач оказало знакомство с дневниковыми записями деятелей эпохи. Стоит отметить и знаменитый дневник А.В. Никитенко, и извлеченные Н.П. Барсуковым места из записей Погодина, и менее известные материалы А.Н. Афанасьева, И.М. Снегирева, О.М. Бодянского, И.Е. Забелина. Отдельно следует упомянуть дневниковые записи И. Смирнова, вкрапленные в его воспоминания о Казанском университете, а также «Дневник» Е.Ф. Шмурло, содержащий любопытный рассказ о научной биографии Борзаковского. В целом же, мемуарная литература и дневники использована в работе при уточнении деталей тех историографических событий, общие сведения о которых известны из других источников и при обрисовке общего историографического фона, на котором велись концептуальные поиски историков середины XIX в.
5. Этим же целям служат и привлекаемые в данном исследовании материалы периодики. Для выяснения журнальной подоплеки концептуальных выступлений в науке русской истории 1830 – 1870-х гг. потребовалось проработать материалы не только тех изданий, где постоянно сотрудничали интересующие нас историки («Отечественные записки», «Современник», «Чтения в ОИДР», «Временник ОИДР», «Век», «Очерки», «Московское обозрение», «Московские ведомости» и др.), но и большинства наиболее крупных изданий этой эпохи, такие как «Московский телеграф», «Русский вестник», «Москвитянин», «Библиотека для чтения», «Русская беседа», «Русское слово», «Голос» и многие другие. Знакомство со всеми этими материалами существенным образом повлияло на ход данного исследования и на его результаты, хотя только небольшая их часть стала предметом непосредственного рассмотрения на его страницах.
6. Использование делопроизводственных материалов также отразилось на выводах настоящего исследования. К ним относятся, главным образом, программы учебных курсов в Казанском и Киевском университетах, отчеты о прочитанных лекциях в Казанской духовной академии. Особенного внимания заслуживают такие документы, как «Программа истории русского народа» А.П. Щапова, ежегодные отчеты и протоколы Русского географического общества и Общества истории и древностей российских при Московском университете. «Программа курса Русских древностей» Н.И. Костомарова, представленная Н.И. Костомаровым для преподавания в Казанском университете, может быть отнесена к числу незаслуженно забытых исследователями источников. Эта программа, датируемая 6 декабря 1857 г., была введена в научный оборот Е.А. Бобровым в 1903 г., но до настоящего времени она не становилась предметом историографического анализа. Другая рукопись Костомарова – «Проэкт историко-этнографического путешествия» и сопутствующие ему материалы, отложившиеся в делопроизводстве канцелярии РГО, – открывают неизвестную страницу в истории научных исканий эпохи «великих реформ». Немалую ценность представляет официальная переписка С.Г. Строганова с министром народного просвещения и начальником III отделения, вызванная публикацией сочинения Флетчера на страницах «Чтений в ОИДР».
Однако, несмотря на все значение делопроизводственных материалов, периодики, произведений мемуарного и эпистолярного жанра, главными для исследования концептуальных поисков историков России середины XIX в. являются все же научные авторские тексты этой эпохи.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в анализе концептуальных условий развития научного знания об истории России в середине XIX в. Воззрения большинства участников историографического процесса этого периода не раз становились предметом изучения. Поэтому настоящее исследование, предпринимаемое не с целью простого количественного приращения уже изрядной суммы имеющихся сведений, претендует на получение новых результатов при условии реализации следующих принципов:
Во-первых, научные тексты указанной эпохи рассматриваются сквозь призму историзма, исходную установку которого – «коренная историзация нашего знания и мышления … о человеке, его культуре и его ценностях», – одним из первых сформулировал в начале прошлого века Эрнст Трельч. По мнению немецкого историка и философа, историзм в указанном смысле с конца XVIII в. стал неизменным спутником европейской мысли. В отечественной литературе преобладает более широкое понимание историзма как новоевропейского феномена. Интересные соображения о природе романтического историзма и его судьбах во второй половине XIX в., правда, в основном, на западноевропейских материалах, высказали недавно И.М. Савельева и А.В. Полетаев. Попытка представить русских историков этой эпохи как проводников идей универсального и всепронизывающего историзма, думается, впервые дает возможность ощутить единство историографического пространства, в котором они жили и творили. Рассматриваемые как современники «века Истории» «государственник» Кавелин и славянофил Самарин, «расколовед» Щапов и «летописевед» Бестужев-Рюмин, «либерал» Костомаров и «консерватор» Иловайский, их учителя и последователи, оказывается, выявляют в своей деятельности общие тенденции в развитии исторического знания в России.
Во-вторых, динамика российского историографического процесса представлена в связи со сменой поколений, непрерывно происходящей на протяжении этих лет в науке русской истории. Заявленная в период между двумя мировыми войнами западноевропейскими интеллектуалами – К. Мангеймом и Х. Ортегой-и-Гассетом, – проблема поколений до сих пор остается периферийной для отечественной гуманитарной традиции, не говоря уже об историографии российской истории. Между тем, примерив на судьбах М.П. Погодина, С.М. Соловьева, А.П. Щапова и других участников российского историографического процесса середины XIX в., нетрудно убедиться в немалых эвристических возможностях моделей, предложенных Х. Ортегой-и-Гассетом и К. Мангеймом, если, разумеется, не стараться втиснуть в эти модели, как в прокрустово ложе, всю пестроту биографических подробностей героев рассматриваемой эпохи.
В-третьих, изучение поисков историков 1830 – 1870-х гг. в российском прошлом сопряжено с анализом социальных проекций их научных практик. Рассмотрение в одной исследовательской плоскости концептуальных исканий и порождаемых ими и легитимирующих их результаты общественных институтов, прочно вошедшее в обиход современной социологии знания, пока еще не нашло последовательного применения при изучении российской историографической ситуации середины XIX в. Между тем, без такого рассмотрения исторические концепции оказываются оторванными от социальной почвы, на которой они вызревали, а научные общества и школы выглядят как монолиты, способные существовать помимо воли их участников.
Продуктивность указанных принципов подтверждают в настоящем исследовании новые для истории отечественной историографии наблюдения об эволюции научных замыслов П.М. Строева, О.М. Бодянского, К.Д. Кавелина, Н.В. Калачова, Н.И. Костомарова, Д.И. Иловайского и их современников. По-новому осмыслены организационные основы ученых обществ и школ в середине XIX в., проблема соотношения исторического знания с археологией и этнографией, карьеры ученых-историков рассмотрены в социальном и политическом контексте, сопутствующем становлению науки русской истории в годы николаевского царствования и в эпоху «великих реформ».
Основные положениями диссертации, выносимые на защиту:
1) соблюдение новых археографических и источниковедческих требований и нацеленность на поиски «начал», призванных установить внутреннюю связь между историческими явлениями, стали в первые послекарамзинские десятилетия важными критериями оценки сочинений по русской истории;
2) крупнейшее из ученых исторических обществ в середине XIX в., Общество истории и древностей российских при Московском университете, в институциональном отношении представляло собой центр, функционирование которого опиралось на принцип солидарности «ученого сословия», находящегося под покровительством просвещенного аристократа, который облачен правительственным доверием;
3) структура Общества истории и древностей российских благоприятствовала организации оживленной издательской деятельности, во многом строившейся на завоеваниях исторической критики рубежа 1820 – 1830-х гг., но весьма мало способствовала ведению научных поисков, нацеленных на новое понимание хода русской истории;
4) возможность нового построения отечественного прошлого, обосновывалась славянофилом Ю.Ф. Самариным и сторонником учения о родовом быте в древней России К.Д. Кавелиным в середине 1840-х гг. с помощью почти тождественных аргументов;
5) исследовательская программа, предложенная в конце 1840-х гг. К.Д. Кавелиным, и сразу нашедшая единомышленников, изначально мыслилась в неразрывной связи с задачами «народного самопознания» и потому была ориентирована на воссоздание «истории народа», выходящей за рамки политической истории;
6) «новая историческая школа», основание которой обычно связывается с именами С.М. Соловьева и К.Д. Кавелина, как и другие «школы» в науке русской истории той поры, представляла собой аморфное образование, обусловленное, преимущественно, потребностями журнальной борьбы. Такие «школы» не имели институциональной основы и объединяли ученых лишь на основе признания ими главенства одних и тех же исторических «начал»;
7) кризис «новой исторической школы» с ее приоритетным вниманием к развитию государственного начала на рубеже 1850 – 1860-х гг. был обусловлен дискредитацией российской государственности в конце николаевского царствования и переосмыслением в обществе проблемы «народности», оказавшейся периферийной для этой школы, в свете предстоящей крестьянской реформы;
8) самоопределение поколения ученых, выступившего с оригинальными историческими построениями в годы «великих реформ», было связано с темой местной истории, политическим выражением которой стал федерализм, – в нем Н.И. Костомаров, А.П. Щапов, Д.И. Иловайский, К.Н. Бестужев-Рюмин, отчасти Ф.И. Буслаев и С.В. Ешевский видели средство преодоления апологии политической централизации в исторической науке и общественной жизни;
9) корректировка концепций и «новой исторической школы», и историков-федералистов в годы «великих реформ» и распространения позитивистского учения привела к тематической специализации исторического знания. Поднятые в историографии 1830 – 1860-х гг. проблемы общины, государственных институтов, раскола, местных исторических особенностей в пореформенные десятилетия решались в пределах относительно автономных разделов исторического знания: истории общества, истории права, истории литературы, истории церкви;
10) модель ученого сословия, опекаемого просвещенными аристократами, господствовавшая в середине XIX в., постепенно отмирает в пореформенное время, освобождая простор для формирования научных исторических школ. Это, впрочем, не дает оснований преувеличивать степень завершенности этого процесса смены социальных парадигм в историческом знании рассматриваемой эпохи.
Практическая значимость диссертации состоит в том, что ее материалы и выводы могут послужить дальнейшему изучению исторической науки в России; опробованные в ней подходы, показавшие эффективность при рассмотрении историографической ситуации 1830 – 1870-х гг., применимы в исследованиях предшествующей и последующей эпох в развитии отечественной историографии. Произведенный в диссертации анализ концептуальных построений «века Истории» может быть использован в учебно-образовательных целях в вузовских курсах историографии российской истории, историографических специальных курсов и специальных семинаров. Представленные в настоящем исследовании соображения об опыте социальной самоидентификации ученых середины XIX в. будут полезны современному российскому сообществу историков, судя по некоторым признакам, переживающему сейчас кризис идентичности.
Апробация результатов работы. Материалы и выводы диссертационного исследования изложены в докладах на международных и всероссийских научных конференциях, отражены в 25 публикациях, в том числе в монографии и 7 статьях, вышедших на страницах ведущих рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК.
Исследовательский проект по теме диссертации был поддержан Советом по грантам Президента Российской Федерации для поддержки молодых российских ученых и ведущих научных школ Российской Федерации.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения, списка использованных источников и литературы.
ОИДР и «история Флетчера»
Теоретико-методологическая основа работы сочетает в себе приемы, вполне традиционные для исследований, решающих историографические задачи, и подходы, которые в настоящее время только завоевывают себе место в исторической науке. К числу первых следует отнести историко-генетический метод, позволяющий проследить преемственность в развитии исторических концепций, и историко-сравнительный, который дает возможность соотнести содержание этих концепций с общенаучным и социальным контекстом эпохи. Особое значение в диссертации имеет метод реконструкции, с помощью которого, на основе анализа исторических текстов 1830 — 1870-х гг., восстанавливаются породившие их системы взглядов.
Среди новых подходов, разрабатываемых в современной интеллектуальной истории, в исследовании учитываются, главным образом, те, что еще в 1980-е гг. отнесены Роже Шартье к «социальной истории идей». Установка, объединяющая труды представителей этого направления, довольно удачно выражена Карлом Эмилем Шорске, автором монографии «Вена на рубеже веков: Культура и политика»: «Историк стремится к тому ... чтобы определять и интерпретировать свой предмет внутри временных отношений, в поле, где пересекаются две линии. Одна линия - вертикальная, или диахроническая, посредством которой он устанавливает отношение текста или системы мышления к предшествующим формам выражения в той же самой области культурной дея 14 тельности (живопись, политика, и т.д.). Другая линия — горизонтальная, или синхроническая; за счет нее он определяет отношение содержания интеллектуального объекта к тому, что появляется в то же самое время в других областях или аспектах культуры»14.
Наиболее близкими к настоящему диссертационному исследованию по своим задачам можно назвать работы Ф. Левин («Любители и профессионалы: антикварии, историки и археологи в викторианской Англии...», 1986) и Р. Стивена Тернера («Историзм, критический метод и прусская профессура с 1740 по 1840 год», 1983) . И в том, и в другом случае сюжет из истории гуманитарного знания рассматривается на фоне социальных процессов, и это приводит авторов к любопытным выводам. Ф. Левин проследила переход от любительских занятий изучением прошлого к становлению профессионального сообщества историков и археологов в Великобритании. Р. Тернер показал, каким образом прусскому ученому сословию на рубеже XVIII - XIX вв. удалось, благодаря разработке и усвоению приемов филологической критики, адаптироваться в условиях изменившихся запросов общества к гуманитарному знанию. Впрочем, наблюдения упомянутых авторов могут послужить лишь в качестве одного из импульсов для предпринимаемого нами исследования: российская университетская традиция в середине XIX в. едва ли отличалась такой же устойчивостью, как прусская, история которой к тому времени исчислялась столетиями; так же вряд ли есть основания полагать, что предпосылки для профессионализации исторической науки в России накануне и в эпоху «великих реформ» были столь же развиты, как и в современной ей Британии. Очевидно, использование этих новых подходов может оказаться плодотворным при условии внимательного учета специфики российской историографической ситуации 1830 — 1870-х гг. Основные положениями диссертации, выносимые на защиту: 1) соблюдение новых археографических и источниковедческих требований и нацеленность на поиски «начал», призванных установить внутреннюю связь между историческими явлениями, стали в первые послекарамзинские десятилетия важными критериями оценки сочинений по русской истории; 2) крупнейшее из ученых исторических обществ в середине XIX в., Общество истории и древностей российских при Московском университете, в институциональном отношении представляло собой центр, функционирование которого опиралось на принцип солидарности «ученого сословия», находящегося под покровительством просвещенного аристократа, который облачен правительственным доверием; 3) структура Общества истории и древностей российских благоприятствовала организации оживленной издательской деятельности, во многом строившейся на завоеваниях исторической критики рубежа 1820 - 1830-х гг., но весьма мало способствовала ведению научных поисков, нацеленных на новое понимание хода русской истории; 4) возможность нового построения отечественного прошлого, обосновывалась славянофилом Ю.Ф. Самариным и сторонником учения о родовом быте в древней России К.Д. Кавелиным в середине 1840-х гг. с помощью почти тождественных аргументов; 5) исследовательская программа, предложенная в конце 1840-х гг. К.Д. Кавелиным, и сразу нашедшая единомышленников, изначально мыслилась в неразрывной связи с задачами «народного самопознания» и потому была ориентирована на воссоздание «истории народа», выходящей за рамки политической истории; 6) «новая историческая школа», основание которой обычно связывается с именами СМ. Соловьева и К.Д. Кавелина, как и другие «школы» в науке русской истории той поры, представляла собой аморфное образование, обусловленное, преимущественно, потребностями журнальной борьбы. Такие «школы» не имели институциональной основы и объединяли ученых лишь на основе признания ими главенства одних и тех же исторических «начал»;
Спор СМ. Соловьева со славянофилами об «антиисторическом направлении» 1857 г
Историкам исторической мысли редко предоставляется случай определить точные даты завершения одного и начала следующего этапа историографического процесса. Новые тенденции в науке, как правило, вызревают в глубоких недрах устоявшихся традиций. Не один год требуется для того, чтобы пределы зовущих к подражанию форм исторического письма, некогда казавшиеся достаточно просторными для вдохновенного творческого поиска нового, стали восприниматься как тяготящие рамки стереотипа. Общероссийская проблематика, находившаяся в центре внимания историков второй половины XVIII — начала XIX вв., опосредовала новые веяния и потому еще больше смягчала резкость разрывов историографических традиций для тех, кто занимался в эти годы изучением местной истории. И все же, хотя бы задним числом, исход второго десятилетия XIX в. может быть обозначен как рубежная веха в российской историографии. В 1818г. вышли в свет первые восемь томов «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина, а в одном из частных писем, написанных в следующем году, впервые на русском языке прозвучало слово «народность».
Карамзинскому труду и новому понятию, введенному в литературный обиход благодаря П.А. Вяземскому (к слову, убежденнейшему карамзинисту), суждено было стать точками отсчета и одновременно — своего рода противоположными полюсами притяжения для всех, кто работал в эту пору в науке русской истории. Георгий Федотов лучше других сформулировал отношение к Карамзину его младших современников: «За ним ... стоял весь XVIII век, историки которого влились в «Историю государства Российского». Карамзин завершитель»1. Именно этим - прочностью историографического прошлого, служившего опорой великому историку, художественной завершенностью форм исторического письма - карамзинское наследие привлекало и отталкивало тех, кто шел по его стопам. XVIII столетие, стоявшее за Карамзиным, - это век Просвещения в идейной сфере жизни, век классицизма в литературе и искусстве. В основе того и другого - оптимистичная вера во всепобеждающую силу человеческого Разума, способного подчинить своей власти все стихийное и в самом человеке, и в природе, и в обществе. Законы этого Разума могут быть неизвестны до поры до времени, но, будучи однажды поставлены на службу человечеству, мало считаются с обстоятельствами времени и места. В такой универсальной рационалистической картине мира история с ее пестротой явлений, бесконечной чередой слепых случайностей и действий, продиктованных скорее страстью, чем Разумом, была призвана играть роль воспитательницы, наставницы народов и, в первую очередь, вершителей их судеб — правителей.
Развитие историографии в эпоху Просвещения шло, в основном, по пути вольного или невольного преодоления этой неисторичной в своей основе мировоззренческой парадигмы, но историки, даже такие талантливые, как Карамзин, не могли не считаться с ней в своих изысканиях. Осознание этой проблемы пришло с романтическим историзмом, одним из предвестников которого в России и стало проникшее сюда благодаря Вяземскому понятие «народности». Романтическое мировосприятие, постепенно преодолевавшее рационализм предшествующей эпохи, утверждалось по мере того, как сама историческая действительность разоблачала утопии века Просвещения.
Общеевропейский кризис, вызванный попыткой приложить рационалистическую доктрину к практике, жизнеспособность народов при терпящих бедствие правительствах, - эти и другие неожиданно открывшиеся стороны социально-политического опыта конца XVIII — начала XIX вв. выявили несостоятельность упований только на силу человеческого разума и заставили по-новому взглянуть на функцию и содержание исторического знания. В существовании связи этого нового ощущения истории с политическими событиями, последовавшими за великой французской революцией, вполне отдавал себе от 51 чет граф А.С. Уваров. В речи, произнесенной им на открытии Московского археологического общества 3 ноября 1863 г., он говорит о том, что Европа для сопротивления нравственному и военному игу Франции, «должна была прибегнуть не только к простой силе, но также и к нравственной опоре чувства народности»2.
Новые веяния проникали даже в такие консервативные области историографии, как нумизматика, которую И.Е. Забелин в записных книжках прямо относил к числу дворянских наук3. Выпускник восточного отделения Петербургского университета П.С. Савельев тяготился исподволь добытыми знаниями о монетах, пока, занимаясь переводом нумизматической статьи академика Френа, не обнаружил, каким неоценимым источником для получения новых данных по древнему периоду отечественной истории могут быть монетные клады. Романтические пристрастия Савельева очевидны. «Чорт знает как приятно гулять в потемках истории. Как можно сравнить с этой занимательной тьмою прозаическую ясность новой истории! ... А оригины-то [происхождение — ВБ] народов — прелесть», - писал он в марте 1839 г. своему товарищу В.В. Григорьеву4.
Романтизм как интеллектуальное и художественное течение взывал к поиску исторической преемственности. Постижение, наряду с «духом времени», «духа народа», или «народности», как это прозвучало в русской литературе, не только обеспечивало, по мнению историков-романтиков, эту преемственность, но и придавало значение каждому историческому событию или эпохе.
На это, в первую очередь, указывал в своей критике на «Историю государства Российского» издатель «Московского телеграфа» Н.А. Полевой. Его развернутая рецензия, опубликованная в 1829 г., по мнению многих современников и позднейших исследователей, представляла собой наиболее взвешенную оценку заслуг прославленного историографа перед лицом новых требований, выдвигавшихся наукой русской истории .
От государственности к местной истории: молодые последователи «новой исторической школы» на рубеже 1850 - 1860-х гг
Сахарову, что предложенные премии «ничтожны, дешевле относительно грибов», и предлагал в несколько раз повысить плату за членство: «не угодно ли, если хотят и щегольнуть, и сделать доброе дело, прибавить сюда еще один нуль хоть на ассигнации, и тогда каждый из них получит титло соревнователя; а кто пожертвует 3000 р. с[еребром] благотворителя; удвоит — выставится в зале заседания Общества и личина его с приличною подписью. Вот такса для ваших честолюбцев; коли им действительно, по вашим словам, диплом на членство дороже всего, добро пожаловать с открытой мошной, но меньше — ни гроша, больше - пожалуй: им же больше бессмертия, а нам, т.е. нашему Обществу, выгоды». Что же касается членов Общества, то — уверяет он Сахарова после переговоров с некоторыми из них — никто из них не собирается принимать условий конкурса. По мнению Бодянского, предлагаемых денег «мало не то что для напечатания, а для порядочной переписки сочиненного», поскольку каждая из поставленных задач «сама по себе чрезвычайно обширна и требует огромных разысканий, времени, труда и самого объема». С плохо скрываемым негодованием он забрасывает своего корреспондента риторическими вопросами: «Разве можно за такую плевую награду писать подобные сочинения. ... Есть ли тут какая соразмерность в награде и труде? Какой дурак рискнет трудиться из-за такой суммы?»115.
Нельзя сказать, что Бодянский проявляет равнодушие к возможному пополнению общественной казны: «Обществу нужны, при теперешнем его положении, деньги, деньги и деньги: это первое и последнее его желание и потребность. Оно ныне едва-едва сводит концы с концами, и в долгу как в шелку за прошедшие годы по 1845: такова была экономия в блаженные времена Писаревых с братиею и последователями» . Но дело в том, что он уже успел разочароваться в премиях как возможном средстве поправить расстроенное финансовое положение Общества. В первый год его секретарства по предложению директора Воспитательного дома В.Н. Драшусова ОИДР объявило премию в размере 1000 рублей ассигнациями за написание «Истории градоначальствования в Москве кн. Д.В. Голицына»117, которая так и не была присуждена. Никто не откликнулся на это приглашение даже после того, как оно было не раз повторе I 1 о но . Больше того, от объявления этой премии пострадала репутация Общества: «Нас же осмеяли, если не печатно, так устно, все те, кто провидел немножко в даль». Поэтому, естественно, Бодянский категорически против того, чтобы членство купцов в ОИДР обеспечивалось деньгами, которые «вечно, подобно деньгам Голицынским, лежали в ломбарде, без всякого употребления, копили бы проценты, а проку Обществу от того никогда не дождаться»119.
Итак, отклоняя проект учреждения премий на купеческие пожертвования Сахарова как неосуществимый, Бодянский здесь же предлагает собственную концепцию структуры и развития ОИДР, заметно отличающуюся от той, что проступает в проекте петербуржца. С Сахаровым он сходится, пожалуй, только в полном отрицании всякого ученого значения за купцами - членами Общества. Но если тот посредством премий собирался повысить статус купцов, включив их в повседневную работу ОИДР, то секретарь, в лучшем случае, готов был за повышенную плату смириться с их фиктивным членством: «отныне купец и подобные ему, коли хотят чваниться нашими дипломами, просим по таксе получать их, а не прелазити инуду» . Заговорив о купцах, Сахаров, по-видимому, невольно затронул больную для Бодянского тему. Того и раньше беспокоило бездействие получивших диплом благотворителей, в большинстве своем — представителей купечества. Еще в своих «Замечаниях на устав» 1845 г. Бодянский, едва вступив в должность секретаря, настаивал на упразднении самой этой категории, т.к. «нигде, ни в каком Обществе не существует как отдельных членов - благотворителей, хотя благотворения всюду от них делаются и приносятся»121. Теперь он и вовсе находил, что от купцов «соревнования и благотворения ни на полушку», и высказывался об их вкладе в деятельность ОИДР еще более резко и категорично: «Раз в жизни сделав, при поступлении, навсегда замолчали» 22.
Бодянский решительно отвергает саму возможность сравнения с купцами остальных членов Общества. По его убеждению, они «как сословие — в миллион раз лучше». Он согласен, что среди этих «членов не-купцов» больше недеятельных, но даже немногочисленные «деятельные так делают, что и любо глядеть». Именно их секретарь Общества имеет в виду, когда возражает против премий: «Из чести в наше время немногие трудятся, а коли уж трудятся, так решительно из-за одной ее, без малейшей примеси материализма»123. Исходя из этого, Бодянский не собирается обманывать себя относительно места ОИДР в историографическом пространстве: Общество, по его словам, - «это нищий, который живет благостыней свыше, которой, однако, едва хватает прикрыть свое грешное тело». Он вполне готов довольствоваться той скромной славой, которое Общество приобрело за истекшие десятилетия и, конечно же, не собирается вступать в навязываемое ему Сахаровым соперничество с Академией наук, ибо «там совсем иная жизнь, цель, условия бытия и действия»124.
Бодянский не отказывался зачитать предложение Сахарова.в заседании ОИДР, но весь ход его рассуждений давал тому понять, сколь ничтожны шансы на одобрение его проекта. Незадачливому петербуржцу оставалось только сделать вид, что дело упирается в размеры купеческих пожертвований. В ответном послании, от 18 февраля 1848 г., он уведомил секретаря, что «купцы не соглашаются иначе поступить и отдают свои деньги в Географическое общество», на что получил от того язвительный комментарий: «Туда им и дорога, этим русским патриотам! В Географическом обществе наберут они себе больше простора, для своего патриотизма больше ценителей. Мы, может быть, слишком стро-ги, или слишком невнимательны. Что делать! Иначе быть не может» " . На этом переписка Бодянского и Сахарова обрывается; петербуржец на себе испытал бескомпромиссность позиции секретаря ОИДР, и после этого оба корреспондента, похоже, надолго потеряли друг к другу всякий интерес.
Историки-«федералисты» и этнографическая экспедиция Русского географического общества
Можно только пожалеть, что авторам этих работ осталась неизвестной рукопись славянофила «О ходе русской истории как науки» — источник, очень любопытный для характеристики его ранних взглядов. Здесь Самарин берется рассуждать о происхождении и развитии в России «Истории как науки исключительно; об Истории, призванной удовлетворить ученый, философский интерес, высшие потребности мысли»5. Эти рассуждения во многом предвосхищают самаринскую полемику против «Взгляда на юридический быт древней России». Словом, к интересующему нас времени - середине 1840-х гг. - литературный и общественный вес Самарина и Кавелина был почти одинаков.
К.Д. Кавелина и Ю.Ф. Самарина, родившихся в 1818 г. и 1819 гг. соответственно, определенно можно отнести к новой генерации исследователей российского прошлого. Будучи ненамного младше И.Д. Беляева или О.М. Бодян-ского, они получили образование в существенно обновленном стараниями С.С. Уварова и особенно С.Г. Строганова Московском университете. На рубеже 1830 - 1840-х гг. интеллектуальное развитие и научное самоопределение той части московского студенчества, к которой принадлежали Кавелин и Самарин, происходило на фоне начинающихся жарких споров между западниками и славянофилами. Они, как и их сверстники, пытались извлечь уроки из достижений гегельянства и исторической школы права, с которыми их обильно знакомили возвращавшиеся из заграничных стажировок молодые профессора университета - П.Г. Редкий, Д.Л. Крюков, Н.И. Крылов, А.И. Чивилев, Т.Н. Грановский, П.Н. Кудрявцев.
Выходцы из состоятельных дворянских семейств, приближенных ко двору, Кавелин и Самарин, окончив Московский университет, оказались перед непростым выбором между традиционной для молодежи их круга служебной карьерой и ученой деятельностью, к которой они чувствовали большую склонность. Для Самарина работа над диссертацией стала лишь причиной отсрочить на время поступление на службу; через два месяца после диспута по настоянию отца он отправляется в Петербург, чтобы служить в сенате. Примерно в это же время Самарин разрешил для себя дилемму, которую его биограф Б.Э. Нольде сформулировал как выбор между Гегелем и Церковью. Помощь А.С. Хомякова в этом непростом личностном самоопределении навсегда привязали Самарина к славянофильству и православию6. Кавелину после сдачи магистерских экзаменов в 1841 г. в течение трех лет пришлось совмещать петербургскую службу в Министерстве юстиции с работой над диссертацией, посвященной русскому судоустройству и гражданскому судопроизводству в России от Соборного уложения до Учреждения о губерниях. После успешного диспута Кавелин был назначен исполняющим должность адъюнкта по кафедре истории русского законодательства. К этому времени молодой ученый явственно примкнул к кружку московских западников.
Далее, если историографическая традиция, в целом, справедливо избегала рассматривать славянофилов как представителей единой исторической школы, то вопрос о научном статусе их оппонентов далеко не всегда находил однозначное решение. Как известно, самостоятельный взгляд на развитие отечественной исторической литературы и оригинальная концепция русской истории стали производными разрабатываемого Кавелина в середине 1840-х гг. университетского курса. Роль этого ученого в выработке новой концепции русской истории, ставшей достоянием публики во второй половине 1840-х гг., нельзя назвать незамеченной. Имя Кавелина, наряду с СМ. Соловьевым, как правило, связывают с появлением целой научной школы, оказавшей значительное влия-ние на развитие российской историографии . Очевидно, ввиду этого историче 171 ские построения Кавелина чаще всего рассматриваются как неотъемлемое достояние этой школы. Несмотря на неоднократно отмечавшиеся в литературе расхождения во взглядах участников этой историографической общности, факт ее существования, так же, как программное значение для ее последующего развития кавелинского «Взгляда на юридический быт древней России» (1847) долго имели для исследователей почти аксиоматическую силу. Обсуждению подлежали, в основном, такие вопросы, как установление степени участия Кавелина и Соловьева в выработке основных положений теории, лидерство на различных этапах развития школы, ее внутренняя эволюция и социально-политическая подоплека отстаиваемых ею научных выводов8.
Вызов этой традиции недавно был брошен Г.М. Хамбургом, поставившим под сомнение наличие принципиального тождества во взглядах ученых, обычно относимых к «государственной школе», не говоря уже о правомерности употребления самого этого термина9. Подобные сомнения не в первый раз возникают в литературе: еще в 1987 г. А.Н. Ерыгин, подвергнув глубокому анализу концепции СМ. Соловьева, К.Д. Кавелина и Б.Н. Чичерина, нашел весьма существенные различия между ними и потому готов был признать их авторов «историками одного историографического направления, течения, но не школы»1 . Продолжающиеся разговоры о гегельянстве как едином философско-историческом фундаменте «государственной школы» после аргументов А.Н. Ерыгина, действительно, следует считать плодом недоразумения, и можно только пожалеть, что наблюдения этого исследователя не получили в свое время должной известности. Однако его утверждение по поводу отсутствия школы могло иметь силу в том случае, если бы он установил, какая глубина концептуальных расхождений была критической для существования исторической школы в глазах современников Соловьева, Кавелина и Чичерина и их самих. Без учета историографического контекста само понятие «школа» лишается конкретно-исторического наполнения и едва ли пригодно для анализа11.