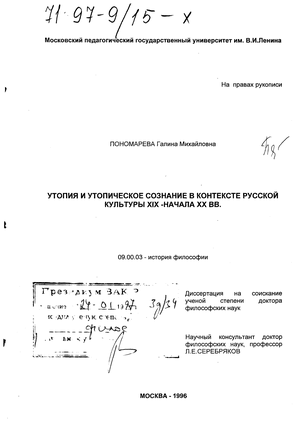Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. Особенности самосознания русского народа и русская народная утопия 9
1. Утопия как предмет социокультурного анализа 9
2. Утопия и народное самосознание 21
3. Народная культура и русское народное сознание 38
4. Старообрядчество и русская народная утопия 55
ГЛАВА II. Дворянская утопическая традиция в России 62
1 Рефлексия народной культуры и народной утопии в русской общественно-политической мысли конца ХІХ-начала XX вв 62
2. Социокультурная ситуация в России на рубеже веков и самосознание интеллигенции 75
3. Теократическая утопия П.Я.Чаадаева как специфическая "утопия ордена" .92
4. "Орден русских рыцарей" 109
5. Литературная утопия В.Ф.Одоевского 129
ГЛАВА III. Культурологические утопии неодемократической интеллигенции начала XX века 147
1. Теургическая утопия В.И.Иванова 147
2. Социально-эстетические утопии К.С.Малевича и В.В.Кандинского 163
3. Идеократическая утопия ААБогданова 178
4. Космологическая утопическая доктрина К.Э.Циолковского 191
Заключение 205
Библиография
- Утопия как предмет социокультурного анализа
- Утопия и народное самосознание
- Рефлексия народной культуры и народной утопии в русской общественно-политической мысли конца ХІХ-начала XX вв
- Теургическая утопия В.И.Иванова
Введение к работе
Стало трюизмом называть XX век веком реализовавшихся утопий.
Анализу утопий посвящена обширная литература, в которой подробно
описаны их структурно-функциональные особенности, аксиологическая и
9 социальная доминанты. Глубокая критика утопии, носящая разносторонний и
системный характер, позволила говорить о кризисе и самого утопического жанра, и
утопического мышления в целом.
Поспешные "похороны" утопии, которые связывались с повсеместным торжеством антиутопических произведений, сопрягались с бурным развитием футурологии, социального проектирования и социальных технологий. Казалось, после фундаментальных работ Э.Кассирера, К.Поппера, М.Вебера, К.Манхейма, Л.Мамфорда, Ф.Мануэля, Ф.Полака, Р.Дарендорфа, И.Хейзинги, М.Шиллера и многих других западноевропейских исследователей утопия вытеснена из всех возможных лакун своего прежнего существования.
Исторические формы утопии, ее соотношение с идеологией, религиозным сознанием, художественными практиками XX века, роль интеллигенции в создании и распространении утопических проектов, утопия и политика, утопия и революция, утопия и социализация, утопия и исследования в области культурной антропологии -все становилось предметом пристального внимания и пристрастной критики.
Утопию осмысливали филологи, философы, историки, социологи. Ее
трактовали как литературный жанр, как реформационные проекты, как социальный
идеал, как форму скрытого нигилизма, как средство управления массовым
\ сознанием, как прекрасный проект будущего, достойный реализации, или сладкую
f несбыточную грезу, мечту, никогда не воплощающуюся в реальности.
Подробное и разностороннее изучение утопии обусловлено как ее амбивалентностью, многозначностью заключенных в ней смыслов, так и устойчивым страхом перед осуществившимися утопиями: ни одно еретическое, реформационное или революционное движение не обходилось без утопических проектов и идеалов, ради которых и затевались попытки "переделки действительности". Связанные с переходными эпохами, когда пересматривались идеалы и ценности, в кажущуюся незыблемость которых свято верили, когда наблюдалась ярко выраженная инверсия социально значимых смыслов и целей, а мир терял свою устойчивость и однозначность, утопия брала на себя роль стабилизатора, обещающего вместо хаоса восстановленный космос "потерянного рая".
В истории человечества не было счастливых и спокойных времен, не было "золотого века". Но каждая эпоха мечтала об "утраченном радостном мире" и строила модели его обретения. Рядом с тяготами исторического бытия росло и развивалось ветвистое древо утопии. Взошедшее из вековой мечты о всеобщем Благе, Счастье и Равенстве, древо утопии пустило свои побеги в разных философских, литературных, социальных течениях всех стран и народов. Сегодня можно говорить и о плодах утопии, понимая под ними не только воплощенные утопические проекты, но и напряженный интерес к изучению самого феномена "утопического".
Традиция рассмотрения утопии как полифункционального и амбивалентного феномена, сложившаяся в западноевропейской социально-философской мысли, позволила понять ее многие сильные и слабые стороны, выработать в общественном сознании стойкий иммунитет против искушений утопии.
В отечественной литературе отношение к утопии было принципиально иным. Трактовка утопического социализма как составной части научного мировоззрения, преодоленной и преображенной в дальнейшем поступательным развитием марксистской коммунистической доктрины, требовала изучения только тех форм утопической мысли, которые исторически непосредственно предшествовали марксизму и были связаны прежде всего с социальными чаяниями трудящихся масс. В рамках такого анализа, для которого каноном стала классическая работа Ф.Энгельса "Развитие социализма от утопии к науке", утопия рассматривалась как преодоленная, изжитая, превращенная форма социально-исторического творчества, не имеющая после своего претворения в реальность социалистического общества, объективных причин для репродуцирования и развития. Развоплощение утопии в отечественной марксистской обществоведческой традиции привело к тому, что утопия перестала быть предметом серьезного объективного исследования, а все ее разнообразие свелось в основном к социалистической и коммунистической разновидностям. Поэтому утопию изучали в рамках истории социалистических идей1 основном на западноевропейском материале. Иные же формы утопии трактовались как проявление кризиса буржуазного общества, буржуазного сознания2. Такой подход, связанный с изначально заданной оценкой, выводил за пределы научного интереса русскую утопическую мысль, не отвечавшую, за редким исключением, критериям классической социалистической и коммунистической утопии и отличавшуюся колоссальным разнообразием форм и оттенков. Поэтому большинство отечественных утопий ХІХ-начала XX вв. остались вне рамок собственно философского анализа, являясь предметом интереса только литературоведов и библиографов. Плохое знание отечественной утопической традиции привело к формированию устойчивого стереотипа в ее оценке, как лишенной самобытности и оригинальности, почти целиком (и по форме и по содержанию) повторяющей западноевропейские утопические образцы.
В нашей литературе почти нет работ, рассматривающих исторические формы и традиции русского утопизма и изучающих утопическое сознание как целостный феномен.
Данное положение стало постепенно исправляться только в последнее время, когда появились интересные исследования, впервые пытающиеся объективно разобраться с утопической традицией в русской культуре3.
Этому способствовали как имманентные причины, связанные с потребностями развития современной отечественной гуманитаристики, так и та политическая ситуация, которая характерна для современной России. Переоценка ценностей, потребности новой самоидентификации, самоопределения, саморефлексии, сложности этапа "межкультурья" породили не только большое количество литературы, пытающейся разобраться со старыми мифами и порождающей новые,
1Работы В.Волгина, М.Авдеевой, М.Барга, Н.Бочкарева, Г.Водолазова, А.Володина, В.Далина, Н.Застенкера, М.Захаровой, И.Зильберфарба, К.Кузнецова, Г.Кучеренко, В.Малинина, И.Осиповского, Л.Чиколини, А.Штекли и др.
См. работы Э.Араб-Оглы, А.Иконникова, В.Шестакова, Н.Федоркина, В.Тимофеева.
3Работы Н.Арсентьевой, С.Батраковой, Э.Баталова, И.Вишева, Р.Гальцевой, А.Клибанова, Д.Ляликова, Б.Ланина, С.Семеновой, Д.Сарабьянова, В.Чаликовой, К.Чистова.
но и вызвали к жизни те архетипы общественного сознания, оживление которых редко проходит безнаказанным в нашей истории.
Проблемы развития современного общества диктуют необходимость
всестороннего и разноуровнего изучения утопии. Нарастание процессов
ремифологизации общественного сознания, манипулирования общественным
мнением и социальным поведением людей, создание новых глобальных проектов
перестройки общества, цивилизации в целом, заставляют вспомнить о разнокачественности утопии, об уже апробированных механизмах в попытке ее реализации. В связи с этим можно прогнозировать возрастание интереса к проблемам утопического моделирования и к истории утопических учений в отечественной обществоведческой литературе.
В контексте сказанного, представляется очевидной актуальность предпринятого исследования и его прикладная значимость: проблемы динамики утопического сознания, его форм, уровней, особенностей, исследование народных утопий в их исторической перспективе и корреспондированности с утопическими проектами дворянства и разночинной интеллигенции, прояснение тех смыслов утопического, которых касались в своих работах философы конца Х1Х-начала XX вв., позволят вскрыть историю формирования и смысл тех социокультурных мифологем, которые активно циркулируют в общественном сознании до сих пор, порождая возможность их современной рекомбинации и новых попыток актуализации. Изучение данных проблем позволит разглядеть за процессами ремифологизации сознания масс новую попытку претворения утопии, будет способствовать выработке адекватных превентивных мер на основе знания механизмов динамики утопических идеалов в контексте русской культуры конца XIX-начала XX вв. Кроме того, актуальность данной работы обусловлена потребностью осмысления тех сочинений отечественных мыслителей, которые долгое время по разным причинам оставались как бы за рамками философского интереса современных авторов. Исследование их идей даст возможность проследить саморефлексию русского общества в переломную эпоху, когда последствия очередной модернизации только начали сказываться на состоянии общества и его духовных институтов. Данный период сопоставим, с определенными оговорками, с особенностями того состояния, которое переживает наша страна сегодня. Наконец, изучение проблем, выделенных в диссертации, позволяет охарактеризовать архетипы народного сознания, которые напрямую влияют на динамику фольклорной культуры, во многом определяя характер народных ожиданий и современные поведенческие стереотипы, без учета которых невозможна ни одна серьезная политико-социальная инициатива.
Целью данного исследования является выявление характерных особенностей утопического сознания и утопических систем в социокультурном и философском контексте России переломной эпохи (конец Х1Х-начало XX вв.).
Безусловно, исследование такого рода не может претендовать на завершенный характер, поскольку автор не претендует на всеохватность освещения данной проблематики, ограничиваясь изучением особенностей русской народной утопии в ее соотносимости с теми утопическими проектами, которые разрабатывались в разночинно-интеллигентской и дворянской среде с использованием стереотипов и мифологем народного утопического сознания.
В соответствии с отмеченной общей целью исследования требовалось решить следующие подчиненные ей конкретные задачи:
проанализировать особенности русской народной утопии, изучение которой в отечественной философской литературе только начинается и без которой трудно понять те процессы, которые были характерны для утопического сознания высших сословий России конца Х1Х-начала XX вв.;
провести анализ народной утопии в ее сопоставлении с православными идеалами;
вычленить архетипические понятия, которые имеют наибольшее значение для народной утопической традиции;
- показать трансформацию утопических стереотипов в дворянских и
разночинно-интеллигентских утопических системах конца Х1Х-начала XX вв.;
выявить философские и социокультурные основания "элитных" утопий, проследить в них инверсию смыслов, представленных в народном утопическом творчестве;
раскрыть влияние процессов реформации и модернизации на эволюцию отечественных утопических систем;
изучить те утопические идеи, которые до сих пор оставались вне интереса отечественных исследователей;
выявить особенности русской утопической мысли в контексте философских исканий конца Х1Х-начала XX вв.;
проанализировать различные формы утопии, укоренившиеся в сознании интеллигенции и народа в этот период.
Таким образом, феномен утопического изучается как социокультурное явление, характерное для умонастроений эпохи, затронувшее все слои русского общества, получившее воплощение во всех сферах духовной культуры России в интересующий нас период.
Обширность и неисчерпаемость предмета исследования привели к необходимости четкого очерчивания круга утопических идей, интересующих нас в первую очередь. Помимо народной утопии выделены те утопические концепции, которые развивались, казалось бы, на сходных с ней основаниях и идеалах, но стремились к иным целям и задачам. Учитывая, что изучению и анализу социалистических и коммунистических утопических систем в России посвящена обширнейшая литература, включающая сотни наименований, мы сочли возможным ограничиться утопическими концепциями, только начинающими входить в область научных интересов отечественных гуманитариев: это теократическая утопия П.Чаадаева, "утопия ордена" М.Дмитриева-Мамонова, сциентистская утопия В.Одоевского, эстетические утопии В.Иванова, В.Кандинского, К.Малевича, космологическая утопия К.Циолковского и идеократическая утопия А.Богданова. Мы сознательно не затрагиваем "славянофильскую" и "западническую" утопические концепции. Отчасти потому, что они глубоко освещены в известной работе Анджея Валицкого "В кругу консервативной утопии: Структура и видоизменения русского славянофильства", отчасти потому, что идеи славянофилов и западников, носящие утопический характер, в скрытом виде содержатся в тех концепциях, которые нами выделены и будут косвенно затронуты и проанализированы. Мы не останавливаемся также на анализе народнических утопий, так как они разносторонне охарактеризованы в многочисленных публикациях советских авторов.
Методологическая основа диссертации.
Специфика подхода к проблеме в настоящей работе заключается не только в
многоаспектности рассмотрения утопического сознания и. утопических систем в контексте отечественных социально-политических традиций, но и в отказе от жесткого разграничения якобы безусловно прогрессивной социалистической утопии и иных ее форм и видов, как инволюционных и консервативных. Анализ отечественной утопии конца Х1Х-начала XX вв. методологически основывается на принципе корреляционных связей и интегративных факторов в общественном сознании. Поэтому упор сделан на социокультурный подход в осмыслении феномена отечественных утопий, недостаточно пока оцениваемый нашей гуманитаристикой. Утопия понимается прежде всего как результат духовной деятельности определенного типа, протекающей в определенных социокультурных условиях, как феномен, имеющий изоморфную структуру, обладающий поливалентными, сложными взаимосвязями входящих в него компонентов, отражающий результаты специфических особенностей национально-этнического культурогенеза.
Потребности развития современного общества заставляют анализировать утопию не в ее сугубо иллюзорной ипостаси, а в прагматическом контексте, в ее корреспондированности с высшими социокультурными ценностями и смыслами, порождающими не только культурные ориентации, но и поведенческие акты определенного характера. Социологизация утопии, не позволявшая в полной мере уяснить ее амбивалентность и разнообразие форм проявления, была напрямую связана с осознанными упрощениями в ее трактовке, что не давало возможности проследить имманентные особенности ее собственного развития и социокультурного бытования. Такой подход сказался не только на классификации и типологизации утопий, принятых в отечественной литературе, но и на общепризнанном понимании утопии преимущественно как продукта действия отчужденного сознания. При этом игнорировалось, что утопия может предстать как результат деятельности отчуждающего, нигилистического сознания, отстаивающего право на манипулирование действительностью.
Принципиальное значение имеет попытка рассмотрения утопии в контексте взаимодействия духовных феноменов, прежде всего таких, как идеология, религия, художественное, мифологическое сознание. Не только привычные компоненты общественного сознания, но и утопия может выступать действенным фактором миропонимания и конструирования картины мира определенного типа, может повлиять на стиль мышления эпохи, на политический климат, ролевое социальное поведение, конструирование идеала политической власти и социальных целей.
Научная новизна исследования.
В рамках отечественной традиции изучения утопии и утопического сознания фактически не предпринималась попытка рассмотреть различные формы утопии в России Х1Х-начала XX вв. в их взаимной соотносимости. Это возможно было осуществить, только учитывая социокультурный контекст, в рамках которого сосуществовали утопии на уровнях низовой и элитной культур. Понимание утопии прежде всего как социокультурного феномена позволило вычленить архетипы утопического сознания, проследить их историко-генетическую модификацию в народной, дворянской и разночинно-интеллигентской утопии, подчеркнуть их влияние на социально-политические ориентации масс. Такой подход дал возможность акцентировать внимание на утопии как на результате объективации превращенного, отчуждающего типа сознания, что многое объясняло в развитии исторической и политической ситуации в России на рубеже XIX-XX вв. Анализ
русской утопической традиции сопрягался с теми факторами, которые вызывали к жизни постоянную репродукцию утопических мотивов. Утопия анализируется как феномен, порождающий определенную картину мира, с которой и связаны ожидания и чаяния, материализующиеся в утопических проектах.
Особое внимание уделялось тем утопическим системам, которые не нашли еще должного осмысления в отечественной гуманитаристике. Раскрытие основных положений диссертации осуществлялось с использованием наиболее интересных современных зарубежных работ, пока не вошедших в библиографический контекст наших обществоведов. Все это позволило дать более широкий срез бытования утопии в российском обществе Х1Х-начала XX вв., раскрыв особую роль утопического сознания для историко-политического и социокультурного развития России.
Практическая ценность работы.
Результаты данного исследования могут служить основой для дальнейшей разработки проблем, связанных с рефлексией утопии и утопического сознания, с осмыслением особенностей социокультурного и государственно-политического развития России, с прояснением обратного влияния утопических установок на социально значимое поведение и на выработку социально-политических стратегем различных групп и слоев современного общества. Материалы диссертации могут помочь при изучении вопросов, сопряженных с практиками психолингвистического программирования, с проблемами, порожденными художественными установками модернистского и постмодернистского искусства. Результаты данной работы имеют актуальность при изучении современных форм фольклорной культуры и процессов ремифологизации массового сознания. Материалы диссертации могут быть эффективно использованы при разработке и чтении курсов культурологии, эстетики, философии, религиоведения. Некоторые выводы, содержащиеся в работе, могут помочь при разработке программ по социально-политическому стратегическому планированию, при организации культурно-антропологических и этнографических исследований, при прогнозировании социально значимых реакций на те или иные политические инициативы и реформы.
Апробация работы.
Результаты предпринятого исследования на разных его этапах и по различным аспектам общей проблематики диссертации отражены в монографии, статьях и выступлениях на ряде международных, всероссийских и региональных философских, научных и научно-практических конференций. Диссертация была обсуждена на кафедре философии МПГУ им. В.И.Ленина, на докторантском семинаре ИППК МГУ им. М.В.Ломоносова, на кафедре эстетики философского факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. Материалы диссертационного исследования легли в основу спецкурсов, читаемых для слушателей Республиканского инсти+тута повышения квалификации работников образования, кафедры культурологии ИППК МГУ им. М.В.Ломоносова. Они использовались также при чтении спецкурсов для студентов и аспирантов МПГУ им. В.И.Ленина, Республиканского института повышения квалификации работников образования, Российского открытого университета при АПН РФ.
Утопия как предмет социокультурного анализа
В научной литературе можно найти более двадцати различных определений утопии и почти столько же вариантов ее классификации. Чаще всего природа и сущность утопии связываются с динамикой литероатурного жанра или историей социальной мысли. Явление утопии так имноголико, многолико, что допускает различные толкования. Нас интересует прежде всего утопия как социокультурный і феномен4, как специфическое отношение к действительности, связанное с созданием определенной картины мира и определенной концепции социокультурного бытия.
Понимаемая как социокультурный феномен, утопия связывается прежде всего со способностью человеческого сознания рекомбинировать действительность в соответствии с трансцендентальным идеалом, реконструировать ее при помощи манипулирования привычными, хорошо известными объектами. Отсюда конкретная наглядность, убедительность, историческая соотнесенность и дидактичность утопии. Утопия преодолевает антиномичность социокультурного бытия, снимая любое противоречие утверждением абсолютного. Моделирование реальности с точки зрения воплощенного идеала воспроизводит замкнутую систему мира, гармоничную в своем совершенстве, завершенную и не требующую никакого развития. Поэтому время в утопии приобретает характер аберрации. Отнесенный в будущее идеал кажется воплощенным, воплощенное прошлое воспринимается желанным будущим.
Отсутствие в мире утопии развития задает две особенности, которые являются определяющими для утопической традиции: нацеленная на "золотой век" в будущем, утопия находит его в традиционном прошлом; традиция же, просачиваясь в конструируемую модель, привносит с собой требование бесконечной воспроизводимости, "дурной повторяемости", уничтожение исторического времени, ритуализацию существующего, закрепление раз найденных социальных ролей. Кроме того, интеллигибельное постижение реальности в утопии утверждает догмат разума, господствующий и при создании модели, и при доказательстве ее "истинности", и при обосновании необходимости ее реализации. Утопия не требует подтверждения эмоционального, это, скорее, черта антиутопии, она нацелена на интуитивную убежденность в разумности человека и общества, которым требуется для совершенства лишь одно: принять рационально выверенный проект будущего к осуществлению и подвергнуть мнимые совершенства настоящего рациональной переоценке. При этом в народной утопической традиции при создании "проектов будущего" особое значение обретают ссылки на авторитет текстов, лежащих в основании тех или иных утопических идей, и на коллективный характер усилий по их дальнейшему развитию.
Говоря об утопии как о социокультурном феномене, можно выделить те доминантные принципы, на которых она строится, которые лежат в основе многочисленных утопических метаморфоз. Это прежде всего идея о всеобщем естественном равенстве людей; догмат о необходимости возвращения общества в состояние первоначальной справедливости; это . идея естественного неотчуждаемого права человека на счастье и его права на выбор той жизни, которая соответствует данной идее. Кроме того, это концепция о возможности передачи отчужденных естественных прав личности тому историческому лицу, которое по своему статусу может и обязано их защитить и воплотить в жизнь. На основе этого принципа развиваются харизматические, патерналистские, мессианские утопические ориентации. Для утопического образа мышления огромную важность имеют и понятия "воли", неотчуждаемого права человека на свободу, которая понимается в утопии чаще всего как "свобода от", а не "свобода для". Наконец, это апология чуда, которое постулируется как средство сакрализации или десакрализации истории, в зависимости от типа утопии. Кроме того, утопия связана с признанием конечности исторического времени или с его дискретностью. Отнесенность утопии во времени требует ее отнесенности в пространстве, когда она находится как бы "и здесь и не здесь". С этим связана апология странничества, целенаправленного поиска Утопии или ее случайного обнаружения. В любом случае, утопия не дарится, она обретается в результате либо умственных, либо физических усилий, являя собой концепцию претворенной природы гуманного человека, человека "для других", а не только "для себя".
Утопия - предельная форма интеллигибельных попыток рекомбинации социального в пользу интересов той или иной общественной группы. Способом такой рекомбинации очень часто выступает язык, а семиозис трактуется как средство социального моделирования. С этим связана и особенность "проговаривания", объяснения утопии, что рассматривается как реальное приобщение к ней, реальное обретение социального совершенства. Овладение реальностью в утопии может идти двумя путями. С одной стороны, оно связано с сакрализацией истории посредством создания нового семиотического контекста. С другой стороны, - с десакрализациеи социального путем его пересоздания на иных основаниях. При этом пересозданию могут подвергаться все факторы социального бытия, или может выделяться только один - определяющий, системоорганизующий, кардинальное изменение которого ведет к полной трансформации действительности: этический, эстетический, религиозный, научный, идеологический, политический, технологический. Чем больше зависимость социальной группы, создающей утопию, от условий своего существования, тем большее значение приобретают элементы сакрализации.
В определенном смысле утопию можно трактовать как своеобразную "мифологию"5, существующую в антиномичных социальных условиях и нацеленную на воссоздание гармоничного единства социального бытия. Для народного сознания утопия часто и была такой "квазимифологией", при помощи которой осмысливались сложные социокультурные ситуации и создавались модели будущего. Утопия похожа, прежде всего, на эсхатологические мифы, до сих пор бытующие в народном сознании. Но в отличие от мифа, утопия не требует веры в свою реальность, не требует действий, сопряженных с проигрыванием, воспроизведением мифологической ситуации. Сопряжение мифа и утопии ярче всего прослеживается в русских народных утопиях XVIII-XIX вв., в феномене самозванчества, в эстетических утопиях начала XX в. С другой стороны, утопия сама творит мифы, под обаянием которых проходила вся история XX века. Новые мифы двойственны, как двойственно само общественное сознание XX века. "С одной стороны, - замечает Р.Гальцева, - это вроде бы миф, поскольку... дело не идет о поисках истины; но это и не совсем миф - ибо здесь нет веры в собственную достоверность. Это - миф, поскольку он апеллирует к досознательным или подсознательным всеобщим структурам и как будто бы воспроизводит дорефлективную целостность мировосприятия; и это - не миф, ибо такая цельность - лишь более или менее искусная имитация; будучи на самом деле продуктом изощренной субъективной рефлексии, современная мифологема хорошо знает о своей предумышленности. И, наконец, это миф, в той степени, в какой он предназначен для коллективного пользования (и - действительно становится объектом веры со стороны захваченных в его орбиту обширных коллективов); но это и не миф, ибо тут нет и тени спонтанного коллективного творчества"6.
Утопия как попытка преодоления разрыва между сущим и должным, идеальным и реальным, постулируемым и воплощенным, как попытка воссоздания целостного непротиворечивого существования всегда сопутствует человеку в его поисках абсолютного. В этом плане утопия существует, пока существует человек.
Утопия всегда субъективна: сознание "утопизирует" действительность, идеализирует некоторые ее элементы, полагает их такими, какими хотело бы их видеть, какими они должны были бы быть. Поэтому за кажущейся дескриптивностью утопии всегда скрывается ее нормативность, за фантазийностью компенсаторность, за аллегоричностью - проективность, за метафоричностью -интегративность. Утопическое сознание деструктурирует реальность на основе сознательного полагания нового социального идеала и рекомбинирует ее для устранения экзистенциальных противоречий с целью иллюзорного овладения социальной тканью бытия для ее гармонизации.
Утопия и народное самосознание
Динамика утопии как социокультурного явления в рамках народной культурной традиции сопряжена прежде всего с эволюцией фольклорных форм. В фольклоре реализуется культурно-этническое самосознание народа, вырабатываются символы и мифологемы, в которых оно кодируется и ретранслируется. Через и посредством фольклорных форм осуществляется мифологическое восполнение жизни, ее трансформация на основе перекомбинации реальности с точки зрения народного идеала. Фольклор тесно связан с утопией, так как он воссоздает жизнь "возможную", а не действительную, жизнь, которая должна была бы быть согласно представлениям народа о справедливости, добре и свободе. Фольклорное мировосприятие, базирующееся на традициях народной экзистенции, продуцируя универсальную картину мира, через саму эту универсальность связано с утопическим восполнением действительности. Утопия через мифологемы и архетипы архаического сознания традиционного типа может эффективно реализовываться в фольклорных формах, определяя не только модели будущего в народном сознании, но и способы их реализации. Сами фольклорные формы, в которые может отливаться утопия, не только обладают повышенной воспроизводимостью и инерционностью, но и располагают специфическими каналами обратного воздействия на народное сознание, порождая определенные установки, мотивации и ожидания, а также соответствующие им формы и способы деятельности. Картина мира, развертывающаяся и закрепляющаяся в традиционном народном сознании, определяет структурную систему универсума, упорядочивающую мировой хаос при помощи принятой иерархии ценностей. В эту картину мира входит как сам человек, определивший свое место и роль в результате отрефлексированного онтологического опыта, так и парадигма его действий в данной, общепринятой системе ценностных координат. На основе выработанной картины мира человек не только действует, познает, преобразует действительность, но и оценивает все ее стороны строго определенным образом. Отбор "культурных установлений", как отмечает Рут Бенедикт в книге "Модели культуры"33, и делает данную культуру тем, чем она является. Система "установлений" данной культуры обратно влияет на избирательность восприятия, характер мироотношения, на оценку "чужой" культуры, выбор культурно-обусловленных образцов поведения. Обобщенное представление о мире, отраженное в определенным образом организованных понятиях о природе, месте в ней человека, об отношениях к другому человеку, о желательном и нежелательном в межчеловеческих взаимодействиях и отношениях с миром, - которое и определяет поведение людей, можно вслед за Клайдом Клакхоном назвать "обобщенной ценностной ориентацией"34. Ценностные ориентации, наиболее характерные для данной культуры, чаще всего аккумулируются на элитарном уровне, так как элита в силу своих социокультурных характеристик более ясно, полно, типически воплощает ценности, присущие народу, чем другие слои. Данный феномен связан с понятием "большой" и "малой" традиции, которое ввел Роберт Редфилд35. "Большая" традиция - это совокупность ценностных ориентации и соответствующих им форм поведения, свойственных "рефлексирующему меньшинству" в рамках данной культуры. "Малая" традиция присуща большинству, "не склонному к рефлексии". Данные традиции тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены, являясь единством противоположностей и порождая каждая специфическую культуру и ее субъектов-носителей. Противоречивый характер существования этих традиций в рамках единой национальной культуры проявляется в том, что часто внутриэтнические различия, т.е. различия между социальными слоями одной нации, намного превосходят межэтнические. Такая ситуация была всегда характерна для нашей страны.
Культура "малой" традиции, или народная культура, которая тесно сопряжена с этническими элементами, определяющими ее национальную самобытность, достаточно жестко связана с социально-политическими факторами культурно-исторического процесса, имеющими более позднее происхождение. Социально-политическая доминанта в национальной культуре сопряжена в основном с деятельностью субъектов "большой" традиции, она опосредована инерционностью механизмов функционирования народной культуры. Именно поэтому любые процессы модернизации и реформации национальной культуры в первую очередь затрагивают более мобильную культуру "большой" традиции. Эти же процессы на уровне традиционной культуры выступают как кризисные явления, угрожающие национальным приоритетам и ценностям. При общей для культур "малой" и "большой" традиций этнической основе, но их разной ценностной ориентации, возникает сложный и многоуровневый конфликт двух мировоззренческих систем, которые функционируют, как бы не учитывая наличия друг друга. Результатом этого и выступает культурный кризис, как попытка преодоления дихотомичности национальной культуры. В русской истории такая ситуация воспроизводилась достаточно регулярно36. Уже со времени реформ Петра I образ европейской цивилизации декларировался как желательный, должный, как образец для национальной культуры, в то время как этническая, базовая "обобщенная ценностная ориентация" трактовалась как данность, имеющая отрицательные характеристики. Данная ориентация только усугубляла объективно сложившиеся напряжения внутри национальной культуры, которые изживались либо в утопических фантазиях, либо в активизации сложных психологических механизмов, позволяющих защитить традиционные ценности. Известный этнопсихолог Г.Горер отмечал, что русская традиционная культура всегда для самосохранения репродуцировала специфический психологический механизм восприятия: народная культура использовала "избирательное восприятие и избирательную рефлексию, которые позволяли видеть только то, что помогало сохранить национально-культурную идентичность"3 . С этими процессами тесно связана архаизация народного сознания, быстрая активизация традиционных архетипов и мифологем, которая всегда сопутствует развитию кризисных явлений в национальной культуре.
Одновременно с нарастанием деструктивных факторов воспроизводился и свойственный для русского народного сознания характер реагирования на кризисную ситуацию: традиционная культура как бы "вбирала" в себя внешнюю конфликтность, нейтрализуя, "отыгрывая" ее исключительно внутри себя. Лишенная агрессивной наступательности, традиционная народная культура постоянно воспроизводила, разыгрывала одну и ту же драму собственного существования, неограниченного, казалось, никакими пространственно-временными рамками реальных социополитических и географических детерминант. Народная культура решала кризисные проблемы способом "втягивания" причин конфликта в себя, их постепенного "погашения поглощением"38 без изменения своей традиционной ценностной ориентации, своей архаической сути. Существование такого механизма в русской национальной культуре придает особое значение рефлексии тех ценностных ориентации, которые выступают как доминанты в традиционно-этнической картине мира, которые отражают глубинные и почти неосознаваемые стереотипные модели восприятия времени, пространства, мира, человека, способов действия. Данные стереотипы оказывают огромное влияние на все духовные проявления культуры, в том числе и на утопические ориентации общественного сознания.
Рефлексия народной культуры и народной утопии в русской общественно-политической мысли конца ХІХ-начала XX вв
Пристальное внимание к народной культуре, народной психологии, народной утопии, которое стало в России ярко выраженным с 40-50-х гг. XIX века, как уже отмечалось, было обусловлено не только потребностью понять механизмы национального развития, характер действия народных масс, те факторы, которые лежали в основе народного социально-культурного бытия, но и необходимостью осмысления российского общества как целостного феномена, роли интеллигенции в народной жизни и влияния стереотипов народного сознания на элитную культуру.
Рост национального самосознания, знакомство с западноевропейской культурной антропологией, этнопсихологией, социологией давало возможность по-новому, более широко, взглянуть на феномен "народа", понять его структурную неоднородность, начать изучение проблем массовой психологии. Работы М.Лацаруса, Г.Штейнталя - основателей этнопсихологии, В.Вундта - автора гипотезы о связи "народного духа" с особенностями национальной культуры, труды С.Сигеля, Я.Гримма, П.Гильтенбрандта, М.Мюллера, И.Тэна, Э.Тайлора, Т.Рибо, Г.Тарда, Г.Зиммеля, Г.Лебона, Г.Риккерта и идеи "позитивной философии" О.Конта, Г.Спенсера, Дж.Милля были хорошо известны в России, оказав существенное влияние на понимание отечественными мыслителями специфики российской культуры и истории.
В этот период появляется целая плеяда отечественных исследователей народной психологии и культуры: А.Пыпин, А.Потебня, М.Касторский, А.Котляревский, Ф.Буслаев, А.Афанасьев, О. и Вс.Миллеры, Н.Тихонравов, В.Бехтерев и многие другие.
Одновременно процесс изучения народа шел в рамках философских интересов дворянской интеллигенции, которые формировались под воздействием немецкого идеализма (прежде всего шеллингианства) и романтизма, руссоистских идей, отголосков масонских концепций и мистических учений. Синтез и трансформация этих идей вылились в многочисленные дворянские утопические проекты социального переустройства России. Утопия объективировалась в политических программах декабристов, в проектных разработках А.Грибоедова, в философских рассуждениях П.Чаадаева, в литературных произведениях М.Щербатова, А.Радищева, А.Улыбышева, В.Одоевского, Г.Данилевского, Ф.Достоевского, Л.Толстого, Ф.Эмина, В.Левшина, М.Хераскова, А.Вельтмана, Г.Успенского, С.Степняк-Кравчинского, П.Мельникова-Печерского, Н.Лескова и многих других.
Вопросы социально-психологической обусловленности культурно-исторического развития народа рассматривались и в работах Е.Роберти, П.Струве, Н.Бердяева, С.Бунчакова, А.Введенского, Л.Владиславлева, М.Троицкого, М.Рейснера. В рамках нашей проблематики наибольший интерес представляет отечественная социально-психологическая школа, развитие которой связано с именами М.Ковалевского, В.Хвостова, Л.Петражицкого, Н.Кареева, Н.Михайловского, П.Сорокина. Именно в их работах прослеживается попытка раскрыть особенности психологических оснований социального отражения, изучить специфику русского общества, исходя из социопсихологической типологии, вычленить формы и механизмы действия массы, толпы, которые чаще всего и трактовались как "народ". Напомним, что вплоть до конца XIX века "народ" не входил в понятие "общества", и отношение к "подлому сословию" в русской общественно-политической мысли было далеко неоднозначным.
Ко второй половине XIX века оказалось, что "народ" совсем не так прост, как полагали либерально и революционно настроенные представители дворянского сословия, что он гораздо более самодостаточен и консервативен, чем считалось, что все просвещенческие и образовательные программы, все "хождения в народ" не оправдали себя. "В XIX в. пропасть между народом, носителями и выразителями власти только усугубилась. Народ не поддержал декабристов. Он отторгал все усилия интеллигенции по сближению с ним. Народная стихия оставалась таинственной силой для национальной элиты. Создавалось впечатление, что народ безмолвствовал и ждал своего часа для того, чтобы сказать последнее слово"1 5, -отмечает К.Монтине.
"Идеальный мужик", сотворенный общественно-политической мыслью радикального толка и поставленный в центр ценностных ориентации эпохи как феномен, за который надо сражаться, совершать подвиги и умирать, даруя ему долгожданное освобождение и отдавая "вековые долги", на поверку оказался совсем не таким, каким его представляли декабристы, народники, славянофилы, западники и т.д. Недооценка его реальных черт, своеобразия менталитета породили кризисные ситуации в самом дворянском сознании, не говоря уже о роковых последствиях такой недооценки в условиях реформационных и революционных изменений в обществе. Утопичность славянофильского идеала, нацеленного на патриархальное единение с крестьянским "миром" на почве веры в бога, царя и мужицкую общину, была ничуть не лучше западнической модели русского народа. Последняя рождала убежденность в его косности, отсталости, покорности, продуцируя стереотип отношения к народу как к объекту социальных экспериментов и веру в моральность и необходимость таких воздействий. Западники, взяв за идеал современную Европу, неосознанно внесли в русский менталитет ориентацию не на лучшие образцы социального европейского контекста, а на наличное европейское бытие, заземлив тем самым "должное" на "реальное". Подмена тезиса привела, в конечном счете, только к укреплению традиционной ориентации российской мысли: в ней "... преобладает моральный элемент над метафизическим, и за ней скрыта жажда преображения мира"126. Именно отсюда проистекало глубокое разочарование в Западной Европе (как реальной, так и идеальной), которое отразил "главный западник России" А.Герцен, то разочарование, которое привело к реанимации уже "отработанной", отрефлексированной идеи самобытничества и к глубочайшему нигилизму, характерному для дворянского и интеллигентского сознания второй половины ХІХ-начала XX вв. "Наш естественный, полудикий образ жизни более соответствует идеалу, о котором мечтала Европа, чем жизненный уклад цивилизованного германо-романского мифа, - писал А.Герцен, - то, что является для Запада только надеждой, к которой устремлены его усилия, - для нас уже действительный факт, с которого мы начинаем; угнетенные императорским самодержавием, - мы идем навстречу социализму, как ... шли навстречу христианству"127. Отсюда следовал вывод не только о близости христианства и социализма 28, но и утверждение о том, что единственная судьба русского народа -осуществление предначертанных элитой смыслов, ибо счастье русского народа не в историко-социальном самостоятельном прогрессе, а в том, что он "... остался вне всех политических движений, вне европейской цивилизации..."129. Идеал западников сомкнулся с идеалом славянофилов, породив убежденность в том, что самобытность русского народа обусловит быстрый скачок России от отсталости к процветанию, минуя многие "фазы европейского развития". Для России к концу XIX века постепенно утверждались иные цели: Европа не оправдала надежд западников, она была "слишком богата", ее народ способствовал победе буржуазных ценностей, в ней "революция была побеждена"130. Идеалом для России стала Америка. Сопоставления России и Америки, как справедливо отмечают А.де Токвиль и Э.Кинс131, были "общим местом" для того времени. Не зря, уезжая во второй половине XIX века из России, старообрядцы обосновывались не в Европе, а на американских берегах. На короткое время эта страна стала воплощением великой российской утопии. Конкретизация утопического идеала и "места" реализовывающихся утопических ожиданий приводила к еще большей активизации последних, к формированию уверенности в том, что вслед за Америкой в "земной рай" последует и Россия. Результатом стали не только недооценка действия инерционных механизмов общественного сознания, но и полное игнорирование последствий активизации утопических архетипов народной культуры в контексте процессов модернизации, проходивших в России на рубеже веков.
Теургическая утопия В.И.Иванова
В ряду социальных утопий конца ХІХ-начала XX вв. эстетические утопии занимают особое место в силу своей эмоциональной убедительности и чувственно-образной конкретности. Непосредственно связанные с жанровыми особенностями утопического творчества, они обладают целым рядом специфических черт.
Вдохновляясь идеями немецкого романтизма и ницшеанства, являясь перефразом кантовской и шеллингианскои философий, отражением неоплатонизма и ориентализма на русской почве, эстетические утопии начала XX века представляют собой эклектическую смесь идей и концепций, нацеленных на всестороннюю критику отечественной жизни с ее "закостенелыми знаками" и выработку нового императива социального бытия, высвобождающего силы истории, закрепощенные политико-государственными и морально-религиозными институтами. Отечественные эстетические утопические проекты были ответом на засилие просветительской утопии. В них красота заменяет справедливость и равенство, становясь ядром, вокруг которого аккумулируются надежды на примирение разума и веры, природы и культуры. В эстетических утопиях путь в будущее шел через новое усвоение прошлого, через, ориентацию на исторические истоки "естественного счастья". Суть эстетических утопий хорошо выразил Ф.Шиллер, отметивший, что равнодушие по отношению к реальности и интерес к видимости представляют истинное обогащение человечества и решающий шаг в культуре. Похожие мысли высказывал Г.Маркузе, подчеркивавший, что "утопия, всегда проглядывающая в великом искусстве, никогда не является простым отрицанием принципа реальности, а выступает как его снятие, в ходе которого реальность остается в утопии как тень на ее счастье"276.
Эстетические утопии - проект гипотетически возможного, и искусство создает в них модель ожидаемого общества, выступающего в виде пространственной или временной проекции контробраза критикуемой реальности. Эстетические утопии намеренно придают контробразу чувственную достоверность, представляя посредством искусства предвосхищающий опыт человеческого освобождения. При этом субъект эстетических утопий чаще всего выступает как принципиально антиэтатистское существо, актуализирующееся в мифическом пространстве новой истории. "...В эстетических утопиях начала XX века нехватка истории порождала мифологию истории, столь свойственную русскому утопическому сознанию. При этом история являлась как история должная, синхронизированная с текущим моментом и порождающая футурологические пророчества"
Непосредственно связанные с теорией перфективности, философски обоснованной И.Кантом, показавшим необходимость утопического мышления с позиций нормативной морали, и с принципом аппроксимации, эстетические утопии больше, чем любые другие, способны к реализации, создавая целевую проекцию, облеченную в чувственно-конкретную форму, обладающую достоверной убедительностью. Эстетические утопии чаще, чем утопии иных видов, используют осознанный иллюзионизм, чтобы пробудить веру в человеческое предназначение и исторический телос. В них иллюзия становится инструментом истины, вера обосновывается в поле сопряжения идеи и эмпирии. Эстетические утопии берут на себя транзисторную функцию, выступая как способ снятия трансцендентального отчуждения экзистенциального субъекта.
Эстетическая утопия, оперирующая символами и коренящаяся в мифе, становится, по словам Новалиса, "художественной религией поэзии и мифологии". Свобода творческого субъективного акта, абсолютизируемая в эстетических утопиях, часто вырождается в "утопическую анархию", которая рассматривается еще со времен А.Шлегеля как "мать революции". Тяга к совершенству и гармонии, которые в эстетических утопиях обретают онтологическую значимость безусловных принципов бытия, по своей имманентной логике неизбежно приводит к соединению творческого "мистического анархизма" и "террора красоты". Ниспровержение мира с позиций диктата эстетических идеалов приводит к вере в то, что само это ниспровержение, осуществляемое в форме "чудесного творения", обернется его преображением. Однако, как справедливо отмечает К. Кобла, "диктатура ценностей культуры, понимаемых в эстетических утопиях как единственное средство социального исправления, часто трансформируется в феномен "культурварварства" 78. Романтизация искусства как основного средства социального переустройства, тяга эстетических утопий к упразднению холодного рационализма и панлогизма, с которыми связывались все беды современной цивилизации, приводили к забвению того, что разум - это прежде всего "тотальная коммуникация" (К.Ясперс). Преодоление отчуждения сугубо эстетическими средствами оборачивалось в конечном итоге отчуждением отчужденного: утверждением декадентско-нигилистического и формалистического отношения к миру.
В эстетико-утопических построениях русских мыслителей утопия вовсе не рассматривалась как идеологически ангажированная, или как атрибут "внешнего мира". Скорее, она понималась как средство социального программирования и, в идеале, управления обществом: эстетическое сознание художника брало на себя несвойственную ему социополитическую функцию, художественная гармония рассматривалась как образец гармонии социальной, Красота выступала как смыслозадающая для Добра, индивидуальное творческое вмешательство в социальность трактовалось как необходимое и оправданное, художник объявлялся Мессией. Художественное произведение становилось символом общества, а общество - достойным совершенствования и нового оформления. Творец брал на себя новую социокультурную роль создателя новых и перетолкователя старых идеалов, ценностей и смыслов национального сознания. Новая мессианская роль художника придавала художественно-эстетическим образам и символам фундаментальность, уравнивая их со знаковыми смыслами и символами самого общественного бытия. Знак, символ, объективируясь в реальности, переделывали мир так, как задумывал творец знака и символа. Символические фантазии эстетизированного сознания объединяли гармонию рационального и хаос социального, уравнивая их в образах и значениях, рождаемых воображением творящего субъекта. Символические художественные коды переходили в коды поведенческие, трансформируя реальность в соответствии с развиваемыми художником смыслами. Превращение эстетической утопии в специфическую символическую систему сопрягалось с кризисом самого искусства: претензия искусства на то, чтобы в рамках эстетических утопий стать моделью справедливой жизни оборачивалась его "смертью". Искусство само становится формой утопического освоения жизни, производителем, поставщиком квазиутопических легенд и мифов.