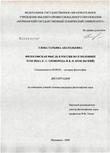Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Философские аспекты нестяжательства XV-XVI веков
1. Нестяжательство как историко-философское явление 19
2. Философские идеи «Устава» Нила Сорского 38
3. Нестяжательство XV - XVI веков как общественно-политическая идеология 76
Глава II. Философия «ученого монашества» второй половины XVIII века
1. Философские взгляды митрополита Платона (П.Е. Левшина) 99
2. Философские идеи епископа Дамаскина (Д.Е. Семенова-Руднева) 140
3. Философские аспекты «живого богословия» Тихона Задонского 166
Заключение 183
Библиографический список использованной литературы 188
Введение
- Нестяжательство как историко-философское явление
- Нестяжательство XV - XVI веков как общественно-политическая идеология
- Философские взгляды митрополита Платона (П.Е. Левшина)
- Философские аспекты «живого богословия» Тихона Задонского
Введение к работе
Актуальность темы исследования. В процессе эволюции философского мировоззрения, сопровождающем любые значительные социальные трансформации, происходят принципиальные изменения представлений о мире и месте человека в нём. Такие явления всегда остро переживаются обществом, поскольку предполагают кризис и деконструкцию устоявшейся картины мира и системы ценностей. Залог успешного преодоления мировоззренческого кризиса – в готовности мыслящих сил социума к новаторству. Но это должно быть такое новаторство, которое не исказило бы своеобразия данной общности и опиралось бы на некую органичную традицию. Современное русское общество находится в поисках пути преодоления поразившего его мировоззренческого кризиса. Поэтому принципиальное значение имеет анализ мировоззренческих процессов аналогичных переломных эпох в отечественной истории.
В данной работе эти процессы исследуются через призму взаимодействия русского средневекового и просветительского мировоззрений. Русское Просвещение рассматривается как новаторская эпоха, в особых формах востребовавшая сложившийся в русском средневековье идейный запас ради сохранения своеобразия национального самосознания. Эту непростую задачу решало «учёное монашество» второй половины XVIII века, стремившееся к синтезу средневекового и просветительского мировоззрений. «Учёные монахи» опирались на идейную традицию русской философской и богословской мысли позднего средневековья, т.е. времени, для которого также был характерен острый мировоззренческий кризис. В русской мысли позднего средневековья аналогичную роль сыграло нестяжательство, преодолевшее мифологические пережитки и сословную ограниченность мышления своего времени, но опиравшееся при этом на восточно-христианскую традицию исихазма. В этом свете сравнение философских идей нестяжателей и «учёных монахов» второй половины XVIII века выглядит наиболее актуальным и репрезентативным.
Степень исследованности проблемы. Перед историками русской философии и культуры всегда остро стояла проблема преемственности двух этапов развития отечественной мысли, охватывающих вместе период её становления – с XI по XVIII век. Первый этап, прошедший под знаменем византийской патристики, казалось бы, отрицается другим этапом – русским Просвещением, ориентировавшимся на секуляризованную или внеконфессиональную религиозную мысль Западной Европы. И только в XIX веке обе традиции выступают явно и одновременно, и в определённом смысле наступает их синтез. Эта стройная триадическая схема таит в себе опасность разрыва связи между философско-богословской мыслью средневековой Руси и секулярной в массе просветительской мыслью петербургского периода. Чтобы избежать этого, необходимо высветить и исследовать такие формы и направления русской просветительской мысли, в которых прежняя, присущая русскому средневековью, традиция сохранялась и развивалась в снятом состоянии.
Однако и здесь существует некоторая трудность. С одной стороны, наиболее логичным выглядит поиск соответствующих форм философствования в наследии того же социального слоя, который лидировал в развитии русской средневековой мысли, т.е. в философско-богословском наследии монашества. С другой стороны, как раз его-то долгое время не было принято включать в рамки просветительской философии, что объяснялось стремлением мерить русское Просвещение меркой французского, в котором атеизм действительно был одной из атрибутивных черт.
Пересмотр такого отношения к культурному наследию русского духовенства стал важной заслугой П.С. Шкуринова, последовательно реализовавшего в своих исследованиях принцип философского плюрализма. Это позволило, наконец, осознать внутреннее богатство т.н. «религиозного крыла российского Просвещения», которое теперь в представлении историков философии включает не только внеконфессиональное масонство, но и в первую очередь – православную философско-богословскую мысль.
Таким образом, перед нами открывается возможность сравнительного анализа наиболее развитых направлений русской средневековой традиции и таких форм религиозно-просветительской мысли, которые сочетали в себе её наследие и собственно просветительские черты.
Как таковая, проблема преемственности мировоззренческих эпох в сознании русского чёрного духовенства ставилась неоднократно, но – в рамках обобщающих трудов, прослеживавших всю историю русской церкви или богословия. Особенно следует отметить историософские выводы таких классиков и современников отечественной мысли, как В.В.Зеньковский, А.В. Карташев, Г.В. Флоровский, Г.П. Федотов, Н.А. Бердяев, С.С. Аверинцев, Н.К. Гаврюшин, В.В. Сербиненко, М.А. Маслин, С.С. Хоружий, М.Н. Громов, А.Ф. Замалеев, Л.Е. Шапошников.
Однако применительно к рассматриваемым в диссертации явлениям соответствующие изыскания предпринимались пока только «первооткрывателем» философии «платоновской школы» - П.В. Калитиным. При этом сформулированные им положения не имеют и, наверное, не могут получить однозначной оценки. В связи с этим в данной диссертации делается попытка сопоставления обозначенных явлений в рамках традиционной философской парадигмы.
Историографическая ситуация для этой цели может считаться благоприятной. Наибольшую традицию исследования имеет, разумеется, нестяжательство, которому, начиная с А.С. Архангельского, посвятили свои труды многие философы, историки философии и общественной мысли: А.А. Галактионов, Л.Ф. Никандров, М.Н. Громов, Н.С. Козлов, В.В. Мильков, В.В. Кожинов, А.Ф. Замалеев, Ф. фон Лилиенфельд, В.Ф. Пустарнаков, В.А. Бачинин, О.Б. Ионайтис, Е.П. Наделяева, Е.В. Романенко, Т. В. Чумакова и др.
Особое значение имеют источниковедческие работы Я.С. Лурье, Н.А. Казаковой, Г.М. Прохорова, А.И. Плигузова, Л.Е. Морозовой и др.
Философско-богословская мысль «учёного монашества», долгое время недооценивавшаяся даже конфессиональными мыслителями и исследователями, стала предметом анализа П.С. Шкуринова, П.В. Калитина, Н.А. Лебедевой, Е.П. Титкова, А.Ф. Замалеева, А.И. Болдырева, И. Маслова, Н. Павлыка и др.
По методологическим вопросам привлекались работы И. Мейендорфа, А.Н. Чанышева, М.Н. Громова, М.А. Маслина, Л.Е. Шапошникова, С.С. Хоружего, Т.В. Артемьевой, Д.В. Субботина, Н.И. Сазоновой и др.
Объектом сравнительного историко-философского исследования в рамках данной работы выступает философско-богословское и идеологическое наследие нестяжательства рубежа XV-XVI веков с одной стороны, и философско-богословское и общественно-политическое наследие «учёного монашества», персонализированного в лице Платона (Левшина), Дамаскина (Руднева) и Тихона Задонского, с другой. Предметом исследования является философско-религиозное мировоззрение русского монашества в его классическом выражении в корпусе нестяжательских памятников и в сочинениях русских иерархов конца XVIII века.
Целью работы является определение идейного содержания нестяжательской традиции и закономерностей её сохранения, трансформации и развития в рамках «учёного монашества».
Система задач исследования предполагает:
1) выявление значимости нестяжательства как историко-философского явления для развития философской мысли в средневековой Руси;
2) экспликацию комплекса собственно философских идей, бытовавших в нестяжательстве, - в первую очередь в сравнении с идеями основополагающей для нестяжательства традиции византийского исихазма;
3) оценку идеологического измерения нестяжательства нач. XVI века;
4) всесторонний анализ наследия Платона (Левшина), Дамаскина (Руднева) и Тихона Задонского в аспекте выявления идейных комплексов патристического и западного (просветительского и схоластического) происхождения.
5) выделение совпадающих проблемных полей философской мысли нестяжательства и «учёного монашества»;
6) определение комплекса идей, устойчиво присущего обоим историко-философским явлениям;
7) демонстрацию закономерностей влияния просветительской мысли на традиции нестяжательства в философии «учёного монашества».
Гипотеза исследования состоит в том, что между религиозно-философским мировоззрением русского средневекового монашества, выразившемся в нестяжательской доктрине, и религиозно-философским мировоззрением т.н. «учёного монашества» второй половины XVIII века имеется существенная связь, вызванная их исторической, социальной и интеллектуальной преемственностью; эта существенная связь в то же время носит вариативный характер в силу изменений структуры российского общества, присущих ему форм общественного сознания и социальной роли самого монашества.
Методологическая основа диссертационного исследования определена не только системой задач, но и в первую очередь – особенностями источниковой базы и историографического состояния вопроса. В самом общем плане в основе работы лежит сравнительно-исторический метод. В работе с нестяжательскими памятниками во главу угла был поставлен сформулированный М.Н. Громовым принцип «уникальности первоисточника». Ориентация на реконструкцию смысла текста вызвала ориентацию на герменевтический метод исследования. В то же время необходимо было учесть особенности традиции исследования нестяжательства, в которой это явление рассматривается в синхронном оценочном сравнении с иосифлянством. Этой проблеме соответствует метод историографического анализа. Реконструкция философского мировоззрения русских иерархов конца XVIII века имеет во многом иную направленность. Здесь площадкой для реконструкции выступает не текст, а авторское мировоззрение. Причин тому две. Во-первых, такой акцент свойственен самой эпохе Просвещения. Во-вторых, «учёные монахи» являются авторами большого числа разнообразных произведений, каждое из которых в отдельности не даёт полной картины мировоззрения. Особенно это относится к их гомилетическому наследию, вырабатывавшемуся на протяжении многих лет. Общеметодологическую роль играет сформулированное В.В. Зеньковским и поддержанное современными исследователями учение об особенностях русской философии, позволяющее обратить внимание на неинституциализированную философскую мысль, вплетённую в функционирование других форм духовной культуры. Принципиальную важность имеет категориальный аппарат, разработанный Л.Е. Шапошниковым применительно к динамике философоско-богословской мысли в православии, позволяющий диалектически оценивать новизну каждого этапа в развитии религиозного мировоззрения, включая его ядро - догматику.
Источниковая база исследования включает корпус оригинальных сочинений Нила Сорского («Большой устав», «Предание», три послания, завещание) в публикации Г.М. Прохорова 2005 г., и составленный старцем «Соборник» в издании Т.П. Лённгрен 2000-2004 гг. Памятники, отражающие идеологическое измерение нестяжательства (сочинения Вассиана Патрикеева, «Судное дело Вассиана Патрикеева»), рассматриваются исходя из текстологической концепции А.И. Плигузова. Источники, освещающие мысль «учёного монашества» могут быть разбиты на две основные группы. Первая группа – это обширные богословско-философские трактаты, в которых планомерно раскрывается мировоззрение их авторов. Это «Православная богословия» Платона (Левшина), «Об истинном христианстве» и «Сокровище духовное» Тихона Задонского, сюда примыкают краткие методические пособия, выпущенные Дамаскином (Рудневым) для диспутов в МДА. Вторая группа источников – гомилетическое наследие иерархов.
Научная новизна исследования.
1. Впервые в историко-философской науке осуществлено многоаспектное компаративное исследование идейно-философских комплексов нестяжательства и «учёного монашества».
2. Определено значение нестяжательства для генезиса отечественной философии и его место в процессе демифологизации общественного сознания Руси XV-XVI веков.
3. На фоне социокультурной динамики позднего средневековья получил новую оценку идейно-философский комплекс нестяжательства, продемонстрированы новаторские аспекты нестяжательского мировоззрения в версии Нила Сорского, выявлен путь его трансформации в социально-политическую идеологию.
4. Проведена реконструкция и дана новая оценка философских аспектов мировоззрения крупнейших представителей «учёного монашества» - митр. Платона (Левшина), еп. Дамаскина (Руднева), еп. Тихона Задонского.
5. Определены основные пути сохранения и трансформации нестяжательского идейно-философского комплекса в философии «учёного монашества».
6. Показано значение анализируемых идей для последующего развития русской религиозной философской традиции.
Положения, выносимые на защиту.
1. Обосновывается вывод о том, что востребованность идейно-философских комплексов нестяжательства и «учёного монашества» связана с переходным характером эпох, в сознании которых бытовали эти комплексы. Антропология и праксиология нестяжателей, антропологические и этические доктрины «учёных монахов» отражают ситуацию перехода к новым представлениям о месте человека в мире.
2. Установлено, что именно нестяжательство являлось наиболее последовательной стратегией демифологизации общественного сознания и объективно способствовало переходу от религиозно-мифологической к религиозно-философской картине мира.
3. Выявлено новаторское ядро нестяжательской доктрины Нила Сорского, которое заключается в появлении особого диалогического метода философствования, активном отношении к мистической и общехристианской традиции, формировании предпосылок для становления концепции «цельного знания». Исследование идеологического измерения нестяжательства позволило продемонстрировать преждевременность и неадекватность выхода нестяжательской доктрины на уровень общественного влияния, оценить идеологию второго поколения нестяжателей как искажение учения Нила Сорского и проследить путь этой трансформации, связанный с утратой основополагающих особенностей мышления сорского старца.
4. Дана характеристика парадигмальных черт в области метафилософии, гносеологии, социальной философии и этики «учёного монашества», тематически и содержательно отражающих своеобразие эпохи Просвещения. Важнейшие общие черты философии «учёного монашества» - стремление к сотериологической нацеленности философствования, формирование взглядов, вплотную подступающих к концепции «цельного знания», новаторская готовность к широкому мировоззренческому синтезу философских идей средних веков и Нового времени. Наибольшее своеобразие и расхождение доктрин Платона (Левшина), Дамаскина (Руднева) и Тихона Задонского проявляется в пространстве социальной философии.
5. Доказывается, что особенности философии «учёного монашества» соответствуют характерным чертам нестяжательского мировоззрения, предполагая при этом определённую трансформацию. Ориентированность философской мысли нестяжателей на конкретные эсхатологические ожидания позднего средневековья сменяется более абстрактной сотериологической направленностью философствования. Заметное развитие получает характерный для нестяжательства отказ от различения чувственной и рациональной познавательных способностей человека, эволюционирующий в представление об их существенной связи.
Теоретическая и практическая значимость работы.
Эксплицированная автором линия преемственности идейно-философских комплексов нестяжательства и «учёного монашества» позволяет по-новому взглянуть на связь средневекового и просветительского этапов в развитии отечественной философской мысли, на роль нестяжательства и «учёного монашества» в становлении оригинальной отечественной философской традиции.
В практическом плане результаты исследования могут быть использованы специалистами, изучающими соответствующие периоды развития русской философии и аспекты духовной культуры, а также в разработке соответствующих специальных курсов, курсов философии, культурологии и религиоведения.
Апробация результатов исследования проходила в рамках всероссийских конференций
«Актуальные проблемы истории русской философии и политической мысли», (декабрь 2005 г., Уссурийский ГПИ);
«Русская православная церковь в мировой и отечественной истории» (май 2006, НГПУ);
«Православие в контексте отечественной и мировой литературы» (июнь 2006, АГПИ);
межвузовской конференции «Наука молодых» (декабрь 2008, АГПИ-АФНГТУ);
XIV, XV, XVII, XVIII Православных Рождественских чтений (январь 2005, январь 2006, январь 2008, январь 2009 гг., НГПУ).
Основные результаты исследования представлены в 9 статьях общим объёмом 3,7 п.л., использованы в написании учебного пособия по философии.
Структура работы определяется системой задач и включает две главы, разбитые на три параграфа каждая, введение, заключение и библиографический список источников и литературы.
Нестяжательство как историко-философское явление
Философия является формой общественного сознания (и формой духовной культуры), необходимо возникающей на определённом этапе развития социума. Причём формы духовной культуры конкретной культурной общности не могут возникать исключительно под влиянием извне. Они есть результат в первую очередь имманентного развития, и заимствования имеют в них место лишь в силу своей имманентной востребованности, что убедительно показал Н.Я.Данилевский в теории культурно-исторических типов.
Итак, говоря об оригинальной философии, присущей данной культурной общности, необходимо описать процесс её генезиса именно исходя из состояния данной культурной общности. Иными словами, нужно обнаружить такие характеристики социума и присущего ему общественного сознания, которые бы делали возникновение философии необходимым и возможным, и, соответственно, определяли бы её особенности.
Наиболее адекватная, на наш взгляд, концепция генезиса философии принадлежит А.Н.Чанышеву. Возникновение философии как типа мировоззрения связывается им с демифологизацией общественного сознания, с кризисом мифа, имеющим имманентные причины, и протекающим на фоне роста преднаучного знания, систематизации здравого смысла." Концепция А.Н.Чанышева создавалась и работает применительно к философии Древнего Мира, однако очевидно, что ее основные положения имеют более общий характер, описывая процесс смены типов мировоззрения вообще, пусть и на конкретном материале.
В связи с этим автор данной работы считает не вполне обоснованным представление о том, что процесс складывания отечественной философии начинается едва ли не сразу после крещения Руси. Дело в том, что обнаружить в этот период существенные признаки масштабного кризиса мифологического мировоззрения трудно. И дело даже не в феномене двоеверия, а в характере известных памятников духовной культуры Руси того времени: на стенах Дмитриевского собора довольно полно изложена славянская мифология, автор «Слова о полку Игореве» мыслит исключительно мифологически, «Слово о погибели Русской Земли» совмещает языческое и христианское мышление, в продолжениях «Повести временных лет» летописцы часто описывают события мифологически (нападение навий на Полоцк). Разложение родоплеменного строя вообще долгое время не приводит к возникновению новых типов мировоззрения, и складывание раннефеодального государства также не является достаточным условием смены типа мировоззрения. Религия же приходит извне, обеспечивая в первую очередь интересы крепнущего государства.
Однако можно говорить о кризисе религиозно-мифологического мировоззрения Средневековой Руси (XIV - XV вв.) На этом этапе христианство стало определяющим фактором культурной самоидентификации, когда основная масса населения усвоила для себя эпоним «крестьяне». Но при этом христианство вобрало в себя основные элементы мифологического мировоззрения. И тем самым оно обрекло его на кризис, связанный с эсхатологическими ожиданиями. Самым ярким проявлением мифологизации христианского мировоззрения того периода стал сильно выраженный синкретизм картины мира. Это проявлялось и в некоторых аспектах богородичного культа, например, в апокрифе «Хождение Богородицы по мукам», где муки грешников представляются именно чувственно-телесными, а ад оказывается вполне реальным топосом. Столь же реальным топосом мыслился и рай - в таких апокрифах, как «Житие и подвиги ... Агапия чудотворца», «Сказание о Макарии Римском». Синкретизм картины мира порождал практический синкретизм - складывалась практика воздействия на потусторонний мир с помощью сложных молитвенных ритуалов, системы святых-покровителей.
Представления о конечности мира, способного просуществовать лишь семь тысяч лет, также сами по себе являлись мифологическими, но именно они привели к жесточайшему мировоззренческому кризису мифа, который оказал влияние не только на духовную культуру, но и на протекание социальных процессов в христианских странах. Дело в том, что ожидания «конца миру» в 1492-м году разрушали синкретическую картину мира.
В первую очередь, рушились традиционные представления о рае и аде, а с ними — и о загробном воздаянии. Конец мира означал уничтожение его пространственной организации, а значит, ада и рая как топосов. В XIV веке это вызвало известный спор русских иерархов — Василия Новгородского и Феодора Тверского. Архиепископ Новгорода защищал фактически синкретические представления о рае, ссылаясь при этом не только на Священное Писание и Предание, но и на мифологические сюжеты, ходившие в среде новгородского купечества. Феодор же разработал компромиссную схему, позволявшую относительно непротиворечиво сочетать Указания Ветхого Завета на существование рая на земле и невозможность его сохранения в таком же виде после Страшного Суда. Согласно ему земной рай уже погиб после изгнания из него Адама. С тех пор рай существует только духовно. Позиция Феодора особенно показательна, так как он одним из первых демонстрирует мышление, соответствующее развитому религиозному мировоззрению, понимая рай как принципиально иную, противоположную материальной реальность.
Однако пути демифологизации общественного сознания русского средневекового общества определялись ожиданиями конца мира все же не столько напрямую, сколько через отношение к такому явлению, как заупокойно-поминальный культ, или метопа. Метопа представляла собой актуализацию практического синкретизма в том смысле, что являлась попыткой оказать влияние на судьбу души человека после его телесной смерти. Это применение мифологической в своей основе практики привело к кризису самосознания некоторых сословий - в первую очередь, черного духовенства, осуществлявшего метопу, а также тех сословий, которые не имели на это средств. Но и здесь решающую роль сыграла не мифологическая природа метопы, а ее феодализированный характер. Как известно, метопа в идеале требовала «поминания до скончания века», а вместе с ним — постоянной материальной подпитки, которую тогда могла дать только земля, обеспеченная рабочими руками - вотчина. Монастыри быстро оказались крупнейшими вотчинниками страны, и это вызвало жестокий кризис монашеского мировоззрения, основанного на обете отречения от мира, который отправлением метопы неизбежно нарушался.
Соответственно, тем слоям средневекового русского общества, которые не имели средств на метопу, оставалось либо смириться, либо изменить само мировоззрение. Последний вариант представлен рационалистическими ересями стригольников, тверских антитринитариев и жидовствующих.
Нестяжательство XV - XVI веков как общественно-политическая идеология
Первое существенное различие заключается в понимании познавательной процедуры - Нил предлагает «испытывать» Писания. Что это значит? А.С.Архангельский в своё время воспринял эту Нилову интерпретацию как признак текстологического и содержательного критицизма в отношении священных текстов. Однако если смотреть на «Устав» как на праксиологический трактат, всё объясняется проще: «испытывать» или «пытать» имеет основное значение «приобретать опыт». Иными словами, «испытывать Писания» - значит осваивать отражённый в них мистический опыт. С этим согласуется и вторая модификация цитаты. В Библии Писания не являются источником опыта сами по себе, верующие «думают (выд. нами — А.И.) чрез них иметь жизнь вечную...»; Писание - лишь свидетельство, которое в качестве такового надо ещё воспринимать (букв, по тексту Библии - «представлять»). У Нила - совсем иная модальность высказывания: именно в Писаниях можно обрести вечную жизнь. Другими словами, Нил онтологизирует священный текст в качестве источника традиции, придаёт ему большее значение, нежели этот же текст самому себе. И это не только снимает с Нила обвинения в критицизме, но и наводит на сущность его методологии.
Дело в том, что все применяемые Нилом цитаты являются проинтерпретированными, буквальных соответствий оригиналам практически нет. Это объясняется герменевтическим подходом автора к используемым им греческим текстам. Прекрасно владея языком, Нил применял интерпретирующий (но при этом не комментируемый) перевод в качестве ведущего метода теоретического исследования. Очень важно отметить, что для той культурно- исторической ситуации на Руси был более характерен экзегетический подход к священным текстам, предполагающий аллегорическое их толкование, которое мы найдём у последователей Иосифа Волоцкого. Совершенно обратная ситуация - в нестяжательстве. Не только Нил в работе с Писанием и житиями осуществлял основанную на грамматическом и синтаксическом анализе смысловую интерпретацию текста. Впоследствии переводы Максима Грека позволят Вассиану Патрикееву применить ту же методику к церковно- правовым источникам.
Герменевтический подход к выражению мистического опыта проявляется также в самой терминологии «Устава». Во-первых, - в конструкциях «делаше сердечное», «мысленое блюдеше» и «умное (съ)хранеше», в которых мышление и ум оказываются не объектами этих действий, а как и положено - субъектами. Определение в словосочетании указывает на принадлежность определяемого слова. К определениям «сердечное», «мысленое», «умное» следует задавать вопрос не «какое?», а — «чьё?» Не кто-то или что-то «блюдёт» мысль, а мысль сама «блюдёт» себя, не кто-то «хранит» ум, а он сам «хранит» себя. А поскольку мысль оказывается субъектом, Нил для обозначения того, что называется «мыслью» в современном нам языке (т.е. мысли о конкретном предмете), применяет понятие «помысел». Во-вторых, герменевтический подход реализуется в стабильном предпочтении концепта «ум» концепту «дух», что объясняется требованием отражения умозрительной природы мистического опыта; а также наличием «телесной» этимологии самого слова «дух», специально продемонстрированной Нилом в интерпретированной цитате из 1-го послания Коринфянам: «Аще молюся языком, - сиречь усты, - духъ мой молится, - рекша глас мой, - умъ же мой бесплоденъ есть. Помолюся убо духомъ, помолю же ся и умом». Интерпретация Нила превосходит традиционный перевод (и церковно-славянский, и русский Синодальный), который понимает «язык», «уста» и «дух» в смысле «незнакомого» (это слово добавлено переводчиками, в оригинале его нет) языка, тогда как здесь под «духом» имеется ввиду телесное «дыхание».
Наконец, необходимо указать на особый смысл, который приобретал герменевтический метод в исихазме. Как пишет С.С.Хоружий, «потомок», внедряясь в таинственную жизнь Традиции и входя с Отцами в общение, повергает пред ними себя и собственный опыт и от них получает проверку его и истолкование; оказывается ими проверяем, испытуем, толкуем». Такой характер герменевтики связан с принципом «обратной перспективы», реализующимся, как известно не только в иконописи, но и в ритуальных действиях и богослужебных текстах. Это обстоятельство объясняет, почему свой опыт Нил выражал с помощью интерпретированного цитирования Писания и сочинений предшественников. Тем самым он как раз выносил его на суд Традиции. В то же время этот опыт продолжал оставаться его собственным, что засвидетельствовано Нилом в послании Гурию Тушину: «И наипаче испытую божественна Писаша: прежде - заповеди Господня и толковаша ихь и апостольская предаша, также жит1а и учеша святыхъ отецъ, - и темь вънимаю. И яже съгласна моему разуму къ благоугождешю Бож1ю и къ ползе души пре- оо писую себе и теми поучаюся...» Здесь часто обращают внимание на иерархию священных текстов, но в ней нет ничего необычного, хотя можно отметить её неполноту. Важнее то, что в этом фрагменте проявляется антиномический характер герменевтического метода исихазма, который включал и момент предстояния («вънимаю») перед носителем Традиции, и момент личного, уникального освоения его опыта («съгласна моему разуму преписую»).
Метод Нила Сорского может быть истолкован в категориях диалогического мышления. Наиболее труден для понимания неявный, обратный «характер» диалогической связи, непривычный на фоне античного, средневекового и ренессансного диалогизма. Вспоминая произведения Платона, Эриу- гены или Джордано Бруно, мы отмечаем в первую очередь диалогическую форму развития и изложения идейного содержания, при которой одно лицо, пусть мыслимое, не может быть носителем взаимоисключающих и одновременно равно обоснованных знаний о мире. В европейском диалоге одна сторона либо заблуждается, либо не имеет системного знания, запутывается в разрешимых самих по себе противоречиях. Т.е. диалог на самом деле превращается в монолог, представляет собой открытие одной, раз и навсегда устанавливаемой истины, безразличной к конкретной событийности диалога.
Философские взгляды митрополита Платона (П.Е. Левшина)
Это различие высвечивается в цитате из Исаака Сирина: «Ci, Владыко, аггелом равна показует мя и лучша тех створить, ибо невидим тем еси существом, естеством же неприступенъ, мне же зрим еси всяко, и естеству Твоему смешает ми ся сущьство». Такое понимание «видения» основано на сложных иерархических представлениях о сущем, внесённых в христианское мировоззрение автором «Ареопагитик». На этом фоне «видение» оказывалось по сути дела изменением места человека в иерархии сущего.
Причём, если переходные к этому состояния были непроизвольными, даровались свыше, то здесь те, кто «утвердять душевныа помыслы», «якоже хотят, творят явлеше тоа». Конечно, произвольность «видения» специфична, т.к. она означает не власть человека над богом, а, наоборот, полное сведение своей воли, мысли и деятельности к деятельности бога. Соответственно объясняется непроизвольность молитвы и слёз, ибо в это время способности человеческого ума ещё сохраняют индивидуальные характеристики, лишь изредка настраиваясь на «нужную частоту».
Такое соотношение произвольности и непроизвольности состояний сознания позволяет уйти от их жёсткой детерминации, грозящей формализмом и ущемлением свободы человеческого существа. Ведь если бы за исполнение определённых условий с необходимостью следовало «видение», подвиг монашествующего не был бы свободен, а бог автоматически оказался бы в зависимости от несвободной в данном случае воли человека.
Хотя состояние «видения» и оказывается произвольным, внутренне оно имеет прямо противоположный характер: «Егда им бывает неизреченна оная радость, и молитву отъ устъ отсецает, престанут бо, рече, тогда уста и язык и сердце, иже помыслом хранитель, и ум, чювством кормникъ, и мысль, скоро- летящаа птица и бестуднаа, и не ктому имат мысль молитву, ни движете, ни самовласт1е, но наставлешем наставляется силою иною, а не наставляет, и пленешемъ съдръжится в час онъ, и бывает въ непостижных вещехъ, идеже не весть. И глаголеть ci ужас и видеше молитвы, а не молитву», - и далее: «...въсхыщается умъ вне хотеша въ мысли бесплотных...» Эта внутренняя антиномия «видения» объясняется слиянием деятельности бога и человека, которая в паламизме получила имя «синэргейи». Нил ёмко выражает её в цитате из жития Варсонофия Великого, основанной на важном для исихазма тезисе о «возвращении в себя»: «Приобретение же себе - еже непорочну быти въ смиренш». Соотношение произвольности и непроизвольности состояний сознания монаха-исихаста может быть сформулировано словами Г.В.Флоровского: «Задача подвига в сублимации естественной свободы, не в противо-борстве её подлинным законам». Предельно достижимое состояние является непроизвольным и ещё в одном отношении - оно всегда ограничено по времени, и ограничено, естественно, не человеком. Это обстоятельство ярко демонстрирует инаковость состояния «видения» по отношению к наличному бытию: человек вынужден возвращаться. Боле того, вернувшись, он ещё вполне способен пасть и лишиться своего дара. Временность «видения» т.о. устанавливает высочайшую ответственность того, кто его удостоился. «Видение» - это ни в коем случае не окончательное освобождение, и потому оно не может быть путём к простому бегству из мира.
Итак, учение о предельно достижимом состоянии сознания в «Уставе» предполагает следующий комплекс идей: 1) «видение» означает онтологический скачок, изменение места человека в иерархии сущего; 2) «видение» предполагает антиномическое сочетание произвольности и непроизвольности, обусловленное характером синергии и её различным проявлением в феноменальном и ноуменальном бытии; 3) «видение» возлагает на монашествующего высокую ответственность, ни в коем случае не завершает борьбы и не может рассматриваться как бегство из мира.
Подводя итоги анализа «Устава», необходимо охарактеризовать значение философских аспектов наследия Нила Сорского для развития отечественной философской мысли. Проблема состоит в том, что значение нестяжательства чаще всего рассматривается исключительно в плане противостояния с иосифлянством, что, во-первых, заставляет рассматривать его не в философском, а в общественно-политическом аспекте, а во-вторых, лишает собственного значения. В силу этого попытки определения особенностей русского исихазма не особенно богаты философским содержанием. Над нашей историографией до сих пор довлеет мнение, выраженное A.B. Карташевым: «...пр. Нил не вводит ничего оригинального. Всё это известно в греческой монашеской литературе». Так, Е.П. Наделяева, специально поставив себе такую задачу, в итоге утверждает лишь: «В отличие от византийского, русский исихазм был ближе к человеку». Возможен также путь ограниченной экстраполяции философского значения византийского исихазма. Г.М. Прохоров и И. Экономцев в 70-е-80-е годы независимо друг от друга подвели своеобразный итог исследованию исихазма в советской науке и в науке русского зарубежья. Вслед за Я.С. Лурье, H.A. Казаковой с одной стороны и В.В. Зеньковским и Г.П. Федотовым с другой, они определили исихазм как «индивидуалистическое течение», специфическую форму Ренессанса, присущую православному Востоку, «стержнем» которой был «интерес к человеческой личности». В таком случае философское значение исихазма, и в том числе его русского варианта, должно состоять в индивидуализации общественного сознания, а также в рецепции глубинных идей, почерпнутых исихазмом из предшествовавшей ему античной традиции. Во многом противоположную такому пониманию исихазма позицию занимал в тот же период А.Ф.Замалеев, отрицавший не только предвозрожденческий характер нестяжательства, но и его рационалистические потенции: «исихазм в философском плане — полная противоположность платонизма и неоплатонизма; он отсекает от них главное - их рационализм, ориентацию на теоретическую, умственную рефлексию». В таком случае выделенное выше значение пестяжательства нельзя признать адекватным.
В работе 2001-го года М.Н.Громов и В.В.Мильков попытались дать компромиссную оценку: «Главный ... пафос исихазма состоит в новой аксиологической установке позднего средневековья, когда в противоборстве с Ренессансом и вместе с тем под влиянием проторенессансных и собственно ренессансных идей происходила своеобразная реабилитация тварного, вещественного, плотского начала путём просветления, одухотворения, возвышения его Фаворским светом Божественной энергии». Однако сами исихасты весьма неоднозначно относились к телу, среди основных положений исихии числилось и такое: «Исихия есть отложение помыслов, отречение от забот.
Философские аспекты «живого богословия» Тихона Задонского
Дамаскин сам выступил в качестве редактора-составителя сборника, и поэтому имеет смысл проанализировать его структуру. Она задана уже в заглавии книги, где все проповеди делятся на «в высокоторжественные и другие дни говоренные», и поэтому может считаться формальной. Действительно, первые семь проповедей говорились в Успенском соборе Кремля при большом количестве слушателей и в связи с датами, значимыми для Екатерины Второй. Другие речи произносились в мене престижных местах по менее значимым поводам. Тем показательнее подмеченное Е.П.Титковым совпадение формальной и содержательной структуры «Проповедей...»: первые семь речей посвящены нравственно-политическим проблемам, а остальные - богословским. Однако вряд ли стоит приписывать этому совпадению столь большой смысл, какой склонен придавать ему исследователь. Ведь проповеди, адресованные императрице и элите страны, с необходимостью должны были иметь общественно-политическое звучание, поскольку их слушателями как раз и были политики. Остальные же выступления Дамаскина были адресованы по большей части, хотя и не исключительно, духовенству и учащимся СГЛА, почему в них и преобладают богословские проблемы.
Этика Дамаскина основана на весьма оптимистическом понимании природы человека, раскрытом в проповеди «О чаянии будущей жизни». В отличие от Левшина или Тихона Задонского, Дамаскин не поднимает вопроса о греховной сущности человека и оценивает его не только вслед за умеренными просветителями как «отменное и преудивительное дело рук Творческих», «пречудливую тварь». Он разделяет и деистски окрашенный материалистический подход, когда пишет о человеке как о «хитро составленной (выделено автором) махине». Иными словами, епископ не прибегает к собственно богословской характеристике человека, ограничиваясь лишь констатацией сотворенного характера человеческой природы. В остальном же Да- маскин следует современным ему научно-философским воззрениям.
Он сопоставляет бытийное положение человека и животного. Оказывается, что «...все прочие животные в рассуждении здешнего удовольствия и спокойствия гораздо больше имеют выгоды и преимущества, нежели человек». Так формулирует Дамаскин положение о биологической неприспособленности человека к условиям среды. Оно бесспорно и до сих пор является одной из предпосылок любой философско-антропологической теории. Далее мыслитель утверждает социокультурную сущность человека: «Человек требует великого попечения, чтобы сделаться человеком», «укрепить свои силы» и «изощрить свои способности». Однако ишсультурация мыслится по- просветительски узко — в рамках собственно воспитательно- образовательного процесса - и связывается не с социальным, а с эсхатологическим пониманием предназначения человека. Так, Дамаскин пишет, что, не обладая соответствующим воспитанием и образованием, человек имеет лишь вид человеческий, но человеком в его «божественном предназначении не будет, как то доказывают очевидные примеры между зверьми воспитанных людей». Главное качество, которое формирует просвещение - это интеллектуально-волевая мирооткрытость: просвещенный человек обладает «беспредельностью мыслей» и «неограниченностью пожеланий». Но мирооткрытость имеет трансцендентную направленность, происходя от того, что «человек производится на свет не для здешнего (мира), ... для него, благороднейшей твари, маловажного и недостаточного, но для по ту сторону жизни назначенного ему удовольствия и спокойствия». Для Левшина, напомним, «неограниченность стремлений» вообще была доказательством бытия потустороннего мира, и Дамаскин демонстрирует определенное единомыслие со своим бывшим одноклассником.
Взятый как член общества, человек понимается мыслителем как гражданин. Раскрытие этого понятия имеет для Дамаскина ключевое значение в построении социальной этики. Поэтому и проповеди, посвященные проблеме определения прав и обязанностей гражданина, помещены в сборнике прежде всех остальных.
Патриотизм, «любовь к Отечеству» утверждается Дамаскином как «первейшая и главнейшая всякого гражданина добродетель». Однако Отечество понимается вовсе не как некая абстракция: это ни нация, ни государство, ни область распространения определенной религии. Фактическое понимание Отечества Дамаскином близко тому определению, какое Платон Лев- шин дал обществу вообще. Напомним, что он определял общество через евангельское понятие «ближнего», т.е. всех конкретных людей, связанных в определенном отношении общей судьбой.
У Дамаскина такое понимание общественных отношений проявляется следующим образом. Он пишет, что «...едино человеколюбие есть подлинно источник любви к Отечеству». Его терминология выглядит несколько се- куляризованно, но само слово «человеколюбие» есть и в христианском словаре, и поэтому нам кажется возможным отождествлять его с «любовью к ближнему» Левшина. Такое понимание гражданской деятельности конкретизируется мыслителем в рассуждениях о роли просвещения в формировании истинно гражданских ориентаций. Дамаскин строит антитезу: «неграмотный», «простонародный» «сын Отечества» сопоставляется с «образованным гражданином». Первый любит стихийно, то, «близ чего находится». Второй же «любит своего согражданина не для того только, что он той же с ним земли, тогож народа, тогож Отечества, но что такой человек, каков и он (выделено нами - А.И.)». Он знает о несовершенстве мирового устройства и «ему довольно известно, что всякое человеческое совершенство увеличено, и что всякое худое уменьшено, и, наконец, истреблено быть может». Традиционная риторика любви к ближнему была облечена епископом в просвещенческие тона. Дамаскин здесь ориентирует общество изначально гуманистически - оно существует ради каждого своего члена, а не наоборот.
Далее мыслитель раскрывает понимание гражданина через те цели, которые последний преследует в обществе. «Истинный любитель Отечества ни чем иным управляем не бывает как просвещенною любовию блага. Внутрь сердца его горит чистейший и беспорочный огнь усердия ко всякому человеку... Он во всяком смертном почитает неуничтожимыя права человечества, и о всякого гражданина щастии радуется». «Просвещенный гражданин старается благоволить всякому человеку, какого бы он общества ни был... Когда же примечает в себе неспособность к благотворению всякому человеку, тогда крушится, сетует, печалится...» В этом отрывке гуманистическая ориентация деятельности гражданина выражена очень сильно, но появляется и новый аспект — абстрактное благо, в котором можно видеть и след просветительской теории общего блага, и христианский неоплатонизм. Впоследствии этот аспект выйдет у Дамаскина на первый план.
«Человеколюбие» выступает как целевая характеристика гражданской деятельности, процессуальную же мыслитель определяет как «справедливость или правосудие»: «Все, что ни происходит от человеколюбия, основывается на справедливости или правосудии. Правосудной гражданин, будучи безпристрастен, просвещен, благоразумен, хотя наблюдает только пользу своего отечества; однако не уменьшает благоденствия и другого народа, ниже нарушает права другого общества».338 В этом отрывке оба понятия употребляются не только и не столько в юридическом, сколько в более широком, общеэтическом смысле. Правосудие здесь — не сфера юстиции, а скорее способность гражданина к справедливой, соответствующей истинному положению дел оценке людей и их поступков. «Человеколюбие» ни в коем случае само не основано на «справедливости», как это утверждает H.A. Лебедева.