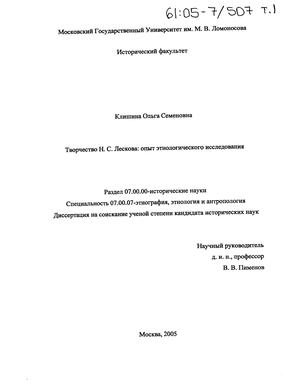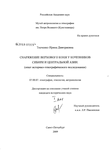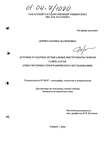Содержание к диссертации
ВВЕДЕНИЕ З
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 13
ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ ОЧЕРК 36
Собрания сочинений Н. С. Лескова как источник 36
Характеристика произведений Н. С. Лескова как исторического источника 38
Методология исследования художественной литературы как источника по этнологии 43
ГЛАВА 1. «НАСЕЛЕНИЕ» ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАК МОДЕЛЬ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА XIX ВЕКА: СОСЛОВНЫЙ СОСТАВ 52
1.1. Дворянство 54
1.2. Духовенство 64
1.3. Купечество 71
1.4. Мещанство 72
1.5. Однодворцы 73
1.6. Крестьянство : 74
ГЛАВА 2. "НАСЕЛЕНИЕ" ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАК МОДЕЛЬ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА XIX ВЕКА: ЭТНИЧЕСКИЙ И КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ. 77
2.1. Русские 77
2.2. Украинцы 79
2.3. Поляки 79
2.4. Немцы 81
2.5. Англичане 82
2.6. Французы 82
2.7. Евреи 83
2.8. Цыгане 87
2.9. Другие этносы 87
2.10. Этноконфессиональные группы: раскольники 90
ГЛАВА 3. ЧЕЛОВЕК В КРУГУ СЕМЬИ 94
ГЛАВА 4. ПЕРСОНАЖ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КАК ИСТОРИКО- ЭТНОЛОГИЧЕСКИЙ ТИП 109
4. 1. Язык персонажей творчества Н. С. Лескова 109
4. 2. Внешность персонажей творчества Н. С. Лескова: индивидуальное и этноспецифическое. 117
4. 3. Выдуманные и исторические персонажи. 122
4. 3. 1. Эпизодические и неназванные персонажи 122
4. 3. 2. Вымышленные неэпизодические персонажи. 125
4. 3. 3. Персонажи, имеющие прототип. 127
4.3.5. Реальные исторические лица 130
ГЛАВА 5. ЦЕННОСТНЫЙ МИР ЖИТЕЛЯ РОССИИ XVIII - XIX ВЕКОВ 143
ГЛАВА 6. ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В ВОСПРИЯТИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА XIX В... 153
ГЛАВА 7. ЭТНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЮМОРА У Н. С. ЛЕСКОВА 178
ГЛАВА 8. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ ПИСАТЕЛЯ 198
8.1. Бытовая религия 198
8. 2. народные суеверия и низшая мифология 205
8. 3. народные обычаи, обряды и фольклор 210
8.4. Проведение досуга 213
ГЛАВА 9. МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ЭТНОСА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ ПИСАТЕЛЯ.217
9.1. Жилище 217
9.2. ПИЩА 221
9.3. Одежда 226
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 234
БИБЛИОГРАФИЯ 243
Введение к работе
Данное исследование - попытка осуществить этнологический подход к контексту художественных произведений - творчеству писателя Н. С. Лескова - и попытаться выяснить, как, в какой мере и в какой форме в его творчестве отражены те или иные стороны этносов (русского и других). Вопрос об изменениях различных сторон этноса на протяжении времени и о качестве этих изменений остается до сих пор дискуссионным по ряду причин: отсутствие общепринятых критериев и определений этноса, субъективность оценок самого процесса динамики, сведение процессов этнического развития к идеологическим и т.п. Попробовать выявить в художественных текстах, как изменчиво отражается этнос, и его "части" на протяжении времени и какие перемены являются собственно этническими -вот одна из задач этой работы.
Литературоведение и этнология относятся к общественным наукам. В исследовании источников по этим наукам применятся также и ряд общенаучных методов: сравнительно-исторический, генетический, типологический, системный. Однако существует и разница - в первую очередь в объектах исследования. В случае этнологии этот объект - этнос, уже - этнофор со своим отношением к себе и к окружающему миру. В случае литературоведения - это общество, которое тоже, по сути своей, состоит из этнофоров, но этнофоров «вымышленных», созданных воображением других представителей того или иного этноса, т.е., общества, если не полностью выдуманного, то отраженного и оцененного с разной степенью объективности. Сравнить, как историческая реальность соотносится с литературным вымыслом, понять, что стоит за данной субъективизацией в конкретных случаях, найти критерий этнологического факта в литературном произведении - другая задача этой работы. К решению этих задач можно приблизится, изучая материалы избранного источника - творчества известного русского писателя XIX века Н. С. Лескова (1831-1895).
Процессы этнической динамики лучше всего видны на стадии перехода от одного социального строя к другому. Вот почему полуфеодальная — полукапиталистическая Россия середины - конца XIX века, описанная в произведениях Н. С. Лескова, - достойный объект внимания исследователя развития этноса. Вместе с тем XIX век в России отмечен расцветом литературы, описывающей современные эпохе социально - этнические процессы. Русская классическая литература XIX века вошла в золотой фонд мировой литературы, среди классиков которой сравнительно редко упоминается имя Н. С. Лескова. Более того, может быть, среди писателей такого уровня, как раз Н. С. Лесков меньше других известен, понят, оценен. Оценка творчества Н. С. Лескова литературоведами, общественными деятелями и публикой прошла эволюцию от полного его неприятия с идеологической точки зрения и невысокой оценки художественной стороны произведений (в начале писательской деятельности), до провозглашения его «пророком», обличающим нигилистические и материалистические взгляды и соотнесением его имени с именами Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского.
Причины изначального негативного отношения, вероятно, кроются в несчастном стечении обстоятельств и объясняются собственным тяжелым характером писателя, сделавшим Н. С. Лескова неприемлемой личностью для наиболее авторитетных фигур в литературе того времени. Речь об этом пойдет ниже.
Между тем, Н. С. Лесков - тонкий знаток современного ему российского общества, внимательный наблюдатель, опытный и точный бытописатель. Все эти качества писателя, нашедшие воплощение в его творчестве, сделали его ценным источником для изучения этнологии России XVIII -XIX века. Н. С. Лесков родился 16 февраля 1831 года в селе Горохове Орловской губернии, принадлежавшем его родственникам со стороны матери, в семье небогатого орловского чиновника. Само происхождение Н. С. Лескова и его семейное окружение способствовало глубокому познанию жизни всех сословий тогдашней России: дед Н. С. Лескова со стороны отца - священник, бабушка со стороны матери - купчиха, отец - чиновник Орловской уголовной палаты, дослужившийся до получения права на потомственное дворянство, мать - дворянка из известного, но обедневшего дворянского рода.
Раннее детство будущего писателя прошло в Орле. Семья жила на одной из самых больших улиц города - Третьей Дворянской. С этой улицей и ее обитателями, прислугой в их орловском доме, с Орлом вообще, оставившем самые яркие детские воспоминания, будет связано достаточно много произведений Н. С. Лескова - «Грабеж», «Житие одной бабы», «Несмертельный Голован», «Очарованный странник», «Тупейный художник», «Пугало», «Юдоль». Более того, описание выдуманного Старого города в одной из значимых для писателя хроник - «Соборянах» (ранние редакции - «Божедомы», «Чающие движения воды») в целом соотносится с описанием Орла в 30-40 годы XIX века. Многие герои, действующие в романах, рассказах, повестях, очерках Н. С. Лескова, списаны с совершенно конкретных прототипов - из круга родственников, знакомых, крепостных.
В 1839 году отцу Н. С. Лескова Семену Дмитриевичу, не поладившему с губернатором, пришлось подать в отставку и уехать из Орла. Семья приобрела маленькое именьице Панино в Орловской губернии близ города Кромы.
Для подростка Лескова жизнь на крошечном хуторе принесла новые впечатления - непосредственное знакомство с крестьянами черноземной полосы России. «Я смело, даже, может быть, дерзко думаю, что знаю русского человека в самую его глубь и не ставлю себе этого ни в какую заслугу. Я не изучал народа по разговорам с петербургскими извозчиками, а я вырос в народе...» - писал о себе впоследствии Н. С. Лесков.
В 1841 году Н. С. Лесков поступил в 1 класс Орловской гимназии, но, не проучившись там 5 лет, получил свидетельство об окончании 2 классов и был исключен из нее. Надо было как-то устраивать свою судьбу, и юноша (почти мальчик, - не достигший еще 16 лет) поступает на службу в Орловскую палату уголовного суда на должность канцелярского служителя 2 разряда. Смолоду начатая служба дала большие знания о бытовой изнанке русского провинциального города. Для продолжения карьеры и устройства своей жизни молодой человек стремился уехать из провинции.
В 1849 году Н. С. Лесков переезжает в Киев к дяде, брату его матери профессору Киевского университета С. П. Алферьеву и переводится на службу в Киевскую казенную палату. Совсем молодым, не получившим еще даже первого чиновничьего чина (коллежского регистратора) Н. С. Лесков становится сначала помощником столоначальника, а позднее его повысили до столоначальника по рекрутскому столу. Помимо службы, Н. С. Лесков посещал вольнослушателем лекции в университете, вел насыщенную интересную жизнь думающего провинциала - разночинца. Киевские воспоминания на всю жизнь остались у писателя лирически теплыми и светлыми. Здесь же писатель познакомился с бытом украинцев и российских евреев.
В Киеве на чиновничьей должности Лескова застают Крымская война, смерть Николая I, своеобразная «оттепель» в общественной жизни и связанный с нею всплеск надежд на реформы. Казенная служба надоела живому и впечатлительному юноше, тем более, что появилась возможность резко изменить свою жизнь. В 1857 году Н. С. Лесков бросает службу и принимает предложение работать в коммерческом предприятии «Шкотт и Вилькенс», одним из основателей которого был муж его тетки, англичанин Яков Шкотт.
Работа в предприятии Шкотта, по словам самого Н. С. Лескова, была самым счастливым временем в его жизни. За три года по делам фирмы писатель объездил всю Россию. Это дало большой жизненный опыт. За время работы у Шкотта Н. С. Лескову приходилось участвовать в переселении крестьян на плодородные земли, организовывать предприятия в провинции, заниматься сельским хозяйством. События и факты тех лет прямо отражены в рассказах "Железная Воля" и "Продукт Природы", многих повестях, очерках и публицистических произведениях, а впечатления, приобретенные в это время, легли в основу всей будущей писательской деятельности. Более того, именно с этого времени начинается жизнь Лескова-литератора. Писатель начинал с коротких публицистических очерков и объемных статей на социально-экономические темы, посвященных проблемам пореформенной России. Основополагающим для его публицистического творчества можно считать статью «Очерки винокуренной промышленности...» и «Лесосбережение...», которые передают характерные детали быта российской провинции, освещают проблемы крестьянского и помещичьего хозяйства пореформенного периода, откликаются на острые проблемы социальной жизни того периода. Верный и наблюдательный взгляд, вдумчивость в рассмотрении материала и живость в его изложении, проявившиеся в этих материалах, обратили на себя внимание. Н. С. Лескову предложили создать несколько очерков о быте тогдашнего провинциального русского общества. Первой художественной пробой писателя стала небольшая по объему трилогия - «Разбойник», «Засуха» и «В тарантасе». В этих ранних произведениях проявилась творческая манера Лескова-писателя: опора на реальные события и сюжеты с минимальной долей вымысла, воспроизведение живого разговорного языка, отсутствие «направления» в передаче фактов реальности.
«Школа жизни», пройденная Н. С. Лесковым в это время, была крайне содержательна и полезна, однако дела торгового дома шли не очень успешно, и предприятие пришлось закрыть. Н. С. Лесков в 1860 году возвратился в Киев. Он снова поступил на службу - в канцелярию генерал - губернатора, но теперь он совмещал ее с напряженной жизнью начинающего журналиста. Эти занятия оказались взаимоисключающими, через полгода Н. С. Лесков, оставив службу, отправился попытать счастье в Москву. Здесь, в купеческой Москве, второй столице России, писатель вошел в круг либеральной интеллигенции, познакомился со многими деятелями как революционно-демократического, так и «патриотического», славянофильского направлений. Местом приложения литературных сил писателя стал печатный орган, издаваемый известной московской либералкой и писательницей Евгенией Тур (Сальяс). Зоркий взгляд Лескова-беллетриста сослужил здесь плохую службу его хозяину. Общество, тяготевшее кружку Евгении Тур, исповедовало вполне умеренные либеральные взгляды, было достаточно честно в своих надеждах на улучшение жизни в России и, конечно, вполне безвредно для властей предержащих. Однако Н. С. Лесков, отличаясь достаточно резким и непримиримым характером, увидел в нем лишь ложь, трусость, фразерство, позу, фальшь и либеральное шутовство скучающих барынь «вдовьего загона». Н. С. Лесков покинул Москву и переехал в Петербург.
В 1860 - 1862 году Н. С. Лесков работает как очеркист и публицист и, наконец, в начале 1862 года становится постоянным сотрудником крайне правой петербургской газеты «Северная пчела». К этому времени относится напряженная публицистическая деятельность писателя, который с головой окунулся в бушующие воды журналистики 60-х годов: на страницах «Северной пчелы» Н. С. Лесков как корреспондент затрагивает практически все актуальные вопросы тогдашней жизни - политические споры о судьбе России, о положении молодежи, о реформах - судебной и крестьянской, о литературе и нравственно-эстетической дискуссии того времени и многие другие.
В 1862 году случилась катастрофа, на долгие годы сломавшая судьбу молодого литератора и журналиста. В мае, в Петербурге бушевали пожары, в которых власти обвинили крайне левых - нигилистов. Статья Н. С. Лескова (под псевдонимом - Стебницкий) о пожарах с призывом к быстрейшему разбору дела и доказательному выявлению виновников была расценена демократической частью журналистики как провокационная и призывающая к расправе с левым движением в стране. Началась резкая критика, нередко несправедливая. От Н. С. Лескова отвернулись все видные демократические силы России. Он был вынужден печатать свои работы в правом проправительственном издании М. Н. Каткова «Русский вестник» и второразрядных газетках и журнальчиках за гроши.
В эти годы он начинает публиковать рассказы, связанные со своей малой родиной, с Орловщиной («Житие одной бабы»), южными губерниями России («Леди Макбет Мценского уезда») и Петербургом («Воительница»). Одновременно он пишет злые, «отомщевательные» антинигилистические романы («Некуда» и «На ножах»), закрепившие за ним «славу» реакционера и чуть ли не агента третьего отделения. К 70-м годам Н. С. Лесков наиболее известен, как бытописатель русского духовенства, но критическая линия, начавшая все отчетливее обозначаться в творчестве Н. С. Лескова, привела его к разрыву и с Катковым. Особенную роль в этом разрыве сыграл своеобразный взгляд писателя на роль и положение дворянства. Печатая в катковском «Русском вестнике» свою хронику «Захудалый род», Н. С. Лесков высказал мысль о том, что поместное провинциальное дворянство, являясь хранителем традиций стародавней крепостнической России, вряд ли может стать ведущей силой буржуазного прогресса и социальных перемен. М. Н. Катков прервал печатание хроники, заключив что для крайне правого крыла общественно-политической мысли Н. С. Лесков совсем «не наш».
Ухудшившееся материальное положение заставило писателя снова искать службу. В 1875 году писатель поступает в министерство народного просвещения членом особого отдела «ученого комитета министерства по рассмотрению книг, издаваемых для народа», в котором прослужил до февраля 1883 года. Эти годы - период творческого взлета писателя. Он изображает галерею образов людей из народа («Очарованный странник», «Тупейный художник», «Штопальщик»), ищет в среде народа образцы высокой нравственности - «праведности» («Однодум», «Несмертельный Голован», «Пугало»). В 80-е - начале 90-х годов во время жесткой политической цензуры, гонений на свободу слова и выражения своего мнения, Н. С. Лесков становится неугоден в министерстве просвещения, и его увольняют.
В последние десятилетия жизни отчетливо критическая линия в творчестве писателя преобладает. На материале своих орловских, киевских и петербургских впечатлений автор создает резко негативную картину тогдашнего российского общества: коррупции и политиканства чиновников, морального разложения. Его произведения порой становятся почти публицистичны (см. «Загон», «Продукт природы»). Практически все произведения этого периода существенно изменены или оборваны в ходе печатания цензурой. Непрестанные волнения и полемика с цензорами свели Н. С. Лескова в могилу 5 марта 1895 года на 64 году жизни.
Таким образом, что жизнь Н. С. Лескова, в которой отразилась вся предреформенная и послереформенная эпоха с ее напряженным общественным бытием, социальными противоречиями, экономическими переменами. Произведения писателя - реалиста, не сказавшего по его собственным словам "ни слова неправды", вполне могут считаться источником сведений об изучаемой эпохе. В связи с этим можно поставить третью задачу данной работы - составить описание российского общества по произведениям Н. С. Лескова, сравнив его по мере необходимости с известными историческими, документальными, мемуарными данными, найти
динамику и перемены в развитии этого общества на протяжении жизни автора и истории изображенных событий.
Данное исследование, однако, представляет собой лишь первую попытку исследования творчества Н. С. Лескова в этнологическом аспекте и, являясь в этом отношении экспериментальным, должно накопить опыт использования некоторых методов, которые, по мнению автора диссертации, могут служить теоретической и методологической основой для исследования художественной литературы в подобном ракурсе.
В главах 1 и 2 - ""Население" художественного произведения как модель российского общества "- рассматриваются социально - классовая и этническая структура российского общества, его динамика, и причины этой динамики на протяжении указанного времени; особое место уделено описанию процессов урбанизации.
В главе 3 - "Человек в кругу семьи" - основное внимание направлено на полоролевые стереотипы (представления о женском и мужском в культуре), выявление состава и структуры российской семьи изучаемого периода, мотивы вступления в брак и его расторжения, изменение семейной морали, супружеских и родственных отношений в кругу семьи, проблеме социализации и инкультурации детей.
В главе 4 - "Персонаж художественной литературы как историко-этнологический тип" - рассмотрены вопросы, касающиеся взаимодействия отдельной личности с этносом и социумом. Глава посвящена двум наиболее существенным аспектам этого взаимодействия: языковому и телесно-символическому (внешности). Отдельный раздел касается критериев определения литературного персонажа как исторической личности.
В главе 5 - "Духовный мир российского общества" - основное внимание уделяется системе ценностей данного общества в описании Н. С. Лескова; рассмотрены представления русских о самих себе и других народах - авто- и гетеростереотипы; особенности соционормативного поведения.
В главе 6 - "Пространство и время в восприятии российского общества - раскрываются представления о времени и пространстве в разных сословных, национальных, столичных, региональных группах населения; представления о народном и государственном календаре; об окружающем экомире.
В главе 7 - "Этнические аспекты юмора в художественном произведении" проанализирован ряд выразительных средств, анекдотов, историй, помогающих Н. С. Лескову раскрыть не только смешную сторону в существующей реальности, но и выделить аспекты смешного в социальной сфере; юмор предстает здесь как и аспект межэтнического взаимодействия.
В главе 8 - "Традиционная духовная культура в художественном мире писателя" - рассмотрены 4 аспекта: бытовая религия, система народной мифологии и народные медицинские знания, обрядовая практика, песенное мастерство и фольклор, рекреационная и досуговая культура;
В главе 9 - " Материальная культура этноса в художественном мире писателя" - выявляются особенности, традиции и новации, описанной Лесковым материальной культуры патриархального и индустриального общества (на примере жилища, пищи, одежды и некоторых других аспектов).
Историографический очерк
Н. С. Лескову не повезло с компетентной критикой. За всю его жизнь не вышло ни одной серьезной литературоведческой работы о его произведениях. Работы Н. С. Лескова еще не изучались этнологами. Творчество Н. С. Лескова было предметом исследования главным образом филологов - литературоведов, а также культурологов и психологов.
Среди тем, в разное время интересовавших литературоведов были рассмотрены: роль литературных и фольклорных источников в творчестве Н. С. Лескова, жанровые и стилистические особенности его произведений, его художественный язык, отражение социально - политической и идейной борьбы в его произведениях, наконец, система нравственных идеалов, ценностей и образная система его произведений. Все эти темы так или иначе могут иметь отношение к этнологическому аспекту его творчества.
Оценивая литературоведческую историографию, касающуюся творчества Н. С. Лескова, можно выделить в ней четыре этапа:
• 1-й-60-90 гг. XIX в;
• 2-й - конец 20-х начало 30-х гг. XX в;
• 3-й-40-80 гг. XX в;
• 4-й - 80-начало 90 гг. XX в.
Начальный, прижизненный период литературной критики отмечен появлением резко негативных и разоблачительных статей о так называемых «антинигилистических» романах Н. С. Лескова. Отзывы того периода оказали существенное влияние на советскую литературоведческую традицию. Уже переоценивая роль творчества Н. С. Лескова в литературном процессе, литературоведы считали не только хорошим тоном, но и своим долгом упомянуть, что Н. С. Лесков «не понял», «неправильно оценил» суть социально-демократических устремлений молодежи 60-х - 70-х годов XIX века. Окончательный разрыв писателя с революционно-демократической критикой произошел после статьи Д. И. Писарева «Прогулки по садам
российской словесности», где М. Стебницкий (псевдоним Н. С. Лескова) был заклеймен в самой резкой форме. В целом негативный отзыв был поддержан людьми самых разных взглядов, начиная М. Е. Салтыковым-Щедриным и кончая А. А. Флексер-Волынским. Эти авторы обращали своё внимание главным образом на общественную позицию писателя, осуждали «верченный», замысловатый язык писателя.
Относительно доброжелательным можно считать отзыв М. А. Протопопова, выраженный им в статье «Больной талант», где талант Н. С. Лескова все-таки признавался, но считался направленным не в то русло1 (1891). Это, похоже, единственная значительная работа, появившаяся при жизни писателя. М. А. Протопопов обратил внимание на избирательность Н. С. Лескова и его тонкое знание действительности. Автор отмечал, что писателя «привлекают наименее исследованные стороны жизни», указывал на его «реалистический талант бытописателя и психолога», наконец, признал, что «морально-бытовые рассказы Лескова» ярко характеризуют важные стороны жизни и людей.
В 1897 г. опубликовано предисловие Р. И. Сементковского к первому Собранию сочинений писателя, а через год — критический очерк А. Волынского (А. Л. Флексера) «Н. С. Лесков» , где отмечены безусловное своеобразие творческого метода писателя, его «трезвый, хотя и благочестивый ум», не склонный «к сознательным обобщениям и тонкой самокритике». Для нашего исследования интересно, что уже А. Флексер характеризует творчество Н. С. Лескова как бытописание, максимально приближенное к действительности, хотя, он, конечно, акцентирует внимание на изображении писателем «народной жизни», а в отношении интеллигенции и дворянства во многом сохранялся взгляд на писателя, заданный революционно-демократической прессой, особенно по отношению к его романам.
Протопопов М. А. Больной талант // Критические статьи. М., 1902. Флексер-Волынский А. А. Н. С. Лесков СПБ., 1898.
В 1890 г. появился очерк о Лескове А. Введенского, характеизующий его прежде всего как «независимого художника», человека, пишущего вне направлений. Наибольшее внимание А. Введенский уделял рассмотрению структур ментальности, в описанных Н. С. Лесковым типах русских людей, особенно хваля писателя за правдивое, хотя и порой противоречивое описание различных характеров.
Первым серьезным биографом и исследователем творчества Н. С. Лескова стал его близкий приятель А. И. Фаресов . В книге под говорящим названием «Против течений...» А. И. Фаресов не только попытался идеологически «обелить» своего друга, но дал первый подробный очерк жизни и деятельности писателя, основываясь на документальных и мемуарных материалах. Уже в этой первой действительно благожелательно написанной книге Н. С. Лесков охарактеризован как автор, тяготеющий к точному описанию быта разных сословий, «всеохватному» анализу этих описаний.
Второй период развития интереса к произведениям Н. С. Лескова был вызван сочувственной и талантливой статьёй М. Горького4, которая имела своей целью напомнить о незаслуженно забытом писателе и обратить внимание доброжелательной критики на его творчество, дать достойное место среди русских писателей на этапе послереволюционного пересмотра традиций русской культуры, в том числе и художественной литературы5. Цель, поставленная М. Горьким, была достигнута лишь частично - о Н. С. Лескове «вспомнили», но все-таки почти ничего не писали.
В советское время изменение отношения к творчеству писателя в целом, а в частности как к источнику сведений по этнологии можно проследить по характеристикам в учебных изданиях по истории русской литературы.
В 40-70 годы творчеству Н. С. Лескова уделялось несколько абзацев в обширных 600-800 страничных учебных изданиях по литературоведению. Набор разбираемых произведений невелик: «Левша» как пример литературного сказа, описания русского характера человека из народа и засилия бюрократии во времена «Николая Панкина», «Леди Макбет...», как некий «луч света» в купеческом царстве, вслед за Катериной Кабановой А. Н. Островского, в то же время антинигилистические романы «Некуда» и «На ножах» как пример «неправильного», предвзятого взгляда на прогрессивную молодежь и народников.
Уже в конце 70-х годов отношение к Н. С. Лескову начинает постепенно меняться с настороженно-нейтрального на осторожно-доброжелательное. В «Истории русской литературы» для педвузов 1978 года6 Н. С. Лесков характеризуется уже как «замечательный художник-реалист, волшебник слова», в произведениях которого «выражены симпатии к крестьянским массам и характерный... интерес к незаурядным натурам из народа, что сближало писателя с демократическим направлением в русской беллетристике 60-х годов».
В конце 80-х годов литературоведы уже решились осторожно признать предвзятость в отношении творчества Н. С. Лескова со стороны критиков «революционных демократов». Авторы курса «Истории русской литературы» 1989 года издания отмечают, что «...ошибочные положения обществоведов сказались и на литературоведении, которому не хватало широты и многогранности в рассмотрении литературного процесса, обесценивалось или замалчивалось творчество ряда выдающихся писателей не революционно-демократического лагеря, таких, как Достоевский, Лесков, Писемский, Тютчев, Фет...»7. Между тем Н. С. Лесков все еще стоит в ряду «второстепенных» авторов, которым «не полагается» своей главы в учебных изданиях. В конце 90-х годов отношение меняется на явно доброжелательное, причем Н. С. Лесков предстает перед студентами-читателями учебника как выразитель русского духа, русского характера, особое внимание уделяется особенностям христианского мировоззрения писателя, находит свое место и о трактовка положения духовенства в произведениях Н. С. Лескова . Между тем, Н. С. Лесков хотя уже и положительный, но по прежнему малоизвестный и «второстепенный» автор.
Кардинальный перелом в отношении к писателю наступил в конце 90-х годов XX - начале XXI века. В начале 2001 года вышло новое издание «Истории русской литературы», в котором творчеству Н. С. Лескова посвящена отдельная глава, оценка, данная его произведениям, явно доброжелательная, писатель поставлен в один ряд с такими корифеями русской литературы, как Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой и И. С. Тургенев9. В этом учебном издании основное внимание направлено на такие аспекты творчества, которые предыдущие издания тщательно обходили -взаимоотношения Н. С. Лескова с официальным православием, отношение к другим этносам и изображение их в своих художественных произведениях. Здесь дается уже совершенно новая, диаметрально противоположная оценка «антинигилистических» романов. И, наконец, самое свежее издание «Истории русской литературы»10 2004 года, уделяет творчеству Н. С. Лескова отдельную главу, состоящую из почти 90 страниц объемного 800-страничного издания. Полная идеологическая реабилитация творчества Н. С. Лескова дана наряду с признанием особой манеры написания художественных произведений. Всесторонний анализ творчества дополнен указанием на редко упоминаемые ранее источники - церковную литературу XIX века.
Таким образом, можно заключить, что известность Н. С. Лескова среди литературоведов-неспециалистов по его творчеству относится к последнему десятилетию.
Подлинно научное изучение творчества Лескова началось в 40 - начале 80 гг. Великая Отечественная война пробудила интерес общественности к одному из «самых русских», по выражению М. Горького, писателей России.
Для 40 годов характерна тенденция поиска своего рода «национальной идеи»11. С этой точки зрения, проза Н. С. Лескова оценивается как собрание «народных характеров» и «национальных типов». Показательна в этом отношении вышедшая в 1945 году книга Ф. Евнина , в которой впервые, в отечественном изучении произведений Н. С. Лескова чётко поставлена проблема, выражаясь современным языком, функционирования этнических стереотипов в межэтнических отношениях. Ф. Евнин выделяет три типа лесковских героев - «тип богатыря из народа» , «тип талантливого самоучки из народа», «тип праведника из народа»14. Оценивая язык прозы Н. С. Лескова, Ф. Евнин в первую очередь обращает внимание на него как на социально - бытовую характеристику персонажа.
В 40-50-е годы появляются первые обобщающие работы по творчеству Н. С. Лескова - книги Л. П. Гроссмана15 и В. Гебель16. Уже в этих работах отмечается мемуарность прозы Н. С. Лескова, близость его к народным источникам, его новая оригинальная разработка известных фольклорных сюжетов, ведется вдумчивый и целенаправленный поиск реальных исторических источников лесковских произведений. На этот предмет
анализируются заглавия, эпиграфы, цитаты, фигурирующие в рассказах, повестях и очерках, и, хотя цель этих исследований - литературоведческая (понять роль отдельных фрагментов и эпизодов в творческом замысле писателя), подобные работы существенны для историко-этнологического исследования.
В эти же годы выходит одна из самых значительных, замечательных, интересных и, на взгляд автора данной работы, до сих пор не превзойденная по документальной достоверности книга сына писателя Андрея Николаевича Лескова17, материалы для которой кропотливо и по крупицам собраны по всем имеющимся российским архивам, переписке, личному архиву Н. С. Лескова, газетным и журнальным публикациям 60-90 гг. XIX века. Эта книга оказалась неоценимой по собранному в ней фактическому материалу, содержащему информацию о литературных и личных связях писателя, прототипах персонажей его произведений и реальных исторических условиях, в которых создавались эти произведения. Сама по себе, книга Лескова-младшего стала настоящим событием в научном «лескововедении», хотя К. Чуковский называл ее «...мстительной книгой злопамятного сына о крутом и суровом отце»18.
60 гг. XX века отмечены тем, что на смену государственно-патриотическим настроениям пришли настороженно-критические, и в литературе наметилась тенденция считать Н. С. Лескова критиком традиционной крестьянской общины, выводя из этого его разногласия с революционными демократами. Его позиция "против течений" расценивалась как результат трезвого анализа пореформенной действительности. Характерный пример таких взглядов - книга Б. М. Другова19, в которой собственно этнографические моменты творчества Н. С. Лескова не рассматриваются, отходят на второй план, они расцениваются, прежде всего,
как фон, источник тем, образов и языковых средств писателя. Новая кампания против религии заставила обратить внимание ещё на один интересный и до сих пор плохо изученный аспект творчества Н. С. Лескова — описание духовенства как особой социальной группы русского общества. Автор, писавший в границах этого периода, В. Н. Азбукин обращает внимание прежде всего на резко критические, антиклерикальные мотивы прозы Н. С. Лескова20.
В 70 гг. ученые начинают всерьёз интересоваться проблемой народных источников творчества Н. С. Лескова. Одна из таких работ — статья Н. Л. Сухачева и В. А. Туниманова «Развитие легенды у Лескова»21 посвящена анализу и использованию в композиции сюжетов и образов народных легенд, реминисценций из античной, христианской и языческой мифологии, языковой стилизации под миф или легенду, причем целью авторов стало не рассмотрение собственно фольклорной значимости отдельных мотивов, а выяснение всего процесса формирования мифических образов, складывающихся из разнородных представлений, жизненных впечатлений героев.
В эти же годы выходит и книга И. В. Столяровой «В поисках идеала»22, в которой намечена переоценка лесковских персонажей. Ленинградская исследовательница впервые отмечает противоречивость характеров героев Н. С. Лескова, впервые для отечественого исследования творчества Н. С. Лескова она ставит проблему противоречивости и неоднозначности взаимоотношений индивида и социума, и решает эту проблему, опираясь на исторические данные - противоречива историческая обстановка, противоречивы характеры и лица, живущих и действующих в тот или иной период. Такой же подход в своей основе послужил отправной точкой для автора настоящего исследования.
Одной из самых значительных в 70 гг. стала книга В. Ю. Троицкого «Лесков - художник»23, в которой проанализированы основные черты поэтики Н. С. Лескова. В. Ю. Троицкому принадлежит ряд интересных замечаний - о национально - специфических и универсальных чертах быта в изображении Н. С. Лескова, о языке его персонажей как показателе коллективной переосмысленной традиции речи того времени, о роли метаязыковых и невербальных средств общения литературных героев, анекдоте как одном из важных жанров прозаического повествования Н. С. Лескова. Однако работа В. Ю. Троицкого, может быть, и безупречная с точки зрения литературоведа, содержит ряд положений, с которыми трудно согласится этнологу - утверждение об обобщенных типах «национального характера», о слабой прорисовке Н. С. Лесковым собственно этнических реалий быта, о невнимании писателя к социальным сторонам российской действительности.
Осторожные намёки относительно особой «русскости», наличия «русской идеи» в произведениях Н. С. Лескова продолжаются и в 80 гг. Пример тому - книга В. С. Дыхановой24. Останавливаясь на анализе талантливых и наиболее известных повестей «Запечатленном ангеле» и «Очарованном страннике», исследовательница высказывает мысль, что предшествующая критика просто «не справилась» с творчеством Н. С. Лескова из-за присущей писателю витиевато-амбивалентной манеры излагать свои мысли - в дореволюционное время по причине особого натурализма и «циничности» описаний, в советскую эпоху, напротив, писатель казался недостаточно радикальным притом с «сомнительным» идеологическим прошлым. Автор пробует разрешить извечную проблему взаимосвязи среды и личности у Н. С. Лескова через выявление общечеловеческих универсалий.
23 Троицкий В.Ю. Лесков - художник М., 1974
24 Дыханова B.C. «Запечатленный ангел» и «Очарованный странник» Н.С. Лескова. М., 19 К 80 годам относится новая, конца прошлого века позабытая публицистическая манера оценки творчества Н. С. Лескова. Известный критик Л. А. Анненский издал книгу о так называемых классиках «второй руки» - «Три еретика»25, один из героев которой не просто еретик, а самый настоящий «неукротимый ересиарх» - Н. С. Лесков. Показательно название главы, посвященной Н.С. Лескову - «Несломленный». Эта работа - пример «оправдательной», с точностью до наоборот «отзеркаленной» критики середины - конца прошлого века, попытка вновь осмыслить творчество писателя в идеологическом, но теперь уже не революционно-демократическом, а «русском национальном» ключе, что очень характерно для позднеперестроечных работ на любую мало-мальски общественно значимую тему.
В эти же годы снова намечается тенденция трактовки образов и характеров у Н. С. Лескова как обобщенных типов представителей сословий, классов, этносов. Достоверность психологических мотивировок, изображения «типичных характеров в типичных обстоятельствах» по реалистической модели - основная мысль авторов статей сборника "Русская литература 1870-1890ГГ ...". Немного иначе, но в основном в том же духе решает проблему отражения реального характера в художественной литературе и В. С. Семёнов27. Исследователь трактует взаимоотношения общества и индивидуума как «драму положительного героя в отрицательное время», что пытается подкрепить биографическими справками из жизни самого писателя.
Литературоведы обращались и к отдельным аспектам творчества Н. С. Лескова. Стоит обратить внимание на статью В. Е. Хализева
«Художественный мир писателя и бытовая культура»28. Автор рассматривает культурно-исторические реалии в произведениях Н. С. Лескова - одежду, внешний мир, окружающий персонажей, анализирует диалектику физического и духовного в прозе Н. С. Лескова, словом, вплотную подходит к мысли о культурно-универсальном и культурно-специфическом (т.е. этническом), что является одним из «основных вопросов» этнологии. Однако
B. Е. Хализев анализирует, прежде всего, связь словесного искусства с материально-бытовой культурой, точнее с бытовой эстетикой, но ничего не говорит о реальной исторической достоверности предметов, описанных Н. С. Лесковым, и их функционировании в данной этнической и социальной среде.
Одна из самых ярких и талантливых работ о Н. С. Лескове - книга А.А. Горелова «Лесков и народная культура» . А. А. Горелов квалифицирует народные источники как формирующие для мировоззрения и творчества Н.
C. Лескова. В книге дан подробный анализ всех жанров фольклора в произведениях писателя - анекдотов, преданий, демонологических рассказов, христианских легенд, сказок, песен, считалок, пословиц, скороговорок и т.д. Не случайно автор утверждает, что Н. С. Лесков обладал, по сути дела, «этнографическим энциклопедизмом»30. Эта книга оказалась очень полезной при анализе традиционной духовной культуры в произведениях Н. С. Лескова.
Другой проблемой, а именно, проблемой факта и вымысла интересуется исследователь С. Ф. Дмитриенко31. Заслуга этого автора в том, что он не только обозначил, но и разносторонне рассмотрел вопрос о таком своеобразном историческом источнике, как слухи. Являясь частью общественного сознания, не совсем верная, неправильно интерпретированная, а порою и лживая информация служит важным показателем для оценки процессов происходящих в этническом самосознании, нравах, быте, ценностных ориентациях населения. С. Ф. Дмитриенко предложена принципиально новая и, на взгляд автора данного исследования, вполне приемлемая трактовка исторического (и этнологического) факта в художественной литературе - «живое восприятие факта - достоверно» . В работах С. Ф. Дмитриенко впервые отдельно рассмотрено массовое и индивидуальное сознание, что, несомненно, есть достижение отечественного изучения творчества Н. С. Лескова, «застрявшего» на постоянном повторении тезиса о некоем «коллективном сознании» будто бы характерном для лесковских героев. Вторая глава диссертации С. Ф. Дмитриенко33 «Мир глазами лесковских рассказчиков» содержит ценное замечание о картине мира персонажей прозы Н. С. Лескова в целом, что впрямую подводит этнолога к постановке проблемы об этнической картине мира, отображенной в творчестве писателя. Верные и интересные суждения высказаны С. Ф. Дмитриенко относительно восприятия времени, о концепции действительности, о соотношения российской и всеобщей истории у Н. С. Лескова.
В середине 80 - начале 90 гг. литературоведы возвратились к анализу отдельных аспектов творчества Н. С. Лескова и выяснению частных текстологических или языковедческих вопросов. К этим темам обратились: М. Д. Эльзон34(прослежена реальная историческая подоплека создания знаменитой повести «Житие одной бабы», имевшей первоначальное название «Амур в лапоточках»), В. К. Лебедев35 (по достоинству оценена роль первого биографа Н. С. Лескова А. Н. Фаресова, приведены новые архивные данные о народоведческой тематике в произведениях писателя).
Особенно большое количество работ о Н. С. Лескове появилось в 1986 году, в год 150-летия со дня его рождения, широко отмечавшемся научной общественностью, в первую очередь, конечно, филологами. В свет вышло юбилейное издание произведений Н. С. Лескова36, прошли многочисленные конференции, были изданы десятки статей, а также научные сборники - в Орле, Курске, Киеве, Москве, Ленинграде. Юбилей писателя был отмечен за рубежом: в Италии и во Франции прошли научные коллоквиумы по изучению его наследия37. Именно поэтому этапным в исследовании творчества Н. С. Лескова можно считать выпущенный через два года после •зо юбилея писателя сборник статей «Лесков и русская литература» . Во вводной главе в этой книге было, наконец, признано, что «... успешное изучение творчества писателя невозможно без последовательно исторического подхода к нему ...»39. В статьях первой части раскрывается художественное своеобразие прозы Н. С. Лескова - особенности поэтики и сатиры, художественные открытия, понятия о времени40. Во второй части весьма полно раскрывается роль источников и творческих связей писателя -культурной традиции, на которую он опирался41. В конце 80-х - начале 90-х годов научное литературоведение продолжало изучать культурно -исторические традиции взаимосвязи Лескова42.
Сейчас изучением творчества Н. С. Лескова серьезно занимаются также в Польше, Болгарии, Германии, Чехии и Словакии, Великобритании, США. Свидетельством этому, стала, например, Международная лесковская конференция 1995 года в Орле, на которой было прослушано 11 докладов ученых из дальнего зарубежья, представлявших мировую науку о Лескове. Среди них крупнейшие лесковеды, авторы книг и статей о писателе: Уильям Эджертон43, Хью Маклейн44, Юлия Алиссандратос (США), Инее Мюллер де Морог (Швейцария), Пьеро Каццола и Данило Кавайон45 (Италия), Кенет Ланц46 (Канада), Ивааса Такэхиса и Дзенья Цукамото (Япония) и др. Таким образом, подтверждаются слова, сказанные о нем Л. Н. Толстым: «Лесков -писатель будущего». За последние пятнадцать лет: опубликовано почти столько же работ о Лескове, сколько было издано за целое столетие47.
По-прежнему острой остается проблема неполноты художественного наследия Н. С. Лескова. Пока еще не издано академического собрания сочинений писателя. В 1997 году в серии "Литературное наследство " вышел 101 том, посвященный Н. С. Лескову - «Неизданный Лесков»48. В этом томе собраны варианты его известных произведений, не вошедшие в основные тексты отрывки, коренным образом меняющие или существенно уточняющие трактовки широко распространенных произведений. Вступительные статьи к предлагаемым материалам, написанные Д. С. Лихачевым О. Е. Майоровой и некоторыми другими исследователями затрагивают интересные для нас темы - роль языка и метаязыковых средств в построении художественного образа, особенности трактовки тех или иных этнологических реалий у Н. С. Лескова. Актуальными и острыми остаются задачи собирания, научного комментирования (в том числе и этнологического), атрибуции лесковских текстов. Не изданы рукописные материалы (подготовлен только их каталог), не переизданы многие из прижизненных публикаций писателя. Начало этой работе положено изданием академического собрания сочинений Н. С.
Лескова под руководством И. П. Видуэцкой в 30 томах из которого к 2004 году вышло только около трети.
Вновь поставлена и переосмыслена роль писателя в общественно- литературном процессе. Наиболее глубоко и масштабно эта проблема освещена в докторских диссертациях И. В. Столяровой49 и И. П. Видуэцкой50. Созданы как обобщающие работы обо всем творчестве писателя с переоценкой многих позиций советского «официозного»
литературоведения51, так и адаптированные издания для прочтения и изучения произведений Н. С. Лескова в школе52. Написаны и защищены диссертации, в которых творчество Н. С. Лескова рассматривается с философской53 и психологической54 точек зрения.
Активно развивается региональное «лескововедение»: значимые работы о творчестве писателя появляются уже не только в Москве, Петербурге и Орле (на родине Н. С. Лескова), но и в Сибири, в Поволжье. Исследователей интересуют краеведческие детали лесковских описаний55, отдельные теоретические проблемы его творчества56, детали творческого замысла отдельных произведений57.
Появились новые, довольно острые проблемы в исследовании творчества писателя, которые раньше по идеологическим и по морально-этическим соображениям замалчивались. В частности, это касается темы «Н. С. Лесков, евреи и антисемитизм»58. В работе С. Левина подняты важные для этнолога темы отношения писателя к евреям, его общественно-политические взгляды на этот счет и их художественное отражение.
Можно с уверенностью констатировать, что интерес мировой науки к личности и творчеству этого яркого русского писателя необычайно возрос. Таким образом, сегодня творчество Н. С. Лескова оценивается как творчество писателя мирового уровня.
Нетрудно заметить, что в упомянутых литературоведческих работах рассматривалась одна из основных и важных для филологов проблем - как личность писателя отразилась в его произведениях и как его творчество повлияло на общелитературный процесс. Этот, до известной степени, «лесковоцентричный» взгляд допустим, правомерен и оправдан в филологическом исследовании. Однако он недостаточен в задуманном нами этнологическом исследовании. Этнолог, занимающийся изучением конкретных народов и этнических проблем, использующий художественную литературу как этнологический источник, вправе поставить вопрос по иному, а именно - как народ и реалии народной жизни отразились в творчестве писателя.
Некоторые идеи, ведущие к такому подходу, есть как в современном литературоведении, так и в современной культурологии. В частности, филолог М. С. Макеев в своей книге «Спор о человеке в русской литературе 60 - 70 гг. XIX века. Литературный персонаж как познавательная модель человека.» формулирует свой подход к данному феномену совсем в духе этнологии59. Близок к вышеупомянутому подход Р. М. Алейник. В своей монографии60 исследовательница предлагает биографический подход для рассмотрения творчества писателя. Для нее биография героя - «изображение психофизического жизненного единства» личности. Следовательно, персонаж также может представлять собою цельность, как и реально существующая личность.
В теоретическом литературоведении формируется два взгляда на природу художественного образа, выраженные в книгах Б. И. Бурсова61 и С. Г. Бочарова62.Для первого из них характерен взгляд на персонаж литературы как на совокупность национальных, социальных и сословных черт; для второго - представление о том, что человек - частица модели мира, присутствующая в метатексте. И, наконец, в книге Д. С. Лихачева "Текстология", на примере памятников древнерусской литературы предпринят анализ текста в его историческом окружении63. Проводимое исследователем различие между читательским и научным взглядом на художественное произведение правомерно и в нашем случае. Критическое восприятие художественного текста помогает использовать любой факт, попадающий в орбиту внимания исследователя, как факт реальности, так и плод авторского творчества.
Теоретическое литературоведение, по сути дела, вплотную подходит к постановке вопроса об «антропологии» литературного персонажа. Литературоведов интересуют не только конкретные личности, явившиеся прототипами известных литературных героев, не только сами герои, как выразители определенного собрания идей автора, а персонажи - как социальные типы. В этом плане интересна работа Е. Л. Конявской64, которая приходит к выводу, что авторское самосознание, творческая биография, социальная биография и история повседневной жизни и быта чрезвычайно тесно взаимосвязаны. Более того, в ее книге сформулированы существенные теоретические положения для оценки т. н. «авторского комплекса»: совокупности, состоящей из образа автора, личности автора, авторского . М., 2000 начала и авторской позиции. Все это вместе и дает возможность считать художественное произведение источником по социальной истории.
Наконец, сами историки, ставят вопрос о соотношении литературного образа и социальной реальности. Одной из первых к этой проблеме обратилась М. В. Нечкина65. Однако в своей книге она рассматривает проблему «литературный персонаж - реальность» с точки зрения социального воздействия на читателя, а не отображения реального бытия в художественном произведении.
В самом деле, как верно отмечено литературоведом и социологом литературы В. Я. Канторовичем66, литература отражает реальную жизнь, но не зеркально, а иначе, хотя сам автор не указывает, как именно67.
Если проанализировать содержание любого реалистического художественного произведения, то можно увидеть, что достаточно часто основная его идея - деятельность различных людей в различных обстоятельствах и результаты этой деятельности. Восприятие жизни людей в обществе - некоей совокупности индивидов, связанных общей культурой, или ряда человеческих групп или культур, взаимодействующих между собой - как деятельности, отражает один из известных подходов в современной культурологии - С. А. Арутюнова, М. А. Маркаряна, выраженной в книге «Культура жизнеобеспечения и этнос»68. Если иметь в виду трудовую деятельность, то данный подход применим и в настоящем исследовании. Необходимо определить, однако, в отношении художественного произведения, какую именно деятельность мы будем рассматривать, кем эта деятельность совершается, что считать результатом этой деятельности.
Прежде всего, необходимо сделать оговорку, что деятельность персонажей литературы не является реакцией реальных людей описываемого времени в реальной обстановке, а представляет собой предполагаемые
модели поведения (подмеченные автором или выражающие его точку зрения) на соответствующее поведение других лиц. Таким образом, деятельность персонажей литературы - это модель деятельности реальных людей69.
Во-вторых, сам персонаж литературного произведения - это, конечно, не реальный человек, а тип, образ, претендующий на репрезентативность по отношению к реальной личности и являющийся ни чем иным, как полезной гипотезой для конкретного исторического исследования70.
В третьих, отображение деятельности этих персонажей не есть достоверное и прямое описание реальности, а описание возможных ситуаций и единичных действительных случаев.
Следовательно, жизнь литературных персонажей отражена как символическая, предполагаемая деятельность, состоящая из физических действий (поступков) и коммуникативных актов (проксемических и речевых). Перед нами - художественно отраженная модель общества в данную эпоху.
Источники, подобные художественному тексту, имеют свои достоинства и недостатки. К их отрицательным сторонам относится заранее предполагаемая субъективность; зато есть и достоинство - единство композиции и замысла. Этнология имеет свои подходы к изучению реальных обществ и их самосознания по самым разным аспектам. Автор данного исследования попытается применить эти подходы по отношению к обществу «вымышленному», отраженному.
Основной исследовательский метод данной работы - историко-сравнительный. Автор, прежде всего, пытается найти аналогии этнологических реалий, упомянутых в произведениях Н. С. Лескова, в научной литературе и изданных и прокомментированных источниках описывающих быт России XIX века. С этим связано широкое использование трудов, опирающихся на конкретные этнологические материалы, исторических сведений, краеведческих описаний.
С такой целью в данной работе использованы справочники и энциклопедии, содержащие информацию об описанных Н. С. Лесковым городах, местностях71, а также данные исторических, этностатистических исследований , мемуарные источники, описывающие быт и нравы упоминаемых сословий73, или воспоминания о конкретных исторических лицах, послуживших прототипами для героев рассказов, очерков и повестей74. В качестве сопоставительных источников сведений послужили ус книги Н. Костомарова и Д. К. Зеленина и этнографические материалы, 7А собранные современным ученым М. Науменко , а также теоретические 77 7Я 70 разработки современных психологов, культурологов и мифологов . В статье А. М. Конечного80 на основе письменных источников восстанавливается картина народных гуляний, которая может быть сопоставлена с описанием проведения праздников и досуга в произведениях Н. С. Лескова. Также в работе использованы сборники этнографических материалов с описанием фольклорных сюжетов, обрядов, обычаев и поверий81, а теоретическое осмысление функционирования архаических традиций в урбанизированных и урбанизирующихся обществах может быть почерпнуто из статьи К. В. Чистова о традиционных и вторичных формах культуры82. Теоретические проблемы этнологического изучения семьи достаточно полно рассмотрены в работах Я. В. Чеснова83, О. А. Ганцкой84, И. И. Лукина, Г. В. Старовойтовой, Т. Б. Щепанской, Л. А. Абрамяна85 и коллектива авторов книги «Человек в кругу семьи ...»86. Касаясь семейной проблематики, хотелось бы отметить также статью А. Ф. Некрыловой и В. В Головина87, посвященную мало разработанной в этнологии, но существенной теме реализации отцовских функций в семье. Скудость и фрагментарность полевых материалов предопределила слабую изученность этой темы в научной этнологической литературе, тогда как на данном материале эта тема может быть рассмотрена более полно. Следовательно, автору данного исследования предстоит сделать попытку приложить их теоретические разработки к своеобразному виду этнологического источника -художественному произведению.
Язык персонажей произведений Н. С. Лескова - совершенно особая тема. Именно с помощью языковых средств, описаний событий, способа их выражения и создается литературный образ, поэтому и имеет смысл рассмотреть вопрос о языке подробнее и попытаться определить, как язык характеризует конкретную личность в историко-этнологическом контексте. Ценным теоретическим подспорьем в этом отношении послужила книга Н. Б. Мечковской «Социальная лингвистика»88, затрагивающая один из важных для рассмотрения данной проблемы вопросов вопрос о наличии неязыковых и метаязыковых средств общения и коммуникации в разных культурах, так
как облик героя, в том числе и этнический часто выражается языковыми средствами.
Не менее важными с этой точки зрения были работы ученых разных специальностей, изучающие разные аспекты языка и психической структуры общения - «Язык и мышление»89, «Язык и идеология»90, «Язык и личность»91.
Анализируя характер мышления и сопоставляя его со словесным выражением продуктов этого мышления, авторы первого исследования пришли к мысли о возможности формального членения высказываний и упорядочении их при последующем анализе методом, схожим с контент -анализом.
Исследование «Язык и идеология» посвящено, прежде всего, политической деятельности, агитации и её выражению через языковые средства. Тем не менее, опираясь на то, что идеологическое, а часто и этническое может быть выражено с помощью специфически окрашенной информации, автор данной работы пытается проанализировать: а) употребление этнически окрашенной лексики; б) употребление одних и тех же слов представителями различных этносов; в) особенности синтаксического строения высказываний литературных персонажей разной национальной принадлежности.
Книга «Язык и личность» затрагивает еще одну важную тему - изучение языковой культуры отдельного индивидуума, которая может служить единицей статистического анализа. В статье С. Е. Никитиной92 прослеживаются связи языкового сознания и самосознания личности, выраженных в вербальном поведении, а также связь тезаурусов - бытового и фольклорного, что помогло в оценке такой яркой характерной черты в прозе
Н. С. Лескова, как народная этимология. В статье Р. Ф. Пауфониной93 содержатся ценные наблюдения о народной антропонимии (проблема «прозвищ») и связи социолингвистического поведения с набором социальных ролей индивида. Историческому аспекту коммуникации посвящена статья Н. Б. Можаевой94. Это - прямой подход к изучаемой автором проблеме определения речевых типов. Статья помогла логически выделить рубрики простонародной лексики. В статье Е. Ю. Кукушкиной95 анализируется ещё один микрокруг словоупотребления - «домашний» язык в семье. В теоретической статье Л. И. Баранниковой96 сформулировано определение и очерчены функции просторечия, описано его развитие в разных социальных слоях и на разных временных отрезках.
При определении смысла некоторых устаревших слов и выражений незаменимым оказался Толковый словарь В. Даля97
В заключении описания языковой компоненты автором выполнено два конкретных лексикографических исследования речи персонажей - «Опыт
« 98
словаря народных этимологии» , идея создания которого предложена В. А. Тунимановым99 и Ономастикой творчества Н. С. Лескова (на примере романа «Божедомы»)100, созданный по образу и подобию работы О. С. Крюковой101 с добавлением одного, существенного на взгляд автора данного исследования, момента - туда включены также этнонимы.
Проблема выраженности этнического облика через внешность давно интересовала людей не только на обьщенном, но и на научном уровне. Одно из последних исследований на эту тему - книга С. И. Ярёменко «Внешность
человека в культуре»102, в которой рассмотрены такие важные аспекты внешности как символичность тела человека и его частей, половой диморфизм и его восприятие в различных культурах, одежда вообще как «сосуд социальных содержаний» и народный костюм - в частности. Вывод исследования опирается на материалы культурологии и истории, но в нем не рассмотрена проблема этнического образа тела в художественной
1 л литературе. Зато в статье Ю. Л. Троицкого мы имеем первоначальную теоретическую разработку для анализа описания внешности героя художественного произведения в этнологическом контексте - особенности и своеобразие изображения как конкретного - исторического, так и типического лица в литературе. Изучая материально-вещный мир в прозе Н. С. Лескова, автор неоднократно обращается к новейшим и наиболее полным монографическим исследованиям по русской материальной культуре104.
Наконец обобщающие выводы о быте и образе жизни российского общества не могли бы быть сделаны без знакомства со статьёй Г. Е. Маркова105 и уже упомянутой книгой В. Я. Канторовича, в которой высказана мысль о том, что совокупность литературных образов может рассматриваться как гипотетический объект для социологических (а в нашем случае историко - этнологического) исследований образа жизни данного общества в данную
106
эпоху .
Таким образом, завершая историографический обзор, можно констатировать, что, с одной стороны ученые - литературоведы, изучающие творчество Н. С. Лескова близко подошли к постановке вопроса об оценке произведений Н. С. Лескова как важного историко-культурного источника; с другой стороны - ученые-этнологи создали необходимую методологическую и сравнительно-историческую основу для задуманного нами исследования. Канторович В. Я. Указ соч., с.119. Источниковедческий очерк Собрания сочинений Н. С. Лескова как источник
Замалчивание Н. С. Лескова историографией отразилось и на издании его сочинений: полное собрание его сочинений не издано до сих пор, многие работы, собранные в рукописном архиве также не изданы и не прокомментированы1. Тем не менее, в настоящее время существуют два наиболее полных собрания сочинений Н. С. Лескова . Первое из упомянутых - собрание сочинений под редакцией Б. Эйхенбаума содержит практически всю переписку Н. С. Лескова и некоторые из его публицистических произведений, зато в нем представлены далеко не все художественные произведения. Издание отличается чрезычайно скурпулезно составленным комментарием, добротными и интересными для историка и этнолога примечаниями. Второе издание, под редакцией В. Ю. Троицкого включает практически все, за редкими исключениями, художественные произведения, но не содержит ни переписки, ни крайне важной для оценки творчества Н. С. Лескова публицистики. Комментарии к этому изданию носят в основном литературоведческий характер. Кроме того, в последние годы предпринято издание полного академического издания произведений Н. С. Лескова3, хотя проект к настоящему времени не завершен.
Трудности с изданием полного собрания сочинений связаны с тем, что Н. С. Лесков на протяжении всей своей нелегкой жизни работал во многих небольших, малозначащих изданиях, где даже не всегда упоминалось его имя. В 30 - летний юбилей своей творческой деятельности Н. С. Лесков получил «товарищеский подарок» от молодого писателя Быкова - полную библиографию своих сочинений и был несказанно рад, потому что и сам толком не помнил, где, когда и что он опубликовал.
Однако следует упомянуть о том, что в ноябре 2002 года компания ИДДК, издающая классическую литературу на CD-дисках выпустила первое в своем роде издание собрания произведений Н. С. Лескова в электронном виде. В него вошли «27» томов его сочинений: «все» художественные произведения, рецензии, переписка, наиболее полное из известных автору диссертации собраний публицистики (в том числе и приписываемые Н. С. Лескову произведения), редкие и высококачественные фотографии, мемуары и воспоминания о писателе. Это издание не избежало ряда технических недостатков: в раздел публицистики попали некоторые художественные произведения и наоборот; два произведения повторяются; некоторые из произведений Н. С. Лескова все-таки не попали и в это издание (например, «Маланья-голова баранья», «Наль и Дамаянти», единственная пьеса Лескова «Расточитель», вошедшие в пожизненное собрание сочинений); в издании полностью отсутствует справочный аппарат. Тем не менее, это наиболее полное из известных автору на сегодняшний день собраний сочинений Н. С. Лескова, вот почему автор и решил сделать именно это издание ключевым источником для ссылочного аппарата своей работы4.
Характеристика произведений Н. С. Лескова как исторического источника
Произведения Н. С. Лескова как писателя - реалиста во многом достоверны и отражают реалии быта того времени, который в них описывается.
Реализм Н. С. Лескова - это реализм несколько особого вида. Этот реализм получил название социально-психологического. Тем самым он становится ближе к антропологическому очерку о «быте и нравах».
Социально-психологические романы, рассказы и очерки нередко имели своеобразный тип художественного мышления, промежуточный между рационалистическим и эмоционально-чувственным: отличаясь от «классиков», создавших произведения с четкими моральными тенденциями, они по своему просветительскому пафосу близки к просветительской тенденциозности демократической беллетристики. «Произведения социально-психологического реализма обогащены общественно-политической злободневностью жизненных конфликтов современности...» 5.
Отношение к вымыслу вообще у писателя было своеобразное. Н. С. Лесков считал, что «...в жизни, особенно у нас, на Руси, происходят иногда вещи, гораздо мудренее всякого вымысла..., и, между тем, такие странности часто остаются незамеченными...». По мнению Ю. В. Лебедева, одного из исследователей творчества Н. С. Лескова, у писателя «...четко выражена установка на художественный документализм с недоверием к вымыслу, к игре воображения и творческой фантазии..»6
Художественные произведения (романы, хроники, повести очерки и рассказы) представляют собой зачастую художественный пересказ происходивших в реальности событий, публицистика посвящена таким актуальным вопросам тогдашней русской жизни как семья, брак и проблема разводов; образование, воспитание и интеграция в русское общество детей старообрядцев; хозяйственные, бытовые вопросы жизни горожан (в основном - жителей Санкт-Петербурга и Орла) и сельских жителей в пореформенные годы; проблемы существования крестьянской общины. Переписка дает представление о личных контактах писателя, его субъективном взгляде на те или иные проблемы, сведения о прототипах его произведений. Определенно имели воспитательные цели святочные рассказы Н. С. Лескова7.
Однако есть также и специфические произведения, являющиеся, по сути дела, полноценными историческими источниками, основанные на обработке документального материала и касаются они, прежде всего, проблем старообрядчества и русского православного духовенства.
Н. С. Лесков пользовался реальными документальными материалами дневников и записок, когда писал «Загадочное происшествие в сумасшедшем доме», «Синодальный философ», «Сеничкин яд», «Борьба за преобладание», «Архиерейские объезды».
На достоверных фактах построен, например, очерк «Загадочное происшествие в сумасшедшем доме»(25). Это «достоверные случаи», рассказанные автору, либо пережитые им самим является основой для рассказов «Голос природы» (27), «Приведение в инженерном замке» (37), «Путешествие с нигилистом» (38), «Белый орел» (47), «Томление духа» (57), «Импровизаторы» (74), «Пламенная патриотка» (94), «Пустоплясы» (99), «Справедливый человек» (112), «Ум свое, а черт свое» (114).
В рассказах «Епархиальный суд» и «Случай у спаса в Наливках» используются материалы церковной периодики, в частности, «Новгородских епархиальных ведомостей».
Использовал Н. С. Лесков и архивные материалы. В частности, с помощью творческой переработки такого рода источника появилось содержательное произведение «Бродяги духовного чина». Причем, в данном случае Н. С. Лесков работает как профессиональный историк: «...Исполняя просьбу моего покойного приятеля, я пересмотрел «охапку» (документов -О. К. ) и нашел в числе переданных мне бумаг немало любопытного, хотя это все по преимуществу клочья и отрывки, касающиеся очень разнообразных предметов. Самое цельное составляют листы, очевидно вырванные из
7 Кретова А. А. Проблема...с. 98. переплетенной копийной книги, в которую полностью вписывались указы, полученные полтавским "всечестным протопопом Евстафием Могилянским из киевской митрополии"(53). Указы охватывают время с 1743 по 1780 год, т. е. всего тридцать семь лет весьма интересной в жизни России эпохи XVIII столетия, и интерестны не менее, например, чем краткие выборки из "Книнской судебной книги", сохраненной киевским профессором Антоновичем и отпечатанные в "Киевской старине", или "Известия об излишних монахах", выводимые в том же издании профессором киевской духовной академии Ф. Терновским. Все указы названной версии помечены на полях кратко словом "о сиску", т. е. о розыске беглых людей, или, как они в самых указах названы, "бродяг духовного чина". Пометки эти, вероятно, сделаны рукою самого "всечестного протопопа Евстафия", а может быть и чьею другою, но это, впрочем, не важно. Бумага толстая, сине-серая и значительно обветшалая, чернила порыжелые, почерка, главным образом, два, — оба составляют переходную манеру от полоустава к скорописи. Один довольно красив, оба нечетки...»(53).
Н. С. Лесков подобрал целые указы "о сиску" и уцелевшие обрывки по годам и сделал из них выписки в хронологическом порядке, чтобы можно было наглядно себе представить, как шло и развивалось в духовенстве чине такое любопытное явление, как бродяжничество, составляющее весьма характерную черту того времени, т. е того времени, по словам историков церкви, когда было «строго и благочестиво». Текста самых указов Н. С. Лесков не приводит, а приводит, в основном, приметы, имена и мотивы беглецов, перемежая их со своими анализом и комментариями(53).
Более того, относительно некоторых источников он осуществляет настоящую научную историческую критику. В частности, дебатируя с изданием М. Н. Каткова, Н. С. Лесков критически рассматривает так называемые «скаски» - документы о путешествиях россиян в XVI-XVTII в в чужеземные края. «...Скасками назывались в России сообщения, которые «бывалые» люди, по возвращении из своих удалых прогулок, подавали своим милостивцам или правителям, а иногда и самим государям. В «скасках» удальцы обыкновенно повествовали о своих странствиях и приключениях, об удали в боях и о страданиях в плену у чужеземцев...» (54). В 1894 году, в «Чтениях Московского Общества Истории и Древностей России» были напечатаны две челобитные со «скасками», поданные в 1643 г, царю Михаилу Феодоровичу «турскими полонениками», калужским стрельцом Иваном Семеновым Мошкиным и московским посадским человеком Якимом Васильевичем Быковым. Редакция «Русского вестника» заинтересовалась этим документом и в политических целях воспроизвела «скаску» с полным доверием ко всему, что там сказано. Она прямо назвала «скаску» Мошкина и Быкова «достоверным источником, который обстоятельно рисует быт чужих стран и предприимчивость, бескорыстие и патриотизм русских людей». Н. С. Лесков по своему горячему «нетерпячему» характеру вступил в полемику с катковским изданием и предпринял исследование двух «скасок» - Мошкова и Баранщикова в своем очерке, фактически в исторической статье «Вдохновенные бродяги».
Наконец Н. С. Лесков пользуется материалами житийной литературы, церковными книгами, в том числе и старопечатными. В частности, его рассказы о древнем христианском Востоке построены на материалах Пролога и других изданий.
В своем рассказе «Легендарные характеры» (о типах женщин в житийной литературе). Н. С. Лесков, соединяет обращение к житийной литературе с актуальными проблемами современности (в частности, с женским вопросом). Он формирует, по сути дела, новое художественное произведение, обращенное к злободневным проблемам его времени с опорой на культурную традицию. Н. С. Лескову необычайно талантливо удавалось включать житийные мотивы не только в художественные произведения, посвященные старине, но и в современные, злободневные очерки и рассказы8.
Подобный дидактический характер носят: «Святочные рассказы» -«Жемчужное ожерелье», «Неразменный рубль», «Зверь» и некоторые другие. На основе материалов житийной литературы написаны рассказы Н. С. Лескова о древнем христианском Востоке - «Аскалонский злодей», «Лев старца Герасима», «Легенда о совестном Даниле», «Повесть о богоугодном дровоколе», «Прекрасная Аза», «Сказание о Федоре-христианине и его друге Абраме-жидовине», «Скоморох Памфалон», «Сошествие во ад».
Таким образом, можно заключить, что в произведениях Н. С. Лескова использовался ряд традиционных исторических источников, получивших всего лишь несколько иную, художественную обработку. Многие художественные произведения писателя написаны с явной и специально оговоренной опорой на известные источники - в них упомянуты современные Н. С. Лескову лица и события, участником которых был не только он сам. Более того, публицистические очерки Н. С. Лескова - яркие образцы натуралистического «физиологического очерка» 60-х годов и потому нацелены скорее на описание, чем на анализ явления. Переписка Н. С. Лескова - также ценный исторический источник, имеющий объективное фактическое наполнение благодаря обратной связи с адресатом писателя. Вот почему творчество Н. С. Лескова можно с достаточным основанием назвать достоверным, хотя и своеобразным историческим и этнологическим источником.
Методология исследования художественной литературы как источника по этнологии
В предыдущих разделах источниковедческого очерка излагалась характеристика содержания источника, т.е. что предполагается изучать. В
8 Проблема литературных жанров, Томск, 1999, с. 288. данном разделе следует рассмотреть то, как это следует изучать. Хотя произведения Н. С. Лескова и не изучались этнологами, но в историографии существуют некоторые подходы к изучению этнографических реалий в литературном произведении вообще. Уже существуют подходы к изучению художественной литературы как этнологического источника, которые следует принять во внимание9.
В частности, следует обратить особое внимание на статью Е. И Филипповой, так она посвящена в первую очередь теоретическим вопросам этнологического источниковедения художественной литературы. В этой работе предложен критерий пригодности литературного произведения для этнического анализа: «художественное произведение может рассматриваться как источник только в том случае, если оно создано на основе личных наблюдений автора и не является результатом изучения других источников, как обычно бывает при написании исторических романов, повестей и прочее»10. Критерий достаточно жесткий, так как выдвигает на первый план исключительно личный опыт писателя, в то время как большая часть собственно этнологических источников создается не только при прямом, в том числе «включенном» наблюдении. Если, однако принять во внимание то, что любая, даже заведомо ложная информация источника, будучи подвергнута критическому анализу может быть использована, что большая часть произведений Н. С. Лескова написана с опорой на собственный опыт, этот критерий может быть принят с нижеследующими дополнениями.
Констатируя, что художественная литература - в первую очередь источник о культуре, быте и нравах, стереотипах поведения, ценностным ориентациях, брачно-семейных отношениях и других аспектах соционормативной культуры, Е. И. Филиппова предлагает несколько
9 Филиппова Е. И. Художественная литература как источник для этнографического изучения города. // СЭ 1986,№4,с.26-37.
10 Филиппова Е. И. Указ. соч., с. 26. процедур для анализа текста литературного произведения. Их полезно рассмотреть в применении к изучаемому источнику.
Первый шаг - датировка времени написания и действия романов, повестей, хроник, рассказов и т. д.. Все творчество Н. С. Лескова включено во временной диапазон между 1863 годом и до 1894 года т.е. от начала творчества и до смерти автора произведений. Этот период - пореформенные годы, а события, описываемые Н. С. Лесковым, - это, в основном, период с XVIII столетия до начала 90 гг. XIX века.
Второй шаг - выявление этнологических реалий в произведениях Н. С. Лескова и определение, какая сторона жизни и насколько подробно отражена автором. В настоящем случае - это жизнь российского общества в разнообразных аспектах в XVIII-XIX веке - при переходе от феодализма к зарождающемуся и развивающемуся капитализму.
Третий шаг - попытка определить культурный контекст, в котором создавалось произведение, и вычленить культурную традицию, на которую опирался автор при создании своих произведений.
Это, вообще говоря, посильная задача, т.к. отечественные литературоведы довольно полно разработали тему «Лесков и культурная традиция»11.
Рассматривая культурную традицию, логично выделить три её аспекта: художественный (упоминание изобразительных произведений в рассказах Н. С. Лескова - например, известных картин К. П. Брюллова в «Чертовых куклах», творчества И. Е. Репина и Н. Г. Ге), музыкальный (упоминание музыкальных произведений - например творчества близкого к церковным кругам композитора Бортнянского в «Инженерах-бессеребрениках» и «Мелочах архиерейской жизни», а также знаменитых и популярных во времена Н. С. Лескова певцов и певиц - О. Петрова, А. Патти) и, конечно, литературный (упоминание литературных произведений, развернутые
см. итоги этих исследований в книге "Лесков и русская литература". М., 1988. сравнения, цитирование, использование сюжетных мотивов; из отечественных писателей - Л. Н. Толстого, Н. В. Гоголя, Т. Г. Шевченко, а из зарубежных - Ж. де Сталь, А. Дюма, Б. Ауэрбаха, Ч. Диккенса).
На литературной традиции стоит остановится подробнее. Здесь можно выделить пять культурных слоев:
1) использование античной мифологии и литературы (сравнение Зинаиды Потемкиной с Поппеей - Сабиной, Селивана -с Пифоном, Павлина - с Аргусом, Савелия Туберозова - с Зевсом);
2) использование древнерусской литературы (элементы повести о Горе - Злочастии в укоризненной речи матери Миши в «Грабеже»; использование цитат из «Слова о полку Игореве» в «Продукте природы»);
3) использование богословской средневековой цитаты из Библии (элементы Нагорной проповеди в разговоре Клавдии со священником в «Полуночниках», стихов из псалтыри приказным Жигою в «Железной воле»);
4) использование европейской просветительской и романтической литературы (сравнение Несмертельного Голована с героем романа В. Гюго - Жильяттом, сравнение Павлина с Гёте);
5) использование современной писателю русской литературы (упоминание Н. В. Гоголя и его «Мертвых душ» в анекдоте об англичанине в «Железной воле», полемика с теорией Л. Н. Толстого о непротивлении злу насилием в «Полуночниках» и «Зимнем дне»).
Четвёртый шаг - анализ самого произведения и составления «анкеты» на каждого героя произведения, содержащего данные о поле, возрасте, семейном положении, сословной и профессиональной принадлежности, вероисповедании и этнической принадлежности12. Анализируя произведения Н. С. Лескова следует сразу оговорится, что такие «анкеты» могли быть
12 Филиппова Е. И. Указ. соч., с. 32. составлены только на главных героев, которые описаны достаточно подробно, но и у них бывает чрезвычайно трудно точно зафиксировать возраст, не всегда удается уточнить вероисповедание и этническую принадлежность. Более того, большинство второстепенных и эпизодических героев в произведениях Н. С. Лескова, упомянуты только по одному из вышеназванных признаков, и судить можно только об их половой принадлежности. Причем следует упомянуть, что в литературном произведении наличие таких эпизодических персонажей - часть авторского замысла, поэтому следует учесть, что сколько-нибудь полная анкета, составленная на литературного героя, не всегда возможна и необходима и важнее на взгляд автора этого исследования выделить функцию эпизодического лица произведения. Тем не менее, перепись литературного населения дает представление обо всей совокупности «литературного населения» в произведениях данного автора.
Пятый шаг - выяснение территориальной привязки литературного населения, составление ономастикона, списка упомянутых этнонимов с развернутыми цитатами и указателя этногеографии художественного произведения.
В это м отношении интересен психолингвистический подход к творчеству Н. С. Лескова. В диссертации М. Л. Левченко приведены результаты серии экспериментов, предпринятых исследовательницей с целью установить особенности восприятия текстов писателя для описания его картины мира. 10 коротких рассказов Н. С. Лескова давали прочитать ученикам старших классов, студентам и преподавателям, проходящим курсы повышения квалификации, причем предлагалось выразить эмоциональное отношение к самому тексту, к героям, к автору текста и его языку. При этом М. Л. Левченко пришла к выводу о существовании определенных конвенциональных стереотипов: мифологем, бытологем, составляющие части которых, понятийно-предметные компоненты выявляются вербально; о наличии оценочных компонентов смысловых полей в идиостиле Н. С. Лескова, которые представляют сложный эмоционально-оценочный понятийно-ассоциативный комплекс, репрезентируемый в художественных текстах. М. Л. Левченко установила способы выделения ведущих эмоций: вербальное повторение, использование эмоционально «нагруженной» лексики, синонимического ряда для усиления эффекта. Определяющие «идеостиля» Н. С. Лескова это пресловутые «словечки» из числа его «народных этимологии» - «хап-фрау», «нос бугровый» (багровый? неровный? - О. К.), «давайте жить антруи (втроем - О. К.)» - носящие заведомо эмоционально-оценочный характер (например, см. (82)). Другая особенность идеостиля - «лукавая» правда («умный» оказывается дураком и наоборот, «вежливый» - более невоспитан, чем уличный бродяга). М. Л. Левченко разработаны 3 вопросника для определения идеостиля, а также особая методика «моделяции личностных смыслов». Картина мира писателя, по мнению исследовательницы, состоит из определенным образом подобранных выразительных речевых средств, имеющих эмоционально-оценочный смысл.
Эти теоретические соображения и методика, а также разработки Ю. В. Кольцовой легли в основу концепции автора о существовании вполне конкретных информационных связей между различными частями текста произведений, служащих для достижения особого эмоционального эффекта. Взяв на вооружение предположение о том, что формальный подбор этнически (этнотерриториально) окрашенной лексики - этнонимов, названий стран, материков, городов, деревень и других географических названий, а также личных имен в контексте художественного «этногеоргафического» пространства, я выдвинула гипотезу о возможности определения отношения писателя к некоторому объекту и/или описываему обществу, не только исходя из качественного анализа текста (писатель положительно отзывается о стране и людях, ее населяющих), но и из количественного его анализа (сколько раз и при каких обстоятельствах писатель употребляет те или иные названия)13. Более того, формальные связи между персонажами (носителями тех или иных качеств менталитета) также чрезвычайно любопытны для выяснения этнической картины мира писателя14. Согласно полученным данным, «сильные» формальные связи (употребление в одном предложении одновременно) существуют в основном между ментально «однородными» людьми, люди часто общающиеся по разным поводам, но антогонисты по эмоциональному миру имеют «слабые» формальные связи.
И, наконец, шестой шаг - фиксация на карточках компонентов духовной и материальной культуры15, которая также не всегда возможна из-за неполноты сведений источника. Сведения литературного источника, особенно о материальной культуре, на мой взгляд, являются более или менее фрагментарными, и полными заведомо в неравной степени (дом главного героя может быть описан неоднократно и с мельчайшими подробностями -например, дом Туберозова в "Собороянах" и "Божедомах", дом Висленева в "На ножах", а дом эпизодического лица может быть назван просто "дом" без всяких комментариев). Тем не менее, эти сведения могут быть подтверждены или уточнены с помощью иллюстративного материала.
Таким образом, выделяются несколько методов сбора и первичной обработки этнологической информации взятого из художественного произведения, что представляет собой основу рабочего инструментария для этнологического анализа:
1. Составление переписи литературного населения, где присутствуют графы ФИО персонажа (или его прозвище), пол (женский или мужской), возраст (точная дата, если имеется, если нет - детство, юность, зрелость, старость), семейное положение (холост (не замужем), женат (замужем), вдовец (вдова), имеет ли детей),
этническое происхождение (фиксировать так, как записано -"хохол", "кацап", "жид", "хивяк", "персиянин" и т. д.), сословная принадлежность (дворянин, из духовного сословия, купец, мещанин, крестьянин)16.
2. Составление словаря языка писателя, в который вошли наиболее показательные случаи сознательного искажения слов и словотворчество, связанные с этноязыковой и этнической принадлежностью персонажей17.
3. Ономастикой творчества Н. С. Лескова, в который вошли 11 45718 личных имен - персонажей, географических объектов разного уровня от названия материков до названий маленьких деревушек, этнонимов19. Термин «ономастикой» используется в узком значении, т. е. как совокупность собственных имен разного типа на данной территории, а также и в широком смысле, т. е. как система отношений между этими именами и нарицательной лексикой (иначе говоря, как онимическое пространство, онимическая система). Понятие «ономастикой» включает в себя, помимо антропонимов, топонимы, хрононимы (Ильин день), астронимы, котайконимы (названия жителей, образованные от ойконима - «орловцы», «ельчане» и т. д. ). Основываясь на достижениях ономастики, следует исходить из того, что культурно маркированные смыслы, сохраняемые в ономастиконе, несут информацию о коллективной бессознательной памяти носителей и создателей данных названий. Это своеобразные устойчивые элементы культуры. Автор исходит из рабочей гипотезы о системных связях и регулярных ономастических моделях, для которых образцом выступают продуктивные словообразовательные типы. Экстралингвистические условия, в рамках которых возникло и функционирует имя собственное, могут быть самыми разными. Здесь следует исходить из того, что когнитивный «паспорт» каждой единицы ономастикона включает в себя различные блоки информации (денотативный, оценочный, мотивационный, стилистический, эмотивный). При таком подходе данная система предстает как «окультуренное» мировоззрение, характеризующее этнос (народ, нацию), а слово и формообразовательные особенности онимов наряду с их ориентацией входят в этносистему. Ономастикой состоит из словарных статей, где имеется одна смысловая единица - слово, выделенное жирным шрифтом, затем идут случаи его употребления, потом, в скобках, указано число употреблений в текстах, затем дается краткое пояснение и, наконец, указываются все случаи его употребления в тексте.
4. Этногеографические карты - наглядное пособие к ономастикону20.
5. Свод этнологических сведений содержащихся в произведениях Н. С. Лескова состоит из 4 частей: одежда, пища, жилище, предметы обихода21.