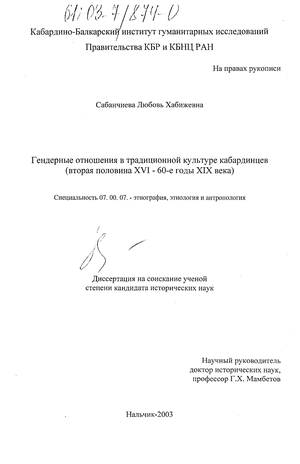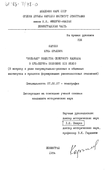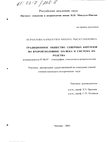Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Функции мужчин и женщин в культуре жизнеобеспечения этноса
1. Пространственно-временной континуум феодальной Кабарды 23
2. Социальные и психобиологические этнические механизмы формирования половой идентичности 45
3. Половозрастное и сословное структурирование производственной деятельности 91
4. Ментальные особенности обрядов производственного цикла 117
Глава II. Правовой аспект тендерных отношений
1. Условия и порядок заключения брака: позиции сторон 144
2. Уаса (калым) и дыщырык1 (приданое) как регуляторы социальных и семейных отношений 162
3. Имущественное и наследственное право членов семьи 180
4. Система мер наказаний за девиантное поведение 196
Заключение 221
Список источников и литературы 230
Список сокращений 242
- Пространственно-временной континуум феодальной Кабарды
- Половозрастное и сословное структурирование производственной деятельности
- Условия и порядок заключения брака: позиции сторон
- Имущественное и наследственное право членов семьи
Введение к работе
Актуальность темы исследования.
Характерной особенностью исторического развития России конца 80-х -начала 90-х годов XX века является резкая интенсификация социальных трансформаций. К их числу относятся и изменившиеся представления о роли и статусе мужчин и женщин в обществе, когда образы «женственности и «мужественности», созданные в предшествующий период, вступили в противоречие с новыми реалиями жизни. Примерно с того времени в научных публикациях российских ученых стали появляться термины гендер и гендерные исследования.
Термин gender в понимании этнологов, антропологов, социологов, философов значительно шире перевода слова как грамматический род, который дается в словаре1. По их мнению, тендерный подход к исследованию - это учет многовариативного влияния фактора пола, а пол как категория состоит как бы из двух важнейших компонентов: пола биологического (sex) и пола социального^епсіег). Гендер - это системная характеристика социального порядка и от нее нельзя избавиться или отказаться - она постоянно воспроизводится в структурах сознания, действия или взаимодействия , а исследователь истории тендера занимается проблемой того, как общества прошлого и живущие в них женщины и мужчины относились к дифференциации полов, как они описывали эту дифференциацию, какое значение ей придавали.3
Социальные трансформации конца 80-х - начала 90-х годов XX века показали, что сильнее всего кризис идентичности сказывается на женщине, как наименее социально и культурно защищенном субъекте современных процессов модернизации. Видимо, это явилось одной из причин обращения российских ученых к «женской» теме, открытия центров тендерных исследований в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, а также проведения научных конференций определенной тематики .
Постепенно ученые пришли к осознанию того, что тендерные исследования предполагают изучение и мужчин и женщин, что, конечно, не исключает и отдельного их изучения, а тендерная история - это история взаимоотношений мужчин и женщин.
За короткий срок теоретические тендерные разработки и исследования Н.Л. Пушкаревой, Л.П. Репиной, Е.А. Здравомысловой, С.В Полениной, И.С. Кона, Е. Р. Ярской-Смирновой, М.Л Бутовской, Н.Д Пчелинцевой, Л.Т. Соловьевой, Ю.Ю. Карпова и других заняли определенное место в российской науке. Из области научных изысканий тендерные исследования перешли в учебники для высших учебных заведений, став предметом обучения.5
В Северо-Кавказском регионе тендерные исследования находятся на стадии становления. В последние годы появился ряд исследований, в виде монографий, диссертаций и отдельных статей, посвященных различным аспектам данной проблемы или учитывающих тендерный фактор .
Вопрос взаимоотношения мужчины и женщины всегда актуален, так как установка на поведенческие и моральные образцы, соответствующие лицам конкретного пола, присутствует как в пространственном социокультурном контексте, так и в реализации бытовых ситуаций.
Для лучшего понимания трансформации тендерных стереотипов необходимо обратиться к их истокам. Как нам представляется, к тендерным исследованиям применимы принципы историзма и системного анализа. И если мы, к примеру, поставили перед собой задачу изучения тендерных отношений кабардинцев7, то необходимо начать с традиционного общества8, затем на этой базе продолжить дальнейшие исследования. В этом смысле наиболее доступным по наличию источников и литературы в необходимом нам ключе, на наш взгляд, является период со второй половины XVI - XIX вв.
Хотя вопросы ролей, статусов, взаимоотношений адыгских мужчин и женщин опирается на богатую источниковедческую базу и большое количество научных исследований, посвященных различным аспектам данной темы, до сих пор не было специального комплексного междисциплинарного исследования этого особого мира традиционной культуры. Этим и вызвано исследование данной проблемы.
Необходимо также дать объективную оценку этим материалам с позиций тендерных исследований и отойти от метода описания и констатации фактов. Сочетание описания утилитарного аспекта вопроса (традиционные навыки и правила ведения хозяйства) с описаниями социальных факторов (формы организации труда, половозрастное разделение труда, способы распределения продуктов труда, правовое положение членов семьи в различных областях жизни и его обусловленность полом и т.д.) даст положительный эффект.
Принцип тендерной дифференциации общего культурного пространства этноса предполагает виртуальное и реальное разделение любой из его сфер по признаку тендера. По этой причине объектом тендерных исследований становится широкое поле культуры этноса.
В силу того, что именно в традиционной части повседневной бытовой культуры - традиционной материальной культуре, обычаях, обрядах, народном творчестве, а также в традиционно-бытовой культуре общения наиболее наглядно проявляется этническая специфика,9 объектом тендерной истории кабардинцев является их традиционная культура.
Поскольку тендерный подход к истории избирает своим предметом диалог полов, в качестве предмета исследовании выделяются социальные взаимодействия, позиции, права и обязанности мужчин и женщин в различных сферах жизни.
Методологической основой представленной диссертации выступает системный подход. Тендерный анализ прошлого предполагает использование различных методов: метода исторического анализа, сравнительного (компаративного), агрегативного (сбор разрозненных фактов из источников различных типов и видов), казуального (детальное рассмотрение уникальных явлений), интерпретативного (метод расшифровки символики поведения).
Рассмотрение тендерных отношений сквозь призму менталитета, формирующегося под влиянием культурных факторов - этики, этикета, религиозных воззрений, эстетических представлений будет полезно. При этом мы исходим из того, что менталитет, как способ выражения знания о мире и человеке в нем, служит в повседневной жизни онтологическим и функциональным объяснением и содержит в первом случае ответ на вопрос, что это, а во втором,- как и зачем это, кроме того, менталитет, как осознанная система символов и смыслов, обладает тенденцией к диверсификации,10 ему также свойственна трансформация,11 что дает возможность рассмотреть некоторые культурные факты как результат динамики внутриэтнического взаимодействия или иноэтнического влияния.
Целью данной работы является комплексное исследование места и роли мужчин и женщин в традиционном кабардинском обществе со второй половины XVI века до 60-х годов XIX века. При этом решаются следующие задачи:
1.Выявить этнические, социально-политические, биологические, экологические, конфессиональные, ментальные факторы, влиявшие на формирование маскулинно- и феминноокрашенных зон традиционной культуры кабардинцев.
2.Показать методы и средства этнической социализации кабардинцев по полоролевой и сословной стратификации и выработке системы знаков самоиндентификации пола.
3.Определить хозяйственные, обрядовые функции мужчин и женщин в культуре жизнеобеспечения кабардинцев и в общественном быту.
4.Провести сравнительный анализ правового положения мужчин и женщин.
5.Проследить факторы конфессионального и инокультурного влияния на тендерный аспект традиционной культуры кабардинцев.
Степень научной разработанности темы. Историография данной проблемы обширна.
Условно ее можно разделить на две большие группы: источники второй половины XVI - конца XIX века и специальные исследования ученых XX века о различных этнографических аспектах женского и мужского бытия.
К источникам можно отнести сведения, содержащиеся в материалах кабардино-русских отношений в XVI-XVIIIbb.12, свидетельства европейских путешественников ХШ-ХІХвв., опубликованные В. К. Гардановым13, оригинальные описания русских авторов, произведения адыгских просветителей, материалы периодической печати, архивные материалы, полевой этнографический материал, фольклорные произведения.
Впервые из европейских авторов кабардинцев упоминает венецианец И. Барбаро (середина XV века). По его сведениям «кевертейцы» дислоцировались в юго-восточной Черкесии .
Далее интересующие нас сведения находим у польского дипломата М. Броневского (1570-е годы).15
Постепенно круг авторов, пишущих о кабардинцах расширяется: многие из них, проезжавшие Волжско-Каспийским путем в Иран, знакомились с северо-восточной частью Кавказа. Расширяются и сами сообщения. Из них наибольший интерес для нас представляют те работы, в которых материал излагается в нужном нам ключе, т.е. те, которые отражают сведения относительно мужчин и женщин из разных социальных слоев. К ним можно отнести сведения группы авторов-очевидцев или близко соприкасавшихся с кабардинцами в XVII веке о семейно-брачных отношениях, этикетных взаимоотношениях, внешнем виде и одежде мужчин и женщин.16
Если работы предыдущих авторов носят спонтанный характер, следующую группу авторов XVIII века объединяет то, что они работали по заданию русского правительства и разработанной Российской Академией наук программе. К таковым можно отнести работы И.Гербера, И. Гюльденштедта, Я. Рейнеггса, П. С. Палласа, Г.Ю. Клапрота. В них рассматривается быт населения Большой и Малой Кабарды: даются сведения о поселениях и подворьях, об общественном разделении труда, о производственной и социальной функциях мужчин и женщин, о брачных запретах, аталычестве, обычае избегания, покровительстве женщин, дифференцированном воспитании мальчиков и девочек княжеского сословия, образе жизни неженатой молодежи, роли мужчин и женщин в производстве, религиозных обрядах и т.п., т.е., необходимые в тендерных исследованиях сведения.17
Труд Г.-Ю. Клапрота, который как бы завершает работу вышеназванной группы авторов, значительно расширяет круг знаний в интересующем нас ключе. В частности, он много внимания уделяет семейно-брачным отношениям кабардинцев и дает сведения о мерах наказания невест, не сохранивших девственность, и женщин, нарушивших супружескую верность, о наличии у кабардинцев различных форм развода, подчеркивает строжайшее соблюдение сословной эндогамии, а также отмечает присущую черкешенкам, нежели другим «азиаткам», большую свободу поведения; без его внимания не остаются внешность мужчин и женщин - их основные внешние корреляты (одежда, прическа, головной убор и т.п.).18
Существует еще целый ряд работ авторов XVIII-ХІХвв., содержащих ценные для нашей темы сведения. Это, прежде всего, работы П.С. Потемкина, П.Г. Буткова, И.Ф. Бларамберга, К. Коха,19 способствующие более глубокому проникновению в суть тендерных взаимоотношений кабардинцев.
В вопросах понимания социальных ролей мужчин и женщин неоценимо значение работ Хан-Гирея, Ш.Б. Ногмова, К. М. Атажукина, Т.П. Кашежева, В.Н. Кудашева. Поскольку эти авторы являются не только знатоками, но и носителями адыгской культуры, их труды можно отнести, так сказать, к взглядам «изнутри», что является особенно ценным. Эти авторы подвергают критике недостатки, присущие общественному и семейному быту адыгов, в том числе и кабардинцев.
При определении этнических особенностей тендера велика роль фольклора - а для бесписьменных народов вдвойне, к коим относились кабардинцы. Изучение «гендерноокрашенных» зон фольклора, а также дискурсов (практик речевого общения), позволяет глубже проникнуть в психологию индивида, поскольку кабардинский фольклор, как и всякий другой, несет в себе определенный философский и социально-этический идеал.21
Функционируя в традиционном быту в составе обрядов, различных бытовых ситуациях, трудовых процессах, храня и транслируя ментальную информацию, фольклор своеобразно сопутствует истории. Каждый транслируемый информационный блок в адыгском фольклоре имеет адресную нишу по половозрастному, сословному, социальному признакам. В соответствии с принципом тендерной дифференциации общего культурного пространства и в кабардинском фольклоре можно выделить феминно- и маскулинно- окрашенные зоны с тендерными образцами стереотипического характера. В этом ключе фольклор выступает средством тендерной социализации.
Нацеленность на воспитание и обучение присуща всем адыгским афористическим средствам воспитания. Так, А.Т. Шортанов адыгские пословицы и поговорки, посвященные воспитанию нравственных чувств человека и взаимоотношениям между людьми в семье и обществе, охарактеризовал как свод (курсив наш. - Л.С.) по воспитанию детей.23
Из этой группы источников нами использованы опубликованные в различных изданиях фольклорные произведения24.
Немалый интерес представляют публикации русской периодической печати, сборников о горских народах. К их числу можно отнести такие газеты, журналы, ежегодники и серийные издания, как «Кавказ», «Новое обозрение»», «Этнографическое обозрение», «Казбек», «Сборник сведений для описаний местностей и племен Кавказа», «Кавказский сборник», «Сборник сведений о кавказских горцах» и другие, откуда нами извлечены необходимые сведения .
Что касается современного полевого этнографического материала, реконструктивные возможности которого ограничены во времени, нами использованы материалы собранные ранее в КБР и КЧР Г.Х. Мамбетовым, С.Х. Мафедзевым, Х.М. Думановым, Б.Б. Хубиевым и Д. Гудовым -сотрудниками КБИГИ КБНЦ РАН, и хранящиеся в фондах данного института .
В группе источников немалый интерес представляют те, в которых содержатся сведения правового характера, поскольку в понимания статусов и ролей мужчин и женщин большое значение имеет их правовое положение. Право (в традиционном обществе - обычно-правовые нормы), выражая волю страт, даёт вполне определенное представление об истинном положении мужчин и женщин: о доминировании чьих-то интересов, равноправии социальных групп или же чьей-то дискриминации.
В силу специфических особенностей развития народов Кавказа обычно-правовые нормы играют большую роль в изучении этнической истории, являясь порой почти единственным источником для характеристики социальных отношений этих народов с древнейших времен и вплоть до XX века. В связи с этим понятен интерес исследователей к данному сегменту традиционной культуры.
Сказанное в полной мере относится и к кабардинцам.
Социальная структура кабардинского традиционного общества представляла собой сложную сословно-феодальную иерархию со строго определенными обычно-правовыми нормами правами в различных областях жизни. В данной работе права мужчин и женщин рассмотрены в контексте с этими сословными правами. При этом мы пользовались дошедшими до нас письменными источниками, в которых описаны права кабардинского народа, архивными материалами, а также исследованиями современных ученых о праве. В них, прежде всего, интересны сведения о соотношениях прав мужчин и женщин в создании семьи, условия заключения брака, управления семейным имуществом и его наследования, меры ответственности за нарушение тендерных стереотипов и другие, дающие представление о правовом положении мужчин и женщин.
Источниковедческая база обычного права феодальной Кабарды имеет свою специфику. Точно фиксированных в XVI-XVIII вв. нарративными документами свода норм права не сохранилось. Поэтому немаловажное значение, как источник права приобретают сборники документов кабардино-русских отношений в XVI-XVIII вв.,27 литературные и письменные источники европейских, русских авторов, о которых мы уже сообщили, где освещены отдельные стороны семейного и общественного быта кабардинцев того периода.
В XIX веке положение несколько меняется. В этот период разрабатывается свод обычно-правовых норм кабардинцев «Постановление о сословиях в Кабарде», который вобрал в себя записи правовых норм на турецком и арабском языках, относящиеся к XVI- первой четверти XIX века. Он был составлен в 1822 году секретарем Кабардинского временного суда Я.М. Шардановым и впервые опубликован на немецком языке как приложение к книге Ш.Б. Ногмова "История адыхейского народа" в 1868 году. Позднее с комментариями к статьям, сделанными в 1839 году самим Я.М. Шардановым, они были опубликованы Х.М. Думановым.28
Этот документ содержал вопросы политического, экономического, семейно-брачного права и регулировал не только права и обязанности классов, но и других социальных групп. "Постановления..." являлись рабочим документом Кабардинского временного суда, который руководствовался им как нормативно-правовым актом. В 1882 году Ф.И. Леонтович вводит в научный оборот «Полное собрание кабардинских древних обрядов"29. Оно состояло из "Постановления о сословиях в Кабарде", дополненных материалами, собранными под руководством начальника центра Кавказской линии Голицына в 1843-1844гг.
Кроме этих источников в архивах сохранились ценные документы о земельных правах сословий и социальных групп, условия разделов семей, наследования разного рода имущества, отдельных имущественных сделок, разводов, хищений женщин, взыскания калыма и т.п. Имущественные и другие отношения могли сопровождаться конфликтами. Нередко эти вопросы становились предметом судебного разбирательства. Из этого вида источников нами использованы ранее не опубликованные материалы, сосредоточенные в Центральном государственном архиве КБР - фондах Управления начальника центра Кавказской линии (Ф.16), Управления межевой части Кавказской линии (Ф.40), Кабардинского временного суда (Ф.23), Кабардинского окружного народного суда (Ф.24).
Отдельные вопросы положения мужчин и женщин в традиционной адыгской, в том числе и кабардинской семье, в той или иной степени рассматриваются в трудах СМ. Броневского, Н.Ф. Грабовского, Н.Ф.
Дубровина и других авторов XIX века.
Переходя к характеристике специальных исследований XX века о кабардинцах, необходимо отметить, что к наиболее ранним из них можно отнести работы В.П.Пожидаева , в котором автор особое внимание обращает на особенности хозяйственного быта кабардинцев, и Г.А. Кокиева, где он исследует традиционные институты, такие как аталычество, наездничество, особенности военного воспитания и т.п.
Ввиду малочисленности исследований традиционной культуры кабардинцев XVI-XVII вв. работы Е.Н. Кушевой34 представляют ценный источник знаний.
Различным аспектам быта кабардинской семьи в XVIII-XIX вв., посвящены работы Е.Н. Студенецкой,35 где автор показывает форму управления, способы организации «женских» и «мужских» работ, имущественно-правовые отношения в большой семье.
В своих региональных и специальных работах об адыгах Я.С.Смирнова много внимания уделяет кабардинской семье.36 В совместной с А.И.
Першицем работе, касаясь положения кавказской женщины, они делают попытку переосмысления существовавшей до недавнего времени оценки только негативного влияния шариата на судьбу горянки. Несколько ранее подобное мнение было высказано А.И. Першицем и А.И. Мусукаевым. Думается, в период, когда население Кабардино-Балкарии испытывает мощное влияние восточного канала духовной жизни, такое направление работы имеет большую практическую значимость.
Поскольку семейное право - одно из самых консервативных, некоторые научные положения этих авторов ретроспективно можно использовать в отношении и более раннего периода.
В изучении различных институтов адыгов, в том числе и права, большую работу сделал В.К. Гар данов. Для нас особенно ценными являются изданные им с обширными комментариями «Материалы по обычному праву кабардинцев первой половины XIX века»39, но не меньший интерес представляют отдельные фрагменты его монографии по общественному строю адыгских народов и некоторые другие его работы40.
Большое внимание правовому положению сословий в области землепользования в XVIII-XIX вв. уделяют Т. Х.Кумыков и Е. Ж. Налоева.41
Среди современных авторов наибольший вклад в изучение правовых взаимоотношений членов семьи кабардинцев в исследуемый нами период внес Х.М. Думанов. Если до него авторы ограничивались рассмотрением сословных прав вообще, то Х.М. Думанов в своих работах42 конкретизирует и дифференцирует права не только феодалов и крестьян, но и других социальных групп (мужчин, женщин, детей), что по существу приближает их к тендерным исследованиям. Автором проделана большая работа по исследованию генеза и функций приданого и калыма, а также имущественного и наследственного права кабардинцев, судопроизводства в Кабарде. "Проникновение" в сферу обычного права позволило исследователю, как и всякому другому, пользующегося этим методом, вникнуть во внутреннюю жизнь во всем многообразии повседневных проявлений с учетом национальных традиций и религиозных представлений.
Но поскольку и этот автор, как и другие, не ставил исследовательской задачи сравнительного анализа правового положения мужчин и женщин, в его работах нет оценки и выводов соотношения прав по признаку пола, то в своей работе мы попытаемся сделать это.
В работах И.Л. Бабич, посвященных правовой культуре адыгов, присутствует такой подход, но они охватывают более поздний период развития этноса.
Большую группу составляют этнографические работы авторов XX века «вневременного» характера. Нет, пожалуй, ни одного автора - бытописателя традиционного общества кабардинцев, так или иначе не «заметившего» социальных ролей, позиций, прав и обязанностей мужчин и женщин. Список этой литературы велик. Вследствие этого назовем тех авторов, чей вклад в изучение данной проблемы, на наш взгляд, наиболее весом.
К их числу можно отнести исследования А.Т. Шортанова, Г.Х. Мамбетова,45 М.А. Меретукова,46 З.М. Налоева,47 С.Х. Мафедзева,48 Б.Х. Бгажнокова,49 А.И. Мусукаева.50
Немало сделано этими исследователями в показе отдельных аспектов темы - статуса женщины и мужчины в семье и обществе, особенностей материнского и отцовского воспитания в системе этнической педагогики, правовых аспектов положения женщин и мужчин, их роли в ритуально-обрядовых действах, семантики женской и мужской одежды, этикетного оформления взаимоотношений женщин и мужчин, нравственных качеств -все это было достаточно полно представлено в отдельных главах их монографий и многочисленных статьях.
В тендерных исследованиях обязательным становится анализ семиотического поля культуры, т.к. всякая модель культуры содержит в себе разделение явлений окружающей человека действительности на «мир фактов и мир знаков». Семиотический статус одной и той же вещи у разных народов может быть неодинаков. Другими словами - вещам может быть приписан различный этносемиотический статус. Идентичность проявляется в способности людей наделять одинаковыми значениями одни и те же явления объективного и субъективного мира, т.е. тождественным образом их сознательно интерпретировать и выражать в одних и тех же символах.
Так, в традиционном адыгском обществе в зависимости от применения относительно мужчин и женщин, полифункциональны были флаг, шапка, палка и другие предметы. Семиотике адыгской культуры посвящен ряд работ современных авторов.53
Определенную информацию для раскрытия тендерных отношений можно извлечь при «прочитывании» не только предметов и связанных с ними действий, но и коммуникативно значимых элементов общения, таких как мимика лица, жест, форма преподнесения некоторых предметов быта, т.е. всего комплекса культуры, названного А.Леонтьевым системой знаков, психологически эквивалентных языку,54 а если шире - внеязыковых (недискурсивных) реальностей, к которым введшие этот термин в научный оборот французские философы М.Фуко, Ж. Деррида и психоаналитик Ж. Лакан, кроме вышеназванных тела и действия, относят и власть.55
Расширенная и обогащенная современная научная концепция власти, где акцент делается на «...различение между обладанием, с одной стороны, легитимной политической властью, дающим санкционированное обществом право принимать обязательные для других решения, и с другой -возможностью оказывать на людей и события неформальное влияние, т.е. воздействовать на них для достижения своих целей» , позволяет по-новому взглянуть на политическую историю в условиях патриархального господства и места в ней женщин. Необходимо признать, что при кажущейся простоте этого метода не так легко проникнуть в сам механизм власти и наполнить его конкретным содержанием, отталкиваясь от реальности прошедшей эпохи.
Политический аспект темы нашел отражение в работах О.Л. Опрышко, Б. К. Мальбахова, A.M. Эльмесова, К.Ф. Дзамихова.57 принципами межличностных отношений. Материалы диссертации могут быть использованы в научных исследованиях по широкому кругу проблем, а также при чтении лекций, проведении спецкурсов в высших гуманитарных и педагогических учебных заведениях и в процессе переподготовки педагогов и социальных работников.
Научная новизна работы состоит в том, что впервые в адыговедении в результате обобщения значительных этнографических, исторических и культурных материалов, сосредоточенных в различных источниках, а также накопленных предшествующими учеными знаний, предпринята попытка всестороннего исследования места и роли мужчин и женщин в общественном и семейном быту феодальной Кабарды, с присущими ей субэтнокультурными особенностями. При этом этнические особенности тендерных отношений рассматриваются сквозь призму производственных, политических, религиозных, правовых, ментальных факторов.
В работе прослеживаются деструктивные процессы, повлиявшие на устранение женщин из общественной жизни Кабарды. Делается вывод об отрицательной роли ислама в этом процессе. В то же время обращается внимание на обратное воздействие шариата на укрепление семейного положения женщины.
Хронологические рамки работы. Нижняя временная грань - вторая половина XVI века, как уже отмечалось, определяется наличием необходимых для тендерных исследований материалов, а верхняя - отменой крепостного права со всеми вытекающими отсюда последствиями, значительно трансформировавшими и объект, и предмет настоящего исследования.
Апробация работы. Диссертация была обсуждена на заседании отдела этнологии Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований КБНЦ РАН. По различным аспектам темы автор делал сообщения на III и IV Конгрессах этнографов и антропологов Российской Федерации, а также принимал участие в круглых столах по проблемам тендерных взаимоотношений. Основные положения диссертации изложены в публикациях объемом свыше 4 п.л.
Структура исследования. Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка источников и литературы, списка сокращений.
Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цели и задачи исследования, степень научной разработанности темы, дается характеристика источников, указываются основные методы исследования, а также хронологические рамки работы, ее научная новизна и практическая значимость.
Первая глава посвящается функциям мужчин и женщин в культуре жизнеобеспечения. В ее рамках рассматриваются пространственно-временной континуум феодальной Кабарды, социальные и психобиологогические механизмы тендерной социализации, повседневная жизнь членов социума, функции мужчин и женщин в производственной деятельности и в обрядах в ней.
Во второй главе рассматривается правовой аспект тендерных отношений в соционормативной культуре кабардинцев.
В заключении делаются основные выводы.
Примечания 1Англо-русский словарь/Пол редакцией О.С. Ахмановой и Е.А. Уилсон. М., 1975. С.236. 2Пушкарева Н.Л. Тендерные исследования: рождение, становление, методы и перспективы //Вопросы истории. 1998. №6. С.80-84; Ее же. Как заставить заговорить пол? // ЭО. 2000. №2. С.32. 3 Пол. Тендер. Культура/Под. ред. Элизабет Шоре и Каролины Хайдер. М., 1999. С.139. . *Пугикарева Н.Л. Женщины Древней Руси. М.: Мысль, 1989; Ее же. Русская женщина в семье и обществе Х-ХХ вв.: этапы истории//ЭО. 1994. №5. С.3-15; Ее же. Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, любовница (X - начало ХІХв.). М., 1997; Женщины в обществе: реалии, проблемы, прогнозы/Под ред.Н.М. Римашевской; Женщина, брак, семья до начала нового времени: Демографические и социокультурные аспекты/Под ред. Ю.Л.Бессмертной. М., 1993; Женщины и свобода: пути выбора в мире традиций и перемен. Материалы международной конференции 1993г./Отв. ред.В.А. Тишков. М., 1994; Женщина. Тендер. Культура. М., 1999 и др.. 5Введение в гендерные исследования/Пол редакцией И.В. Костиковой. М., 2000; Введение в гендерные исследования. Учебное пособие в 2-х частях! Под редакцией И.Жеребкиной. Харьков-СПб, 2001. 6 Мафедзев С. М. Статусы мальчиков и девочек, мужчин и женщин и их роль в нравственном воспитании//Актуальные проблемы феодальной Кабарды и Балкарии. Нальчик, 1992. С. 128-140; Его зісе. Статус женщины в системе адыгэ хабзэ//Эльбрус. №2. Нальчик, 1999. С.197-224; Пчелинцева Н.Д., Соловьева Л.Т. Дифференциация материнских и отцовских ролей в семье народов Кавказа: традиции и современность//Женщины и свобода: пути выбора в мире традиций и перемен. М., 1994. С. 185-198; Их о/се. Обрядность детского цикла у мусульманских народов Кавказа//Ислам и народная культура. М., 1998. С.132-139; Бабич И.Л. Женщины и миротворчество у кабардинцев//Женщины и свобода: пути выбора в мире традиций и перемен. М., 1994. С.84-88: Ее же. Народные традиции в общественном быту кабардинцев. М. 1995.; Ее же. Эволюция правовой культуры адыгов (1860-1990-е годы). М.: 1999; Карпов Ю.Ю. Джигит и волк. СПб., 1996; Его же. Женское пространство в культуре народов Кавказа. СПб., 2001; Смирнова Я.С. Роли и статусы женщин в традиционных обществах Кавказа//ЭО. 1997. №4. С.48-59; Першиц А.И., Смирнова Я.С. К юридической этнологии народов Кавказа//Эльбрус. Нальчик, 1999. №2. С.9-40; Коджесау Э.Л. Положение женщины в адыгском обществе в прошлом//КБА. Майкоп, 2001. Вып.9. С.24-41; Рагимова Б.Р. Женщина в традиционном дагестанском обществе XIX - начала XX века (роль и место в семейной и общественной жизни): Автореферат дис. доктора ист. наук. Махачкала, 2001; Ее же. Имущественное положение женщины в Дагестане (Х1Х-начало XX в.) //ЭО. 2001. №5. С.38-49; Канукова З.В. Гендерные аспекты в культуре полиэтнического города (Владикавказ в XIX-начале XX веков)//Гендер: язык, культура, коммуникации. Материалы 1 международной конференции. Ноябрь, 1999. М., 1999. С.54; Ее же. Полиэтнический город как объект историко-этнологического исследования (Владикавказ в 1784-1917гг.): Дис. доктора ист. наук. Владикавказ, 2001; Андреева Н.И. Тендерный фактор в современном Российском обществе: Дис. доктора филос. наук. Ставрополь, 2002; Сабанчиева Л.Х. Тендерный аспект обычного права кабардинцев (вторая половина XVI-60-e годы XIX века). Нальчик, 2002 и др.
Кабардинцы (самоназвание -адыгэ) - один из субэтносов адыгов, известных во всем мире под экзоэтнонимом черкесы.
Более подробно особенности тендерных исследований традиционной культуры изложены нами в специальной статье. См.: Сабанчиева Л.Х. О некоторых вопросах методологии тендерных исследований//ВКБИГИ. Нальчик, 2002. Вып.9. С.66-72.
Бромлей Ю.В. К вопросу об особенностях этнографического изучения современности//СЭ. М.,
1977. Сб. 1(Культурология/Под редакцией Г.В.Драча. Ростов-на-Дону, 1998. С. 389-390, иЛурье СВ. Историческая этнология. М., 1997. С.341; Панеш Э.Х.Этническая психология и межнациональные отношения. Взаимодействие и особенности эволюции (на примере Западного
Кавказа). СПб. С. 102; Маремшаова И.И. Менталитет в семейных и общественных традициях:
Кабарда, Балкарця, Карачай. Нальчик, 1999. С.88.
Кабардино-русские отношения. В 2-х томах. М., 1957.
Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов ХШ-ХІХв. Нальчик, 1974. ыБарбаро И. Путешествие в Тану Иософата Барбаро, венецианского дворянина// АБКИЕА. С.41- 15Бропевский М. Описание Татарии//АБКИЕА. С.53-55. ]6Олеарий А. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно//АБКИЕА. С.82-85, Витсен Н. Северная и Восточная Татария или сжатый очерк нескольких стран и народов//АБКИЕА. С.86-98; Стрейс Я. Описание города Терки//АБКИЕА.
С.99-102; Фврран. Путешествие из Крыма в Черкесию, через земли ногайских татар, в 1709 году//АБКИЕА. С. 110-112. Кук Дж. Путешествия и странствования по Российскому государству,
Татарии и по части Персидского королевства//АБКИЕА. С.174-178; Х1Гербер //.Записки о находящихся на западном берегу Каспийского моря, между Астраханью и рекою Кура, народах и землях и об их состоянии в 1728 году //АБКИЕА. С. 152-155;
Гюльденштедт И. Географическое и статистическое описание Грузии и Кавказа //АБКИЕА.
С.203208; Рейнеггс Я. Всеобщее историко-топографическое описание Кавказа// АБКИЕА. С.209-
213; П.С. Паллас. Заметки о путешествиях в южные наместничества Российского государства в
1793 и 1794 гг.//АБКИЕА. С.214-224. пКлапрот Г.Ю. Путешествие по Кавказу и Грузии, предпринятое в 1807-1808гг. //АБКИЕА.
С.235-280. 19Потемкин П.С. Краткое историко-этнографическое описание кабардинского народа, составленное кавказским генерал-губернатором П.С.Потемкиным//КРО. Т.2. М., 1957. С.359-364;
Буткое П.Г. Материалы для новейшей истории Кавказа с 1722-го по 1803 год./Рукописный отдел библиотеки КБИГИ. Инв. №556; Бларамберг И.Ф. Историческое, топографическое, статистическое, этнографическое и военное описание Кавказа//АБКИЕА. С.353-435; Кох К.
Путешествие по России и в Кавказские земли//АБКИЕА. С.586-628. 20Хан-Гирей. Записки о Черкесии. Нальчик, 1978, 1992.; Его же. Черкесские предания. Нальчик,
1989; Ногмов Ш.Б. История адыхейского народа. Нальчик, 1982; Атажукин К.М. Избранные труды. Нальчик, 1971; Кашежев Т. Свадебные обряды кабардинцев//ЭО М., 1893, №4. С.146-156;
Его же. Ханцегуаше. Ж. «Новое обозрение». Кн. 24., 1900. - СА67-178;Кудашев В. Исторические сведения о кабардинском народе. Киев, 1913. 21Шортанов А.Т. Ногмов как фольклорист и историк/А4скербм Шортанов. Очерки. Статьи.
Доклады. Письма. (Сост. Шакова М.К.). Нальчик, 2000.С.164. 22Унарокова Р.Б. Объективация этнической информации в песенной культуре адыгов//Ш Конгресс этнографов и антропологов России. М., 1999. С49. 2 Шортэн Аскэрбий. Ц1ыхубэм я гупсэ. Введение. - В кн.: Адыгэ псалъэжьхэр. Налшык, 1965.
С.31. ^Казаноков Жабаги/Сост. А.Т. Шортанов Нальчик, 1956, 1984; Парты. Кабардинский эпос. - М., 1957; Адыгэ 1уэры1уатэхэр. Т.1. Налшык, 1963; Адыгэ псалъэжьхэр. Налшык, 1965, 1967; Нартхэр. Маекъуапэ, 1968; Народные песни и инструментальные наигрыши адыгов. Т.2. -М., 1981; Фольклор адыгов. Нальчик, 1988; Кабардинский фольклор. Издание второе дополненное. Нальчик, 2000; Сказания о Жабаги Казаноко. Нальчик, 2001 и др. 25 А. Непрочность брака у кабардинцев //Казбек. 1898. 11 сентября. №334; Ардасенов А.Г. Переходное состояние горцев Северного Кавказа // Новое обозрение. 1896. 5 марта. Ахриев Ч.Э. Заметки об ингушских женщинах // Сборник сведений о Терской области. Владикавказ, 1878. Вып.1. С.276-290; Васильков В.В. Очерк быта темиргоевцев //СМОМПК. Тифлис, 1901. Т.ХХІ. Отд.1. С.71-154; Степанов П. Беглые очерки Кабарды //Кавказ. 1861. №82. и др.
Архив Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований. Ф.Ф. 10, 12.
Кабардино-русские отношения. В 2-х томах. М., 1957.
Материалы ЯМ. Шарданова по обычному праву кабардинцев первой половины XIX века/ Сост. Х.М. Думанов. Нальчик, 1986.
Леонтович Ф.И. Адаты кавказских горцев. Вып. 1-2. Одесса, 1882.
Центральный государственный архив КБР. Ф.Ф. 16, 40, 23, 24.
Броневский СМ. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе. М., 1823; Грабовский И.Ф. Очерк суда и уголовных преступлений в Кабардинском округе//ССКГ. Вып.4. 1870; Дубровин Н. Черкесы (Адыге). Краснодар, 1927; Его же. Очерк Кавказа и народов, его населяющих. СПб. 1871. 32 Пожидаев В.П. Хозяйственный быт Кабарды. Т.З.Вып.1. Воронеж, 1925. 33 Кокиев ГЛ.. К вопросу об аталычестве/УРеволюция и горец. 1929. С.49-53; Его же. К истории междоусобной борьбы кабардинских феодалов в XVIII в.//Ученые записки института этнических и национальных культур народов Востока. М., 1930. Т.2. С.72-87; Его же. Военное воспитание у кабардинцев в прошлом//УЗ КНИИ. Нальчик, 1946. Т.1. С.129-142; Его же. Отмена крепостного права в Кабарде. Нальчик, 1947. 34 Кушева Е.Н. Социально-экономические и политические отношения в Кабарде в XVI-XVII вв.//Сборник статей по истории Кабарды. Вып.5. Нальчик, 1956. С.97-121; Ее же. Народы Северного Кавказа и их связи с Россией (вторая половина XVI -30-е годы XVII вв.). М., 1963. 35 Студенецкая Е.Н. К вопросу о национальной кабардинской одежде //УЗ КНИИ. Нальчик, 1948. T.IV. С. 197-237; Ее же. Украшение одежды у кабардинцев (XIX-XX вв.) //УЗ КНИИ.Т.У. Нальчик, 1949. С.163-194; Ее же. О большой семье у кабардинцев в XIX веке.//СЭ №2 1950. С. 176-181; Ее же. Одежда народов Северного Кавказа (XVIII-XX вв.). М, 1989. 36Смирпова Я. С. Семья и семейный быт//Культура и быт народов Северного Кавказа. М., 1963.
С.185-273; Ее же. К типологии обычаев умыкания (по материалам Северного и Западного
Кавказа) //Проблемы типологии в этнографии. М., 1979. - С.265-269; Ее же. Семья и семейный быт народов Северного Кавказа. М.,1983; Ее же. Положение «старшей» женщины у народов
Кавказа и его историческое истолкование// КЭС. Т.8. М., 1984. С.22-38. Ъ1ПеришцА.И., СмирноваЯ.С. Указ. соч. С.33-34. 38МусукаевА.И., Периащ А.И. Народные традиции кабардинцев и балкарцев. Нальчик,1992. 39 Материалы по обычному праву кабардинцев (первая половина XIX века)/ Сост. В.А. Гарданов.
Нальчик, 1956. юГарданов В.К. Общественный строй адыгских народов (XVIII- первая половина XIX века). М.,
1967; Его же. Аталычество// IX Международный конгресс антропологических и этнографических наук (Чикаго, сентябрь, 1973). М., 1973. С. 3-21, ^Кумыков Т. X. К вопросу об общественном строе Кабарды накануне реформы 1861 года //
УЗКБНИИ. Нальчик, 1959. Т.9. С.44-97., Его же. Некоторые вопросы общественного развития
Кабарды в Х1Хв.//Сборник статей по истории Кабарды и Балкарии. Нальчик, 1959. Вып.7. С. 130-
149; Его же. Экономическое и культурное развитие Кабарды и Балкарии в XIX веке.
Нальчик, 1965; Налоева Е.Ж. К вопросу о социальных отношениях в Кабарде в первой половине 18 века//ВКБНИИ. Нальчик, 1968. Вып.1. С.61-81. 42Думанов Х.М. Наследственное право кабардинцев во второй половине XIX - начале XX века//ВКБНИИ. Нальчик, 1972. Вып.6. С.227-238; Его же. Обычное семейное имущественное право кабардинцев (вторая половина Х1Х-начало XX века) //ВКБНИИ. Нальчик, 1972. Вып.6.
С.163-176; Его же. Обычное имущественное право кабардинцев (Вторая половина 19-начало 20 века). Нальчик, 1976; Его же. Социальная структура кабардинцев в нормах адата (первая половина XIX века). Нальчик, 1990; Его же. Землевладение и земельно-иерархическое право в
Кабарде в первой половине XIX в. //Актуальные проблемы феодальной Кабарды. Нальчик, 1992.
С. 100-127; Его оке (совм. с Кетовым Ю.М.). Адыгэ хабзэ и суд в Кабарде во второй половине XVIII-XIX века. Нальчик, 2000.
Бабич И.Л. Эволюция правовой...; Ее Dice. Правовой плюрализм на Северо-Западном Кавказе. М., 2000. 44 Шортанов АЛ. Адыгская мифология. Нальчик, 1982; Его же. Адыгские культы. Нальчик, 1992.
Мамбепюв Г.Х. Праздники и обряды адыгов, связанные с земледелием// УЗКБНИИ. Нальчик, 1966. Т.24. С. 161-185; Его же. О гостеприимстве и застольном этикете адыгов//УЗАНИИ. Майкоп, 1968. T.VIII.C. 228-250; Его же. Некоторые традиции и обычаи кабардинцев и балкарцев, связанные с жилищем //ВКБНИИ. Нальчик, 1970. Вып.4. С.82-100; Его же. Одежда в традициях кабардинцев и балкарцев/ЛЖБНИИ. Нальчик, 1972. Вып.5. С.91-113; Его же. Пища в обычаях и традициях кабардинцев и балкарцев/ЛЖБНИИ. Нальчик, 1972. Вып.6.. C.1O2-144;..&0 же. Традиционная культура кабардинцев и балкарцев. Нальчик, 1999 и др. ^Меретуков М. А. Культ очага у адыгов//УЗАНИИ. Майкоп, 1966. Т.8.-С.305-315; Его же. Брак у адыгов//УЗАНИИ. Майкоп, 1968. Т.8.-С.204-227; Его же. Семья и семейный быт адыгов в прошлом и настоящем //КБА. Майкоп, 1976. Вып.1.С.З-123; Его же. Семья и брак у адыгских народов. Майкоп, 1987и др.
Налоев З.М. Из истории культуры адыгов. Нальчик, 1978. Его же. Культ женщины в адыгской традиции// Советская молодежь, 8 марта 1990; Его оісе. Жабаги Казаноко - исторический и фольклорный// Предисловие кн.: Сказания о Жабаги Казаноко. Нальчик, 2001. С. 6-42. 48 Мафедзев СМ Символика в коммуникативном поведении адыгов// Национальная культура и общение. М., 1977. С.53-54; Его же. Обряды и обрядовые игры адыгов. Нальчик, 1978; Его же.Очерки трудового воспитания адыгов. Нальчик, 1984; Его о/се. Межпоколенная трансмиссия традиционной культуры адыгов в XIX- нач. XX века. -Нальчик, 1991 и др. 49 Бгажноков Б. X. Адыгский этикет. Нальчик, 1978.; Его же. Образ жизни адыгской феодальной знати//Из истории феодальной Кабарды и Балкарии. Нальчик, 1981. С.78-104; Его же. Очерки этнографии общения адыгов. Нальчик, 1983; Его же. Черкесское игрище. Нальчик, 1991: Его же.Адыгская этика. Нальчик, 1999 и др. 50 Мусукаев А.И. К вопросу о разделении трудовых обязанностей в большой семье балкарцев конца XIX- начала XX века//Этнография народов Кабардино-Балкарии. Нальчик, 1977. Вып.1. С.83-90; Его же (совм. с Першицем А.И.) Народные традиции кабардинцев и балкарцев. Нальчик, 1992; Его же. Генетические корни традиционной культуры адыгов//1У Конгресс этнографов и антропологов России. Тезисы докладов. М., 2001. С.113 и др. 51 Лотман Ю.М. Статьи по типологии культуры. Тарту, 1970. Вып.1. С. 14. 52 Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л., 1983. С.23. 53 Мафедзев СМ. Символика...; Его же. Обряды ...; Бгажноков Б.X. Очерки ...; Нефляшева Н.А.Цветовая символика адыгского девичьего костюма и легенды об амазонках//КБА. Майкоп, 1988. Вып.7. С.86-109; Унарокова Р.Б. Предметное иносказание в системе опосредованных форм общения адыгов// КБА. Майкоп, 1989. Вып. 7. С.40-48 и др. 54 Леонтьев А.А. Психология речевого общения М., 1974. С.83. 55 Пушкарева Н.Л. Как заставить заговорить пол? //ЭО. 2000. №2. С.35. 5(РепинаЛ.П. От «истории женщин» к социокультурной истории: тендерные исследования и новая картина европейского прошлого//Культура и общество в средние века -раннее новое время. М. 1998. С.98. 51Опрышко О.Л. По тропам истории. Нальчик, 1979; Его же. Через века и судьбы. Нальчик, 1982; Малъбахов Б.К., Эльмесов A.M. Средневековая Кабарда. Нальчик, 1994; Малъбахов Б.К., Дзалшхов К.Ф. Кабарда во взаимоотношениях России с Кавказом, Поволжьем и Крымским ханством. Нальчик, 1996. Дзамихов К.Ф. Этнические элиты Кабарды и Ногайской Орды в XVI-XVN веках: конфликты и сотрудничество//ИКБНЦ. Нальчик, 1999. №2. С.100-107; Его оке. Адыги и Россия. М., 2000 и др. 58 Александров В.А. Обычное право крепостной деревни России XVIII- начало ХІХв. М., 1984. Пушкарева Н.Л. Указ.соч.; Цатурова М.К. Русское семейное право XVI-XVHI вв. М., 1991 и др. 59 Ахриев Ч.Э. Об ингушских женщинах//Терские ведомости. Владикавказ, 1871. №31. С.276-290; Далгат Б. Материалы по обычному праву даргинцев//Из истории права народов Дагестана. Махачкала, 1968. 77-144; Кучмезова М.Ч. Имущественное и наследственное право балкарцев в XIX веке//ВКБНИИ. Нальчик, 1972. Вып.6. С.177-189; Магометов А.Х. Общественный строй и быт осетин (XVII-XIX вв.). Орджоникидзе, 1974; Агларов М.А. Сельская община как эндогамный круг//Брак и свадебные обычаи у народов Дагестана в XIX- нач.ХХ в. Махачкала, 1986. С.74-81; Асанов Ю.Н. Родственные объединения адыгов, балкарцев, карачаевцев и осетин в прошлом. Нальчик, 1990; Рагимова Б.Р. Указ соч. и др.
Определенный интерес представляет предпринимаемая нами впервые попытка кросс-культурного анализа семейного права разноконфессиональных народов - кабардинцев и русских. С этой целью мы используем работы различных авторов, посвященных русскому семейному праву. Такой подход даст возможность выявить степень влияния религии и государства на семейное право кабардинцев.
Наряду с ними традиционно использованы и работы о кавказских народах в интересующем нас аспекте.59
Характерной особенностью перечисленных источников и литературы является широкий разброс мнений относительно статусов мужчин и женщин, противоречивость суждений о характере взаимоотношений мужчин и женщин в традиционном адыгском обществе: от утверждений о почитании женщины до «унизительного и пренебрежительного» отношения к ней, от ее излишней «свободы» до положения «рабыни», от деспотизма и всевластия мужчин до рыцарских отношений к женщине, от их всеобщей лени до их огромного трудолюбия т.п. Думается, нет смысла оспаривать здесь все это. Необходимо вскрыть причины двойственного мнения о положении мужчин и женщин в семье и обществе.
Перечислена лишь малая часть богатейшей литературы. Но редко кто из авторов пытался обобщить полученные результаты, ставя задачу системной реконструкции особого мира общественного бытия и закрывания образовавшейся лакуны.
Используя столь благодатный материал, а также современные методы исследования, мы решили приступить к написанию тендерной истории кабардинцев - истории взаимоотношений мужчин и женщин. Но, поскольку, это один из первых опытов комплексного исследования, следует говорить всего лишь о попытке постановки вопроса.
Практическая значимость работы. Тендерные исследования имеют не только научно-теоретическое, но и практическое значение, поскольку они напрямую связаны с вопросами возрождения духовной культуры и
Пространственно-временной континуум феодальной Кабарды
Исторически тендер и разделение труда - это культурное решение проблемы объединения технологии с жизненными потребностями общества как самоорганизующейся системы. Уровень социального и технологического развития общества напрямую влияет на профессиональный статус мужчины и женщины. Для лучшего понимания роли и места социальных страт в культуре жизнеобеспечения необходимо дать краткую характеристику среде обитания социума, показать основные принципы организации структурных звеньев общества.
Для этого необходимо дать характеристику его пространственно-временному континууму, т. е. обратить внимание на общественное устройство, домохозяйство, семью и др. социальные институты. Наиболее выпукло тендерные особенности различимы в культуре жизнеобеспечения этноса, как пласту культуры, лежащей на поверхности и визуально наблюдаемой. Термин «культура жизнеобеспечения» (sabsistence), предложенный американским этнографом Р. Лоуи, означает технологию добывания и производства пищи. Советские и российские исследователи, значительно расширив это понятие, пришли к заключению, что «это взаимосвязанный комплекс особенностей производственной деятельности, демографической структуры и расселения, трудовой кооперации, традиций потребления и распределения, т.е. экологически обусловленных форм социального поведения, которые обеспечивают человеческому коллективу существование за счет ресурсов конкретной среды обитания» . Характерной особенностью восприятия кабардинцами традиционных элементов жизнеобеспечивающей системы является то, что они называют их не просто общими собирательными терминами, а как адыгэ унэ (адыгский дом), адыгэ шхын (адыгская пища), адыгэш (адыгская лошадь), адыгэ шууей (адыгский всадник), адыгэ фащэ (адыгская одежда) и т. п. С каждым из перечисленных понятий они связывают целый комплекс коммуникативно-бытовых, обычно-правовых и обрядово-церемониальных норм, т.е. артефакты, кроме чисто витальных, обладают эстетической, знаковой, престижной и прочими идеологическими функциями и являются этнокультурными символами. Такую же семантическую нагрузку несут и другие понятия не материального характера, например, адыгагъэ (адыгство-адыгская этика), адыгэл! (адыгский мужчина), адыгэ бзылъхугъэ, хъыджэбз (адыгская женщина, девушка) и т.д. Социальным таксоном культуры жизнеобеспечения в нашем исследовании является территория феодальной Кабарды, необходимая для воспроизводства жизни и жизнедеятельности, которая поддерживается различного рода объективированными формами культуры, социальными связями и мировоззренческими представлениями различных социальных групп, населяющих ее, а также ритуальным наполнением этих представлений. В изучаемый период Кабарда занимала равнинную и предгорную часть Центрального Предкавказья в районе Пятигорья, междуречья Терека и Малки по рекам Баксан, Чегем, Черек, Урух, правобережья Терека до реки Сунжи. Близость реки считалась сакральной необходимостью, ибо, по понятиям адыгов, с рекой прямо связывалось и небесное благоденствие -ниспослание дождя. Примерно с середины XVII века территория Кабарды по реке Терек была разделена на две части - Большую и Малую Кабарду, которые имели общую культуру. В целом эти границы оставались неизменными до конца XVIII века. Но мир этноса не был замкнут в них. Кабардинцы были открыты для связей с внешним миром, и для них были характерны широкие межэтнические социальные связи . Выгодное геополитическое положение Кабарды, и связанная с ним постоянная внешняя угроза и вмешательство в кабардинские дела со стороны Крымского ханства и Османской Турции , а в XVIII веке - России, вкупе с междоусобицами кабардинских князей привело к специфичному для кабардинцев подвижному с периодическими переселениями, но оседлому образу жизни с характерной для такого образа жизни культурой5. Кроме периодических переселений кабардинские селения имели еще ряд отличий от западно-адыгских. Кабардинцы строились преимущественно на равнинах и только частью в ущельях. Селения обрывали канавой и делали кругом завалы, а дома и хозяйственные постройки в имении размещались в виде нескольких кругов четырехугольниками таким образом, что внутреннее пространство представляло собой общий скотный двор, имеющий лишь одни ворота, а дома, окружающие его служили как бы для его охраны, деревни же ими «обозначались словом «чела» (жылэ.-Л.С.) или татарским «аул», которые существенным образом отличались от других тем, что отдельные дома построены один возле другого и имеют общий вид настоящей деревни.6
Жилищем служил плетенный большой деревянный дом, покрытый камышом и соломой, прямоугольной или продолговатой формы, обмазанный глиной и побеленный, который располагался в центре усадьбы. Обычно он состоял из нескольких комнат. Помещение, в котором жили глава семьи с женой и несовершеннолетними детьми - унэшхуэ-болыпой дом, был больше других; в нем находился большой очаг, в котором готовилась пища для всей семьи, в том числе и для женатых сыновей, живущих в отдельных комнатах-лэгъунэ, примыкавших к унэшхуэ (другие адыгские субэтносы строили отдельные дома для женатых сыновей). В совокупности они образовывали кабардинский длинный дом «унэ к1ыхъ», который мог состоять из 8-14 комнат.8
Половозрастное и сословное структурирование производственной деятельности
Анализ способов воспитания в различных социальных слоях традиционного кабардинского общества показал, что в процессе социализации происходит формирование определенного образа мышления, поведенческих, в том числе социальных, тендерных стереотипов, производственной и общественно - политической деятельности, т.е. всего того, что называется в науке образом жизни .
Каков был образ жизни кабардинской знати в традиционном обществе? И каково было их участие в культуре жизнеобеспечения? Что такое владение кабардинского феодала?
Кабардинский князь жил в своем ауле - пщы къуажэ, административном центре своего владения, в окружении своих крестьян. Дом князя располагался в середине княжеского аула, по соседству с его домом располагались один или несколько семей его уорков со своими же крестьянами. На определенном расстоянии от княжеского аула жили в своих же аулах вассалы князя - первостепенные уорки тлекотлеши и деженуго. Князь распоряжался землями своего владения, за исключением тех, которые принадлежали тлекотлешам. Главой имения был князь или уорк .
Поместье князя или уорка до второй половины XIX века мало чем отличалось от двора свободного крестьянина, разве только более богатым внутренним убранством, и тем еще, что усадьба князя, особенно его кунацкая, играла роль общественного центра села234.
Основным источником существования князей и уорков было их хозяйство. Оно было значительным. Князья вели собственное, преимущественно-скотоводческое хозяйство. Их стада насчитывали тысячи голов скота и лошадей. Особенностью хозяйства кабардинского феодала было наличие большого количества высокопородных лошадей, которые представляли огромную ценность. Слава лошадей кабардинской породы перешагнула далеко за пределы Кабарды. В середине XIX века в Кабарде насчитывалось 192 конных завода .
На втором месте по значимости было земледелие. Все хозяйство феодалов велось крепостными и свободными крестьянами, которые привлекались «для паханья земли, жатвы хлеба и сенокоса, а иногда рубки и вывоза леса» .
До потери Кабардой политической самостоятельности одним из важных источников доходов кабардинских феодалов являлся прибавочный продукт подвластных племен и народностей Северного Кавказа.
Значительную часть имущества князя составляли различные штрафы, пошлина, которую им собирали бейголи.
Информацию о том, чем же были заняты сами феодалы, можно почерпнуть у различных авторов. Они дают нам достаточно полное представление об образе жизни князей и уорков в течение нескольких столетий.
А.Олеарий - один из первых западноевропейских авторов, лично побывавший у прикаспийских кабардинцев в первой половине XVII века, к сожалению, дает очень скупые сведения об их хозяйственной деятельности: «...вообще мужчины в течение дня редко бывают дома, но находятся на пастбищах у своего скота, которым они более всего и кормятся»237.
В интересующем нас аспекте материал подается французским коммерсантом Ж.-Б. Тавернье: «Те лица, которые считаются у них знатью, по целым дням ничего не делают, сидят и разговаривают, да и то очень мало. Вечером они выезжают иногда верхом, назначая друг другу свидание, и, собравшись в количестве 30-40 человек, совершают набеги. Они совершают эти набеги как в своей стране, так и в соседних областях (так они крадут друг у друга все, что могут) и возвращаются со скотом и рабами»238.
В конце XVII века Н. Витсен, немного расширяя эти сведения, добавляет: «самые знатные из них не обрабатывают землю, а стараются набрать небольшую кучку людей и ночью грабят и угоняют скот, похищают людей, как у друзей, так и у врагов, ибо воровство - врожденное свойство этого народа» 39.
Образ жизни князей и уорков не меняется в течение столетий, по-прежнему «черкес никогда не выйдет из своего дома невооруженным, а одним из основных их занятий является уход за оружием»240.
П.С. Паллас, чья характеристика общественного строя, быта и культуры кабардинцев по своей глубине и достоверности выгодно отличается от его предшественников, более четко разграничивает функции князя и уорков: «Князья и знать не имеют других занятий кроме войны, охоты и грабежа. Они живут большими сеньорами, ездят по полям верхом, устраивают пирушки или совершают набеги. Уздени или знатные, держат народ в повиновении и обязаны лишь служить своим князьям во время войны» .
Лишь И.Ф. Бларамберг описывает ситуацию, когда уорк, заведомо зная о вознаграждении за свой труд, берется охранять общественное стадо на горных пастбищах Большой Кабарды . И это не случайно. Именно в 30-е годы XIX века начинается «окрестьянивание» уорк-шаутлугусов, чьей, пожалуй, единственной социальной функцией до того времени являлось несение военной службы вассалу. Им теперь приходилось заниматься производительным трудом.
Мы могли бы продолжить перечень подобного рода высказываний, но и приведенные с достаточной ясностью дают представление о роде деятельности пши-уорков.
Итак, исключительным занятием княжеско-уоркского сословия по мнению наблюдателей XVII- XIX вв. являлось военное ремесло. Военное ремесло адыгов названное термином «наездничество» нашло широкое и всестороннее освещение в науке .
Условия и порядок заключения брака: позиции сторон
Семья и брак, являясь важнейшим элементом социальной структуры традиционного кабардинского общества, до проникновения ислама регулировались нормами адата (обычного права), после - сочетанием адата и религиозного права мусульман (шариата). Ко второй половине XIX века эти виды права слились в судопроизводстве настолько, что трудно было «отличить, какие именно приемы внесены туземными адатами и какие шариатом»1, а в процессе суда сторонам предоставлялось право выбора рассмотрения дела адатными установлениями или шариатом. Таким образом, можно констатировать, что в области семейного права была налицо ситуация полиюридизма, при которой процесс исследования истинных правовых взаимоотношений мужчин и женщин затруднен.
Как и другие народы, кабардинцы создавали семьи путем заключения брака. Закона, устанавливающего брачный возраст, у адыгов не было, поэтому относительно брачного возраста адыгов изучаемого периода, в том числе и кабардинцев, существуют различные мнения.
По сообщениям Г.-Ю. Клапрота: «Обычно раньше кабардинцы женились только в возрасте от тридцати до сорока лет, но теперь (начало XIX века.- Л.С.) они вступают в брак в возрасте от пятнадцати до двадцати пяти лет, а женщины от двенадцати до шестнадцати лет»2. Позже, о том, что в старину для адыгов сорок лет «считалось лучшею порою для женитьбы» писал и Хан-Гирей. Эти замечания свидетельствуют о том, что, примерно лет 200-300 назад, кабардинцы не практиковали ранние браки, во всяком случае, мужчины не женились рано. Такой довольно поздний брачный возраст, на наш взгляд, объясняется присущим социуму в тот исторический период полувоенным образом жизни. Ранний брак связывал молодых людей, а многочисленные военные походы, междоусобица, набеги требовали не связанных семейными обязательствами воинов. Была и другая причина поздней женитьбы мужчин - экономическая, о которой подробно будет сказано ниже. Г. - Ю. Клапрот же, называя 15-25 лет для мужчин, 12-16 - для женщин, вероятно, просто привел допускаемые шариатом нормы безотносительно к реалиям социума, поскольку, в столь малоподвижной, консервативной области, какой являются брачно-семейные отношения, столетиями регулировавшиеся обычным правом, не возможно быстрое проникновение чужеродных элементов, не соотносимых с образом жизни.
Исследователи семейных отношений адыгов, в том числе и кабардинцев, на основе анализа многочисленных источников пришли к выводу, что в XIX веке кабардинцы наиболее оптимальным возрастом для вступления в брак, считали 18- 20 лет для девушки и 20- 25 лет для мужчин . Однако в различные периоды истории встречались, видимо, колебания в ту или иную сторону.
Ранние браки «изобретение» не ислама. Например, до принятия христианства на Руси молодых женили в 8-10 лет, а позднее Кормчая книга -основной семейный законодательный документ христианской России, включавший греко-римские законы, постановления вселенских и поместных соборов, - разрешал брак в 12 лет для девушки и в 15 для юноши . Хотя у нас нет сведений о брачном возрасте периода язычества адыгов, думается, что и у них дело обстояло так же, как и у других язычников.
Та же Кормчая книга определяла и максимальный брачный возраст некоторых категорий женщин: «Вдова шестидесятилетняя, а еще паки восхочет сожительствовать мужу, да не удостоится приобщения святыни»5. У адыгов подобных ограничений, видимо не было. Только общественное мнение, возможно, влияло на определение верхнего предела брачного возраста.
При женитьбе предпочтение отдавалось девушкам: «Хъыджэбз къапшэмэ уэ зэрыбгъасэщи, пхъужь къапшэмэ зэресагъэххэщ - Женишься на девушке [как] воспитаешь ее сам, женишься на вдове [как] она воспитана», -гласит народная поговорка6. Девушка должна была выйти замуж в принятый социумом брачный возраст, ибо по представлениям кабардинцев: «Фадэр куэдрэ щытмэ мэжабзэ, хъыджэбзыр куэдрэ дэсмэ мэутхъуэ — Напиток от долгой выдержки становится прозрачней, а засидевшаяся девушка становится мутней» .
Несмотря на отсутствие в обычном праве сведений о количестве жен у кабардинцев, до и после принятия ислама, допускающего полигамию, исходя из многочисленных свидетельств авторов XVII - XIX вв. (А. Олеарий, Э. Кемпфер, Н.Дубровин, К.Сталь и др.), можно утверждать, что брак у кабардинцев в подавляющем большинстве был моногамным.
Брак в понимании кабардинцев - это, прежде всего социальный договор, который заключается между равными в сословном и имущественном отношении лицами для рождения детей и избежания греховной жизни.
На сословную эндогамию, особенно характерную среди кабардинцев, обратили внимание многие наблюдатели8. Это требование было закреплено в нормах обычного права. Зависимость заключения брака от сословной принадлежности новобрачных в «Постановлении о сословиях в Кабарде» отражено следующим образом: «Князья женятся на княжеских дочерях, а узденя на узденских дочерях, вольные на вольных, холопы на холопах, чагары у чагаров берут; по желанию же родителей и холоп может брать у вольного, а чагары у холопов»9.
Наиболее строго эндогамии придерживались князья и первостепенные уорки. Князья не отступали от этого правила, и в случае отсутствия женихов и невест, дабы не уронить сословного достоинства неравным браком (наряду с другими причинами политического и экономического характера), обращались к соседним народам, исповедующим как христианство, так и ислам. Первостепенные уорки, тлекотлеши и деженуго, в брачные союзы вступали, как правило, между собою или тагаурскими алдарями, дигорскими баделятами и таубиями Балкарии.
Имущественное и наследственное право членов семьи
К наиболее важным правам члена семьи относятся имущественные. В этом параграфе будут рассмотрены права мужчин и женщин в семье по владению, управлению и наследованию собственности. Так как все перечисленные правовые категории не были универсальными для всех сословий, при рассмотрении их будут учтены особенности сословных и межсословных отношений в имущественном праве кабардинцев.
Некоторые моменты имущественных прав членов семьи могли также зависеть и от формы семьи. Поэтому и в этом плане подход в освещении данного вопроса будет дифференцированным. Параллельно будут рассматриваться имущественные отношения как между супругами, так между детьми и родителями. Господствующей формой семьи у кабардинцев вплоть до конца XVIII века была большая патриархальная семья мелких уорков и крестьян. Наряду с ними функционировали малые семьи княжеского, реже - дворянского сословия и разделившиеся семьи крестьян. В XIX веке, точнее после отмены крепостного права, происходит наиболее интенсивный распад больших семей у кабардинцев и увеличение числа малых семей . В большой семье за старшим - тхъэмадэ или старшим сыном - унэфэщ, было право решать все семейные вопросы. Если мужской частью семьи он руководил непосредственно, в женской части проводницей его идей и решений была старшая (гуащэ), которая руководила женской половиной семьи. И в малых семьях, где главой семьи был также мужчина, прерогатива в решении семейных вопросов принадлежала ему. Независимо от формы семьи в любом случае верховная власть в семье принадлежала мужчине - мужу, отцу, свекру, деду . Характер соподчиненности членов большой и малой семьи зависел от нравственно-религиозной ориентации семьи и авторитета главы семьи, от почитания старших, уважения родителей, особенно отца.При такой ситуации возникает вопрос о правовых возможностях других членов семьи по владению и управлению семейным имуществом. Но вначале мы должны определиться с его качественным составом. Вопрос этот достаточно хорошо изучен исследователями . В состав семейного имущества входило недвижимое и движимое имущество. Семейное имущество делилось на коллективную и личную собственность. Коллективная приобретенная трудом собственность у кабардинцев называлась "унагъуэ мылъку" или "лэжьыгъэ мылъку" (унагъуэ-семья, мылъку-имущество, лэжьыгъэ-работа), и на нее все члены семьи мужского пола имели равные права. Другая составляющая имущества семьи носила название "лэгъунэ былым" (лэгъунэ - комната для молодоженов, былым -скот, имущество). В нее входили дыщырык1-приданое и накях-уасэ 1ыхьэ, подарки жене, а также наследство, переходящее к ней в случае смерти родителей . В адатах XVI - первой половины XIX века регулировались правовые взаимоотношения сословий и членов семьи на недвижимое и движимое имущество. Имущество сословий складывалось по-разному: у князей - из ежегодной земельной ренты с собственных крестьян и уорков, а также представителей соседних народов, продуктовой и отработочной ренты с крестьян, различных сборов, штрафов, подношений, доходов от наездничества, дани с других народов, части калыма за дочь ога, дедовось-билима переводимых в огов лагунаутов и т.д.; первоначально в основе имущества дворян лежала уэркъ тын - узденьский подарок, который постепенно приращивался, за редким исключением, из тех же источников, что и у князей. Только уорк-шаутлугус приумножал свое богатство производительным трудом.
К семейному имуществу князей и уорков (за исключением тех, кто не обладал правом собственности на землю) изучаемого периода можно отнести земельные участки, унаутов, жилые и хозяйственные постройки, лошади, скот, сельскохозяйственные орудия, дорогое оружие, средства транспорта, пищевые припасы и т.д. В состав семейного имущества феодалов входило и личное имущество жены, которое складывалось из приданого, уасэ 1ыхьэ, подарков, наследства (кроме земли) от ее родственников. Имущество жены постоянно приращивалось, т.к. оно редко использовалось на общесемейные нужды, им владела и распоряжалась только владелица .
В составе имущества лично свободных крестьян отсутствовали земля; лошадьми они владели очень редко, также они не имели дорогого оружия. У некоторых из них во владении могли быть рабы. Но большинство создавало свое имущество своим трудом и распоряжалось им по своему усмотрению. Их семейное имущество тоже делилось на имущество жены и мужа.
В отличие от них состав, источники имущества крепостных -лагунапытов и огов, а также право на него были несколько иные: "лично им (лагунапытам и огам. - Л.С.) принадлежащее, их личная собственность, на которую владелец не имеет никакого права, и собственность зависимая, частью, принадлежащая владельцу. К первому роду имущества относятся : а) начих (венчальный подарок). Когда ог или логанаут берет себе жену, владелец его делает новобрачный подарок от 3 до 5 рублей или, по стоимости означенной цены, телушку, весь приплод от которой делается личною собственностью жены ога или логанапыта и б) дешериг (подарок от родных логанапытки, выходящей замуж), заключающийся в одной корове. Весь приплод от нее также принадлежит жене ога или логаноута. Имущество это по смерти женщины-ога или логанаута переходит по наследству к мужу и детям умершей женщины; если же нет наследников - к владельцу. Второй род имущества, зависимый, называется дидовос-билим (скот, приобретенный огом или лагунапытом собственными трудами, заработками).