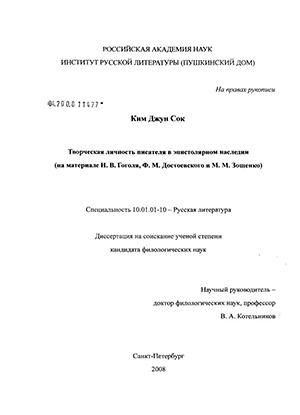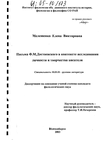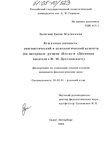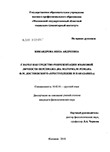Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. Творческая личность писателя как литературоведческая проблема 9
1. Теоретико-методологический аспект проблемы 9
2. Творческая личность Н. В. Гоголя 26
3. Творческая личность Ф. М. Достоевского 43
4. Творческая личность М. М. Зощенко 58
ГЛАВА II. Эпистолярий как выражение творческой личности 105
1.Н.В. Гоголь в его эпистолярном наследии 105
2. Ф. М. Достоевский в его эпистолярном наследии 132
3. М. М. Зощенко в его эпистолярном наследии 158
Заключение 188
Список использованной литературы
- Творческая личность Н. В. Гоголя
- Творческая личность М. М. Зощенко
- Ф. М. Достоевский в его эпистолярном наследии
- М. М. Зощенко в его эпистолярном наследии
Введение к работе
В сфере гуманитарных наук сегодня вновь обострилось внимание к проблеме личности как некой целостности Под влиянием этой тенденции подвергаются серьезному пересмотру традиционные концепции творчества, представления о творческой индивидуальности, о роли личностного начала в искусстве И все же в современной филологии зачастую сливаются понятия «автор», «авторская маска», «авторская субъективность», из исследовательского инструментария почти исключено представление о конкретной творческой личности, характерное для литературоведения конца XIX — начала XX века Складывающаяся ситуация представляется недостаточно продуктивной
Любой текст является выражением духовно-практического опыта, психических и этических качеств его создателя, т е выражением творческой личности Одним из наиболее авторитетных источников при определении ее характеристик является эпистолярий И это несмотря на то, что при оценке значимости материала такого типа следует учитывать и возможное желание автора писем «спрятаться» и из-за письма-«ширмы» показаться «лучше и внушительнее» «Намеренная рисовка» также информативна в ней проявляются личность, ее изначальные эстетические и иные предпочтения
Для того чтобы осуществить корректный отбор важных для характеристики творческой индивидуальности компонентов, мы рассматриваем эпистолярное наследие писателя широко, включая не только переписку, «изначально задуманную или позднее осмысленную как художественная или публицистическая проза»1, но и бытовую, частную — во всех сохранившихся типах посланий При таком подходе эпистолярное наследие или даже его отсутствие по каким-то этикетным представлениям или другим причинам
' Муравьев В С Эпистолярная литература // Литературный энциклопедический сіоварь М.1987 С 512
становятся серьезным импульсом для изучения условий, в которых происходило становление творческой личности
Сравнительное исследование в значительной степени способствует пониманию творческой личности, особенно в случае сопоставления разнотипных ярких индивидуальностей, переживающих и осознающих в разные периоды своей творческой эволюции притяжение (как в случае Зощенко и Гоголя) или отталкивание (Достоевский и Гоголь).
Отсутствие сравнительного анализа писем этих литераторов, если не считать эпизодических наблюдений над отдельными фрагментами писем Гоголя и Достоевского в упомянутом аспекте, актуализирует избранный исследовательский подход
Объектом исследования является эпистолярное наследие Гоголя, Достоевского и Зощенко — как опубликованное, так и находящееся на хранении в РГАЛИ и Рукописном отделе ИРЛИ РАН
Предмет исследования —отличительные черты творческих личностей названных писателей, отразившиеся в их эпистолярном наследии
Цель работы состоит в выявлении особенностей Гоголя, Достоевского и Зощенко как творческих личностей и в изучении этих особенностей в сравнительном аспекте
Сформулируем частные задачи исследования
на основании современных теоретико-литературных представлений уточнить дефиниции понятий «творческая личность» и «эпистолярное наследие писателя» в рамках предстоящего анализа,
выявить специфику выражения творческой личности Гоголя, Достоевского и Зощенко в их эпистолярном наследии,
соотнести выявленные особенности творческих личностей интересующих нас писателей с уже сложившимися в истории литературы стереотипами их восприятия
Методологическую основу диссертации составили исследования, в которых обосновываются психоаналитические методики в литературоведении, а также исследования, посвященные как творческой индивидуальности Гоголя, Достоевского и Зощенко, так и вопросам литературной теории Среди них работы 3 Фрейда, К Г Юнга, Ж Лакана, Б А Грифцова, Ю Н Тынянова, М М Бахтина, Ю М Лотмана, К В Мочульского, С Г Бочарова, В А Туниманова, Ю В Манна, М О Чудаковой, М 3 Долинского, А К Жолковского и др
Научная новизна определяется использованием методики типологического анализа по отношению к творческим индивидуальностям, представляющим разные историко-литературные эпохи Кроме того, новым можно считать переход к проблемно-аналитическому, системному анализу эпистолярного наследия Гоголя, Достоевского и Зощенко, которое до сих пор изучалось фрагментарно и по преимуществу описательно
Практическая значимость работы прежде всего связана с уточнением представлений о творческих личностях писателей Предложенный в диссер-
тации анализ способствует углублению уже существующих взглядов на их мироощущение, системы ценностей, художественные концепции Полученные результаты могут быть использованы в основных и специальных курсах по истории русской литературы Х1Х-ХХ вв , в теоретических курсах соответствующей тематики
Апробация работы Основные положения работы были изложены на заседаниях Отдела Новой русской литературы ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом) и в научных статьях по теме диссертации
Структура диссертации Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы (172 наименования)
Творческая личность Н. В. Гоголя
Из трех писательских индивидуальностей, которые нас интересуют, личность Гоголя наиболее загадочна. Один из самых авторитетных исследователей особенностей характера, мировоззрения и, художественной философии писателя В. В. Зеньковский открывает свой труд такими словами: «Литература о Гоголе, о его жизни и творчестве очень велика, но до сих пор мы не имеем цельного образа личности Гоголя, не имеем и удовлетворительного анализа его творчества — не только художественного, но и творчества идейного» . Несмотря на то, что слова эти были написаны почти сто лет назад, ситуация принципиально не изменилась, хотя корпус исследований о Гоголе пополнился за прошедшее время в значительной степени. Первая причина исследовательской незавершенности - сложность предмета исследования. Творческая индивидуальность Гоголя на всех уровнях была составлена из разных начал, которые никак не могли прийти в состояние равновесия". В. Ф. Чиж, например, это объясняет «потологическим состоянием» писателя, которое не могло не отразиться на1 его художественной деятельности и определило незавершенность «Мертвых душ», появление «Выбранных мест из переписки с друзьями» и «Авторской исповеди», отсутствие темы любви в прозе Гоголя, краткость и слабость «Рима» .
Современные литературоведы дают более глубокую оценку художественной философии Гоголя. М. Н. Виролайнен, размышляя над его эстетикой, замечает: «У Гоголя страшное и смешное даны в их одновременности, более того, в их тождественности. Страшное оказывается смешным, а смешное - страшным»4. Сегодня большинство пишущих о Гоголе противоречивость, внутреннюю и внешнюю дисгармоничность отмечают как основную черту его характера, которую объясняют не психическим заболеванием Гоголя, но особенностями личности, определившими специфику его мировоззрения и творчества («стремился изображать героев и изображает обыденную жизнь»5; пытался подавить интерес к женщинам и постоянное стремление общения с ними, инфантилизм; нацеленность на постижение глубинных закономерностей существования окружающего мира и почти полное «выпадение» из него; уверенность в особом отношении к себе Бога и отсутствие веры, склонность к мистицизму; поиск спасения души и впадение в грех6).
С гимназической поры портрет Гоголя набрасывают двумя красками. Гоголь тих, покорен, любим близкими. И в то же время он насмешлив, колок, скор на прозвище или шутку. Гоголевские портреты в исполнении более поздних друзей и знакомых мало отличается от ранних: «Гоголь был добр, кроток, ленив и вместе деятелен, самолюбив и смиренен; вообще двойственность в нем обнаруживалась и обличалась резко, (...) »7 вспоминала А. О. Смирнова-Россет, объясняя странности натуры гениальностью Гоголя.
Сам Гоголь свои отношения с окружением, во многом заданные личными качествами, видел отнюдь не гармоничными и безоблачными. Но причину он находил в некоторой своей душевной потребности: «Когда я был в школе и был юношей, я был очень самолюбив (...) мне хотелось смертельно знать, что обо мне говорят и думают другие. Мне казалось, что все то, что мне говорили, было не то, что обо мне думали. Я нарочно старался завести ссору с моим товарищем, и тот, натурально, в сердцах высказывал мне все то, что во мне было дурного. Мне этого было только и нужно; я уже бывал совершенно доволен, узнавши все о себе» (XL 182)8. Значит, выходки Гоголя против товарищей, в том числе и юмористические или, как выразился А. С. Данилевский, «саркастические, преследовали провокационную цель -заставить разговориться, открыть все, что думаешь»9. С одной стороны, функционально провокация была средством самопознания, точнее, осознавалась Гоголем в этой функции. Но, с другой стороны, в провокативной стратегии общения в данном случае выявлялась одна из ключевых его личностных особенностей - зависимость от чужого мнения. Эта особенность характера Гоголя будет проявляться и в более поздних, не только дружеских, но и профессиональных привязанностях. Например, П. А. Плетнева как будущего рецензента «Мертвых душ» в «Современнике» писатель просит: «Ради нашей дружбы, будьте взыскательны, как только можно, и постарайтесь отыскать во мне побольше недостатков...»10. Более того, можно предположить, что и возникновение особой сказовой манеры повествования в творчестве писателя отчасти определялось также склонностью к речевым провокациям.
Творческая личность М. М. Зощенко
Публикация писем Гоголя началась сразу после его смерти, что явилось безусловным свидетельством глубокого интереса современников к личности и творчеству писателя. Уже в 1852 году в статье Г. П. Данилевского «Хуторок близ Диканьки» (Московские ведомости, № 124, 14 октября) были использованы 4 письма Гоголя к матери. В 1853 году читатели познакомились с его письмом к актеру М.С.Щепкину (от 10 августа по н. с. 1840 г. — Московские ведомости, № 2). В 1854 году П. А. Кулишем были издан первый «Опыт биографии Н. В. Гоголя» со включением сорока его писем. Через год в журналах «Москвитянин» (№ 19-20) и «Библиотека для чтения» (№5) появились подборки писем самым активным корреспондентам писателя — М. П. Погодину и А. С. Данилевскому.
До сих пор исследователи жизни и творчества Гоголя обращаются к подготовленным П. А. Кулишем «Сочинениям и письмам Н. В. Гоголя», в которых эпистолярное наследие писателя заняло два тома (5-й и 6-й) и включало 800 писем, воспроизведенных текстологически корректно по подлинникам. Но П. А. Кулиш был вынужден сделать некоторые пропуски по требованиям цензуры и по настоянию сестры Гоголя - А. В. Гоголь. «По тем же соображениям ему (П. А. Кулишу. - К Д. С.) пришлось зашифровать ряд имен адресатов Гоголя и упоминаемых им лиц»1. Итоги публикациям XIX века подвело четырехтомное издание «Писем»" Гоголя, вышедшее под редакцией В. И. Шенрока в 1901 году, которое В. Ф. Чиж назвал самым полным собранием биографических документов писателя .
Позже фонд гоголевских эпистолярных текстов пополнялся,- но уже не так активно в силу исчерпанности материалов. В XX веке полным собранием всего написанного Гоголем должно было стать академическое издание Полного собрания сочинений 1937—1952 гг. Но в жертву цензуре составителями был принесен целый блок духовных сочинений, некоторые тексты были пропущены по недоразумению или недосмотру, ряд текстов сознательно был исключен редакторами как не имеющий отношения к творческому наследию.
Первое письмо из обнаруженных и опубликованных исследователями и биографами было отправлено родителям 11-летним подростком из Полтавы, где он готовился к поступлению в Нежинскую гимназию высших наук. Последнее написано им за 10 дней до смерти, около 10 февраля 1852 года; адресовано оно опять матери - М. И. Гоголь. Между этими двумя датами вместилась не такая уж и долгая жизнь, наполненная чтением и учением, неустанным литературным трудом, напряженными духовными исканиями, дальними путешествиями и переездами, радостными встречами и тяжкими периодами борьбы с недугами, душевными и физическими.
Строго научные аналитические подходы к эпистолярному наследию писателя были определены составителями академического Полного собрания сочинений, в котором в полном объеме представлена переписка с А. С. Пушкиным и В. Г. Белинским, причем, письма к Гоголю А. С. Пушкина и В. Г. Белинского даются по академическим изданиям их сочинений. Письма других корреспондентов, за исключением особо оговоренных случаев, печатаются по автографам, хранящимся в отделах рукописей Российской Национальной библиотеки им. В. И. Ленина, Российской Национальной1 библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Института русской литературы РАН (Пушкинский Дом), а также в Российском государственном архиве литературы и искусства.
Интерес издателей академического Полного собрания сочинений к эпистолярию Гоголя подтверждает значительность этой части его творческого наследия, которая была мотивирована уже в 1853 году С.Т.Аксаковым, автором замечательных воспоминаний о писателе, настоявшем на том, «чтоб люди, бывшие в близких сношениях с Гоголем, записали дляпамяти историю своего с ним знакомства и включили в свое простое описание всю свою с ним переписку» . С. Т. Аксакова поддержал П. А. Кулиш: «Гоголь сам — лучший свой биограф, и если бы были напечатаны все его письма, то не много нужно было бы прибавить к ним объяснений для уразумения истории его внутренней жизни»5. Л. Н. Толстой в заметках о Гоголе, определяя замечание творческого наследия писателя, отметил, что в лучших письмах Гоголь, «отдается своему сердцу и религиозному чувству» и возникают «трогательные, часто глубокие и поучительные мысли» .
Ф. М. Достоевский в его эпистолярном наследии
Как факт, имеющий художественную и историко-литературную, историко-культурную ценность, можно рассматривать и бытовую переписку Зощенко. Сказанное, в первую очередь, относится к личным посланиям близким людям, родным писателя: сыну Валерию Михайловичу, жене Вере Владимировне, брату Виталию Михайловичу, племяннице Валерии Михайловне, сестре Валентине Михайловне, матери Елене Осиповне Суриной (Зощенко), к письмам близким в разные периоды жизни женщинам — предмету юношеского увлечения Наде Русановой-Замысловской 40 , студентке строительного техникума О. М. Шепеловой, познакомившейся с маститым уже писателем на одном из литературных вечеров в 1938 году, к Л. Б. Островской, с которой Зощенко переписывался в 1954-195541.
В этом ряду наиболее информативны письма Зощенко к женщинам, которых он любил. В фондах Рукописного отдела Пушкинского Дома сохранилось 4 письма к Наде Русановой-Замысловской, знакомство которой с Зощенко продолжалось к 1916 году уже 5 лет и по некоторым признакам могло бы привести к более близким отношениям. Эти письма интересны как первая самохарактеристика писателя, несмотря на то, что ни в одном из них нет более или менее значительных аналитических фрагментов, посвящаемых автором собственному психологическому состоянию. Во-первых, эти письма перенасыщены романтическими лексическими и фразелогическими стереотипами: «одиночество», «печальные глаза», «душевная тоска», «опустошенность» и т. п. При чтении их возникает ощущение, что здесь Зощенко впервые пытается апробировать свойственные ему приемы литературной игры, эксплуатирующие наборы романтических штампов (особенности стиля исследуются в I главе, посвященной творчеству сатирика). Во-вторых, на фоне этих штампов достаточно отчетливо проступает образ автора — «двойника Евгения Онегина», наставника неразумной девы, готовой совершить одну из самых непростительных ошибок неосмотрительной юности - дать необдуманное согласие на замужество. Можно сказать, что так возникает первая литературная маска писателя Зощенко и проявляется одно из ключевых качеств его художественного мира — дидактичность.
Если бы анализируемые письма писались без черновиков, т. е. были результатом выплеснувшейся на бумагу бесконтрольной страсти или наивного романтического увлечения, для нас они не были бы столь значимы. Существующие черновики доказывают наличие творческого процесса, обнаружившего на стадии формирования два основных литературных приема позднего Зощенко: склонность к использованию литературных масок и, как одно из проявлений этой склонности, особого качества дидактичность. В более поздних текстах типологическая склонность трансформируется, новые формы и способы ее выражения будут найдены преимущественно в художественном творчестве, а дидактичность будет неустанно развиваться и в эпистолярии, в том числе и в переписке с женщинами.
В течение нескольких лет писателя связывала нежная дружба с Ольгой Михайловной Шепеловой, основные этапы их взаимоотношений были запечатлены в двух десятках писем, переданных Ольгой Михайловной В. А. Петрицкому. Через 20 лет после приобретения этих писем В. А. Петрицкий опубликовал принадлежащие ему документы, в которых сообщаются разные события жизни писателя, обсуждаются многие его литературные замыслы, содержание выступлений на официальных и неофициальных встречах, взаимоотношения с Ю. К. Олешей, В. П. Катаевым; Б. А. Лавреневым. Самое интересное в этих посланиях для нас — обнажение важного защитного механизма, который эффективно использовался писателем до конца 1930-х годов. Механизм этот — действующая философская теория случайностей, ставшая, компонентом художественной философии «Сентиментальных повестей», заставлявшая воспринимать судьбу как бесконечную, неведомым образом сбалансированную цепь случайностей. Человеку, чтобы выстоять, по Зощенко, необходимо научиться эту сбалансированность ощущать. «Надо в каждом деле находить что-нибудь хорошее. Надо рассуждать так: тут все-таки юг, солнце. Может, и не так уж плохо месяц провести не в Ленинграде, где дожди и серые дни», поучает писатель молодую женщину, переживающую свою южную командировку как досадную необходимость.
Наглядный пример действенности этой жизненной философии, ее практической значимости в письме Зощенко от 3 февраля 1939 года из Сочи. В этом письме к любимой Зощенко рассказывает, как его чуть не сбил на улице мотоциклист: «На ноге ссадины, синяки и небольшая ранка» . Хулиган даже не извинился. Зощенко рассуждает: «Но ведь мог и изувечить, и задавить насмерть» . В качестве компенсации за слабенький удар судьбы на следующий день в газете появилась информация о награждении- писателя Зощенко орденом Трудового Красного. Знамени и это сообщение стало справедливым наказанием для трусливого преступника: «Уж очень, он» униженно извинялся. Хотел мне купить штаны. И теперь ежедневно шляется ко мне — до того перетрусил, когда узнал фамилию»44.
Эти письма свидетельствуют о"том, что дидактизм обрел научно-философскую основу. Кроме того, из этих писем ясно, как права была сестра писателя - Вера Михайловна, когда говорила о мнительности брата45, о постоянно1 терзавшем его страхе случайной смерти. Не один раз Зощенко в письмах своей юной возлюбленной рассказывает, именно об угрозах его жизни.
Практически не освещена в истории литературы специалистами по Зощенко переписка с женой и родными, которую активно вел Зощенко в период Великой Отечественной войны и в последние годы жизни. Между тем, к этому периоду относится почти 300 единиц хранения в Рукописном фонде (80 писем и 227 телеграмм)46.
М. М. Зощенко в его эпистолярном наследии
Проведенное сопоставление особенно важно потому, что результаты его подтверждают нашу гипотезу о характере эволюции творческой личности писателя. Дело в том, что и в первом, и во втором случаях как основное качество натуры адресанта достаточно четко проявилась двойственность его личности. И в первом, и во втором случаях Зощенко в письменном диалоге с женой прибегает к использованию масок. Но в первом случае это была маска романтика-индивидуалиста, сосредоточенного на сохранении собственного реноме одиночки. А потом — если можно так сказать о преимущественно бытовом послании, почти исключающем использование литературных средств, маска отца семейства, вынужденного искать себе оправдания.
Зощенко убедил жену в достоверности созданного им образа. Потом в воображении и на бумаге Зощенко поддерживал миф о существовании своей семьи. И сила убеждения, таланта, которым обладал Зощенко, значительность целеполагания были настолько велики, что в придуманное и существовавшее только на бумаге Вера Владимировна поверила опять.
Как нам представляется, сначала опасение собственного несоответствия высокой романтической любовной идее повлияло на желание создать маску, чтобы закрыться ею от мучавшей его неистребимыми противоречиями реальности, а позднее маска трансформировалась отчасти под воздействием на подсознание желания быть откровенным, узнанным. В этой ситуации любопытно то обстоятельство, что сначала писатель, закрывшись, пытается угадать чувства и качества человека, которого он хочет считать самым близким. А потом, позже, наоборот, все делает для того, чтобы от этого же человека «спрятаться», не дать ему возможности постичь изменившуюся ситуацию, почувствовать перемены в душе мужа-собеседника. Все эти душевные движения имели одну цель - сохранение порядка, одним из знаков которого для Зощенко была семья.
По большому счету, множившиеся с течением времени страхи, терзавшие душу художника, были во многом порождением периодически осознаваемой им самим разницы между реальностью и ее литературным, художественным воплощением, которое Зощенко пытался генерализовать.
Реальность, по мнению А. Д. Синявского, изначально сформировала в душе, в подсознании писателя постепенное желание защититься «от неведомой опасности», от возможного насилия, от «мании преследования». Именно реальность породила комплекс, состоявший, в частности, в том, что еда и женщина «невероятно притягивают, и невероятно пугают, отталкивают». «Страшный мир посеял «снедавшую его душу тоску», непроясненные часто для него самого «душевные страдания». Кроме того, за своей спиной Зощенко постоянно ощущал присутствие «призрака нищего» . Мы вынуждены согласиться с точкой зрения исследователя, так как часть обнаруженных им страхов нашла проявление в эпистолярной практике писателя.
Все это напоминает процессы, происходившие в сознании Гоголя, которому, как и Зощенко, пришлось пережить ощущение исчерпанности жизненного материала до завершения творческого пути. Именно эти переживания заставили Гоголя в «Выбранных местах из переписки с друзьями», а Зощенко в повести «Перед восходом солнца» выходить за пределы литературы. И в результате их настигают неизбежные следствия такого выхода - непонимание современников и трагически переживаемое одиночество, которое для Гоголя превратилось в безысходное.
Ситуация усугублялась тем, что оба художника не находили ощущения жизненной гармонии в других областях, помимо литературы, в отличие, например, от Достоевского71.
У советского писателя эпоха сформировала специфическое защитное качество - приспособляемость, в конечном итоге спровоцировавшую неповторимую двойственность творческой натуры сатирика Зощенко, изначально базирующуюся на его специфическом представлении о гармонии общественных взаимоотношений и человеческого существования. Это представление включало стремление к порядку, внутреннему и внешнему. В отсутствии последнего Зощенко видел с самого начала творческого пути основное проявление «мещанства», неприятие которого выражал в сатире. Но врожденная приспособляемость довольно долго в жизни помогала ему избегать открытого конфликта с окружающей реальностью. С течением времени конфликт идеального и реального из внешнего перерос во внутренний, начал толкать писателя к самооправданию, достаточно очевидному, начиная с «Сентиментальных повестей», и в конечном итоге также слабоэффективному, как и во многих иных случаях с художниками, 1 подвергавшимися давлению тоталитарного режима.
В основе; этой ключевой особенности творческой личности Зощенко лежит гиперчувствительность по отношению ко времени, в котором литератор существовал. О том, что эпоха, на которую пришелся пик популярности писателя, была невероятно «двуликой», оставила достоверное свидетельство академик психиатрии Н. П. Бехтерева: «Оно (ощущение двойственности времени. - К. Д. С.) было и страшным и тягостным. И в то же время - ярким и праздничным. Бодрые песни не только звучали по радио - им с упоением подпевали. Слова о том, что «жить стало лучше, жить стало веселее», находили отзыв во многих сердцах. Жизнь в городах становилась сытнее, наряднее. На улицах появлялось все больше красиво одетых женщин.