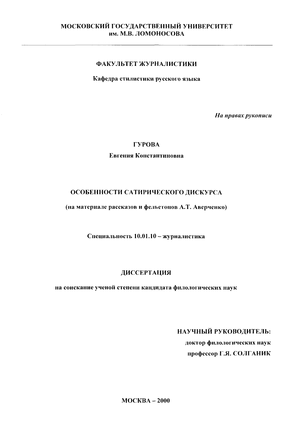Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Лексические средства создания сатирического дискурса 33
1.1. Информативность и эффективность слов с коннотативными признаками . 33
1.1.1. Оценочная лексика как средство выражения позиции автора . 36
1.1.2. Средства создания эмоционального фона в сатирическом дискурсе 45
1.1.3. Стилистически окрашенные средства создания комической экспрессии . 50
1.2. Образные средства, формирующие картину мира А. Аверченко . 66
1.2.1. Сравнения . 68
1.2.2. Метафоры . 70
Глава 2. Синтаксические средства формирования «образа автора» . 76
2.1. Прием открытых присоединительных конструкций . 78
2.2. Обособление как средство смыслового подчеркивания . 82
2.2.1. Обособленные определения . 83
2.2.2. Обособленные обстоятельства 85
2.3. Парцелляция . 87
2.4.Вставные конструкции . 93
2.5. Авторские знаки препинания . 97
2.5.1. Внутренняя нюансировка предложения . 98
2.5.2. Интонационный рисунок текста . 103
Глава 3. Авторский замысел и связный текст . 107
3.1. Повествование от 1-го и 3-го лица как способ выражения субъективно-модальных значений . 110
3.1.1. Особенности повествования от 3-го лица . 111
3.1.2. Особенности повествования от 1-го лица . 115
3.2. Функции диалога в раскрытии авторского замысла . 119
3.3. Особенности функционально-смысловых типов речи в сатирическом произведении 123
3.3.1. Функции описания в сатирическом дискурсе . 124
3.1.1. Специфика авторских рассуждений в произведениях А. Аверченко 129
Заключение . 134
Список литературы .138
Приложение . 153
- Информативность и эффективность слов с коннотативными признаками
- Стилистически окрашенные средства создания комической экспрессии
- Прием открытых присоединительных конструкций
- Особенности повествования от 3-го лица
Введение к работе
«Сатирическая журналистика расцветает обычно в эпохи революционного переустройства политических и социальных устоев жизни. Громко, смело и широко разливается тогда общественный смех, то полный гневного сарказма и презрительной иронии, то легкомысленно-шутливый и весело-добродушный , - так говорилось в одном из номеров революционно-сатирического журнала «Жало» за 1905 год. Годы первой русской революции смело можно назвать «эпохой переустройства», и именно об этом времени писал А.И. Куприн: «Тогда, как грибы поганки после дождя, начали ежедневно расти в большом количестве юмористические и сатирические журналы...» [Куприн, 1969; ПО]. По его словам, многие из них не успевали прожить больше недели. Это были издания самых разных направлений: и большевистские, и либерально-демократические, и реакционно-охранительные. Но все они выражали протест против изживших себя форм жизни.
Наступление столыпинской реакции резко изменило условия существования сатирической журналистики. В атмосфере правительственного террора стали невозможными прямое разоблачение, политическая шутка. Огромное количество - свыше двух с половиной тысяч - периодических изданий было приостановлено. «Оставшиеся в живых» быстро меняли свой облик: в журналах теперь мирно уживаются сотрудники изданий разных направлений, и лозунг, украшавший один из них, можно отнести ко многим: «В политике -вне партий, в литературе - вне кружков, в искусстве - вне направлений». Для сатирической литературы и журналистики этого периода в высшей степени характерны юмор «от отчаяния», грустный и даже жутковато-страшный смех. Альманахи и журналы, занявшие место павших, прекрасно охарактеризовал талантливый поэт Саша Черный: Ах, скоро будет тошнить От самого слова «юмор» [Черный Саша, 1962; 137].
Именно в это время по совету и с помощью друзей в Петербург приезжает Аркадий Тимофеевич Аверченко. Приезжает, чтобы его покорить.
Биографические сведения об Аркадии Аверченко скудны. Родился он в марте 1881 года в Севастополе, в небогатой купеческой семье. Полного среднего образования он не получил, так как имел плохое зрение; его обучением занимались старшие сестры (об этом он писал в «Автобиографии», ставшей предисловием к первому сборнику его рассказов «Веселые устрицы»). С 15 лет он вынужден был поступить на службу в некую транспортную контору по перевозке кладей, где проработал чуть больше года. Затем, в 1897 году, он уезжает в Донбасс, на Брянский рудник, работает там конторщиком. Воспоминания Аверченко о юности скупы, потому, наверное, что все они безотрадны .
Через три года правление рудников переехало в Харьков, а вместе с ним и Аверченко. С этим переездом, с переменой обстановки, знакомством с литературными кругами связано начало его творческой деятельности. Природная любознательность и поразительная работоспособность помогают ему восполнить недостаток образования.
Первые литературные опыты начинающий юморист публикует именно в Харькове. Разные источники называют разные рассказы и разные журналы, где они были напечатаны. Но несомненно одно: именно Харьков - период самоопределения Аверченко как профессионального литератора и журналиста. По справедливому замечанию О. Михайлова, в этом ему помогла первая русская революция, которая «вызвала небывалый доселе в стране спрос на обличительную и сатирическую литературу» [Михайлов, 1985; 7].
В 1906 году Аверченко основывает и редактирует «журнал сатирической литературы и юмора с рисунками в красках» под названием «Штык», публикует в нем свои произведения: злободневные фельетоны и стихотворные миниатюры, юмористические рецензии на выставки и спектакли и даже карикатуры.
За какую-то провинность журнал был оштрафован и закрыт. На смену ему пришел журнал «Меч», который прожил еще меньше. Упоминания эти недолговечные журналы заслуживают лишь постольку, поскольку именно они были для Аверченко практической школой «писательства». Он получил богатую возможность перепробовать себя в разных жанрах. Авторская и редакторская работа в Харькове оказались как бы репетицией последующего успешного издания «Сатирикона» (журнала, основанного Аверченко в 1908 году в IПетербурге). Значимость этого периода жизни для писателя подчеркнул и А.И. Куприн: «Счастьем для таланта Аверченко было то, что его носитель провел начало своей жизни не в Петербурге, в созерцании сквозь грязный туман соседнего брандмауэра, а побродил и потолкался по свету. В его памяти запечатлелось ставшее своим множество лиц, говоров, метких слов и оборотов, включая сюда и неуклюже-восхитительные капризы детской речи. И всем этим богатством он пользовался без труда, со свободой дыхания» [Куприн, 1969; 111].
За литературными занятиями Аверченко совсем забыл про службу и был уволен. Был закрыт и его журнал - по цензурным соображениям. Оставшись без средств к существованию, молодой писатель, полный творческих планов и смутных надежд, решает переехать в Петербург.
Чуть больше трех месяцев потребовалось ему, чтобы покорить столицу.
Начав сотрудничество в отживавшем свой век, плохоньком, терявшем подписчиков журнальчике «Стрекоза», Аверченко сумел организовать и сплотить вокруг себя группу единомышленников, талантливых писателей и художников. Вместе они и приняли судьбоносное решение о создании нового журнала, получившего название «Сатирикон» .
Слава Аверченко росла быстро. Талант человеческого общения счастливо сочетался с его природным литературным даром, и это сочетание находило живой отклик и пробуждало лучшие чувства в тех, кто с ним встречался. Атмосферу доброжелательности и взаимопомощи Аверченко создал и в редакции. Благодаря удачному подбору сотрудников и личным качествам редактора «Сатирикон» быстро завоевал симпатии читателей (тираж журнала порой достигал 50 тысяч экземпляров, что было неслыханно в то время). С наступившей реакцией, с болезнью духа Аверченко борется смехом, смех он предлагает русскому обществе как лекарство от тоски и уныния. Он убежден, что с помощью беззаботного, жизнерадостного смеха можно преобразить мир. И в этом один из секретов его чрезвычайной популярности.
Аверченко не был политическим сатириком. Но среди его произведений встречаются талантливые, острые общественно-социальные произведения, где зло высмеиваются страхи обывателя, взяточничество чиновников, эпидемия шпиономании, литературная бездарность и ее дешевые штампы. Мишенью для его сатиры становится и все уродливое, антиэстетическое, «больное» в искусстве.
Как и ранее, в харьковском журнале, перу Аверченко принадлежат многочисленные юмористические рассказы, фельетоны, рецензии, резкие отзывы о рукописях начинающих писателей. Но теперь ежегодно большими тиражами выходят сборники его рассказов, и расхватываются они мгновенно. Во многих театрах с успехом идут его пьесы (в основном, инсценированные рассказы). Критика обвиняет его в торопливости, в излишней плодовитости, на что писатель в предисловии к книге «Зайчики на стене» отвечает: «Я пишу только в тех случаях, когда мне весело. Мне очень часто весело. Значит, я часто пишу» [Аверченко, 1999; 6]. К 1913 году в редакционных рядах произошел раскол, и основные сотрудники журнала во главе с Аверченко были вынуждены выйти из состава редакции и основать «Новый Сатирикон». Некоторое время он продолжает и развивает традиции прежнего журнала. Но начавшаяся первая мировая война сильно усложнила жизнь «Нового Сатирикона» и его авторов. Военная цензура придирчиво просматривает каждый номер, а «обязательность» военной тематики не всем по душе. Беззаботный сцех Аверченко теперь звучит все реже. Как личную драму воспринимает он резко ухудшающийся столичный быт, дорожание жизни.
С восторгом встречает он Февральскую революцию, но быстро разочаровывается. Октябрьские же события и приход к власти большевиков он воспринял как кошмарный сон. Революция для него - это «чертово колесо», которое расшвыривает всех, кто на него заберется. Кроме того, под угрозой было дело всей его жизни - «Новый Сатирикон».
И вот все рухнуло. В середине 1918 года журнал был закрыт. Книги не выходят. Солидный банковский счет реквизирован, квартиру собираются «уплотнить»... Вместе со многими друзьями и соратниками Аверченко принимает решение покинуть Петроград. Сначала Крым, затем Константинополь, и, наконец, Прага...
Аверченко не переставал писать. Писал он о деградации культуры в условиях гражданской войны, о бесприютности, всеобщем обнищании и, конечно, о печальном и беспросветном бытии выброшенных за борт бывших российских граждан. «За что они Россию так?» - ищет и не находит ответа на этот вопрос писатель. Еще недавно советские критики писали, что «творчество Аверченко этих лет свидетельствует о печальном вырождении его таланта» [Евстигнеева, 1977; 151]. Теперь мы знаем, что к таланту это суждение никакого отношения не имеет. Наоборот, в рассказах, фельетонах, книгах, созданных уже после Октябрьских событий, мы встречаемся с Аверченко, полным новых сил, энергии, по-прежнему ярко талантливым. Этого же мнения придерживается и С. Никоненко:
«Как это ни парадоксально, но именно неприятие революции и эмигрантское бытие разбудили его фантазию, придали его перу еще большую виртуозность» [Никоненко, 1994; 20]. Убедительным доказательством тому может служить и статья в «Правде», написанная после выхода в Париже новой книги Аверченко «Дюжина ножей в спину революции» (1921 год). Называлась она «Талантливая книжка», а автором ее был В.И. Ленин. В статье говорилось: «Большая часть книжки посвящена темам, которые Аркадий Аверченко великолепно знает, пережил, передумал, перечувствовал. И с поразительным талантом изображены впечатления и настроения представителя старой, помещичьей и фабрикантской, богатой, объевшейся и объедавшейся России... Огнем пышащая ненависть делает рассказы Аверченко иногда - и большей частью - яркими до поразительное™» [Ленин, 1964; 249].
В эмиграции Аверченко завоевывает новую аудиторию. Он с успехом публикуется в Париже, Праге, Загребе, Берлине, путешествует, выступает на гастролях, редактирует журналы и сотрудничает в газетах. В 1922 году он окончательно обосновывается в Праге, продолжает работать. Но все больше тоскует по России. «Какой я теперь русский писатель. Я печатаюсь по-чешски, по-немецки, по-румынски, по-болгарски, по-сербски...» - приводит его слова Л.А. Евстигнеева [Евстигнеева, 1977; 153]. Вскоре он начинает чувствовать недомогание, пробует лечиться на курортах, но безуспешно.
12 марта 1925 Аркадий Тимофеевич Аверченко скончался в пражской больнице от болезни сердца.
Творческое наследие Аркадия Тимофеевича Аверченко долгое время находилось в забвении. Более тридцати лет (до 1964 года) его произведения не переиздавались в России. Лишь в последнее десятилетие его фамилия вновь появилась в издательских планах. Сегодня Аверченко «реабилитирован» и возвращен русскому читателю, о котором он так тосковал, оказавшись в эмиграции.
Первые работы, посвященные журналу «Сатирикон» и его редактору Аркадию Аверченко, появились только в середине 60-х годов. Это прежде всего книги Л. Евстигнеевой (Спиридоновой) «Журнал «Сатирикон» и поэты-сйтириконцы» и «Русская сатирическая литература начала XX века» (где журналу отведено значительное место), статья О. Михайлова «Аркадий Аверченко. 1881 - 1925», ставшая предисловием к сборнику рассказов писателя, вышедшему в 1964 году, некоторые другие. Только в 1999 году у российского читателя появилась возможность познакомиться с единственным монографическим исследованием жизни и деятельности Аркадия Аверченко - книгой Д.А. Левицкого, которая представляет собой воспроизведение докторской диссертации 1969 года на соискание ученой степени доктора философии. Но и эти немногочисленные работы, посвященные изучению творчества писателя, содержат в основном сведения литературоведческого характера, и язык в них рассматривается с точки зрения литературоведческой, а не лингвистической. Специфические же особенности языка и стиля редактора «Сатирикона», «короля юмора» А. Аверченко до сих пор остаются вне поля зрения исследователей-лингвистов. А между тем «творчество писателя, его авторская личность, его герои, темы, идеи воплощены в его языке и только в нем и через него могут быть постигнуты. Исследование стиля, поэтики писателя, его мировоззрения невозможно без основательного, тонкого знания его языка» [Виноградов, 1959; 6]. рассказов писателя, художественные и конструктивные приемы, обусловливающие специфическую манеру авторского повествования А. Аверченко. Научная новизна диссертации заключается прежде всего в неизученности объекта исследования.
Материалом для данного исследования послужили тексты рассказов и фельетонов разных лет, публиковавшиеся в журнале «Сатирикон» и других изданиях . Данные тексты привлекли внимание благодаря оригинальности различных приемов ведения повествования. Необходимо подчеркнуть, что в работе не проводится грань между сатирой и юмором. Мы придерживаемся положения B.C. Манакова о том, что «с точки зрения формально-стилевых приемов резкой границы между сатирой и юмором йе существует» [Манаков, 1986; 31].
В диссертации основной акцент делается на изучении языковой личности пишущего - новом направлении в изучении языка. В пределах данного направления анализ творческого наследия Аверченко позволяет воспроизвести языковую картину мира сатирика, имеющую ряд отличительных черт, которые до настоящего времени подробно не исследовались. Кроме того, стилистический анализ его произведений внесет известный вклад в изучение языковых процессов, происходивших в русской прозе конца XIX - начала XX века. Художественное творчество писателя - неотъемлемая часть русской литературы этого периода. В это время в русской литературе активно и плодотворно работали Л.Н. Толстой, A.M. Горький, И.А. Бунин, А.И. Куприн, Л. Андреев, В.Г. Короленко и многие другие великие писатели. Но даже на этом «звездном» фоне творчество А. Аверченко представляло собой оригинальное явление и оставило яркий след. По словам В.В. Виноградова, «творчество каждого писателя так или иначе включается в контекст развития литературы своего времени, становится в различные связи и отношения с живыми литературными направлениями эпохи» [Виноградов, 1963; 128].
Задача изучения языка русской художественной литературы и публицистики XX века актуальна и сегодня. Без частных случаев использования языковых средств (каковыми являются произведения любого автора) невозможно изучение языка в целом, определение его общих норм и индивидуально-стилистических вариантов.
В условиях резкого падения уровня культуры слова в современном обществе представляется необходимым осмысление опыта отечественных писателей предшествующих поколений, в особенности представителей почти не изученного в истории русского языка периода 10-х - начала 20-х годов нашего столетия. Для исследования индивидуально-авторского стиля важен не только принцип целостного анализа текста, позволяющий очертить особенности языковой личности автора. Нужно также отметить связь индивидуального творческого сознания писателя с языковой культурой его времени, ведь «язык литературно-художественного произведения является сферой скрещения, преобразования и структурного объединения композиционно-речевых форм, характеризующих общий контекст литературы в ту или иную эпоху» [Виноградов, 1980; 82].
С этой точки зрения изучение творчества А. Аверченко представляет несомненный научный интерес: с одной стороны, в произведениях писателя отражены и творчески развиты языковые традиции русской сатиры, с другой стороны, его рассказы и фельетоны представляют собой своеобразную реализацию индивидуальных воззрений и возможностей ведущего сатирика начала века. Более того, в его творчестве не могли не отразиться кризисные явления в речевой стихии начала XX столетия.
Итак, индивидуально-авторский стиль является отправной точкой для всякого исследования языка художественной литературы: «индивидуальный стиль писателя является важнейшим звеном литературного процесса» [Храпченко, 1977; 128].
Опираясь на определение В.В. Виноградова, индивидуальным стилем мы считаем «своеобразную, исторически обусловленную, сложную, но представляющую структурное единство систему средств и форм словесного выражения» [Виноградов, 1959; 169].
Характерной особенностью стиля признается его способность не только формироваться под воздействием материала действительности, но и активно организовывать этот материал.
Поскольку стилистическая манера писателя - явление сложное и многогранное, то для более полной ее характеристики необходимо не только проанализировать отдельные элементы повествования, но и показать их взаимосвязь и взаимообусловленность, потому что «художественная идея выражается всем произведением, всеми его элементами, всеми его особенностями» [Одинцов, 1973; 7]. Эта взаимосвязь и взаимообусловленность обеспечивается особой текстообразующей категорией «образа автора». Положение о центральной роли «образа автора» было выдвинуто В.В. Виноградовым и разработано в трудах Т.Г. Винокур, Н.А. Кожевниковой, В.В. Одинцова, Е.А. Гончаровой и других исследователей. Анализ текста, основанный на этой теории, представляется перспективным и отвечающим требованиям современной лингвистической науки. Он позволяет проникнуть в глубинную структуру текста, показать все языковые и стилистико-композиционные средства и приемы во взаимосвязи и тем самым наиболее полно и системно очертить особенности творческой манеры автора.
Изучение речевой организации художественного текста должно опираться: 1) на общие тенденции литературно-художественного процесса того времени, когда жил и работал автор; 2) на авторскую установку, выражающуюся в жанровой специфике и в индивидуально-авторском подходе к выбору языковых средств; 3) на комплексный лингвостилистический анализ текста как целостного речевого образования. Такой подход к изучению особенностей творчества А. Аверченко предопределил и основной метод анализа - интегральный, суть которого состоит в «системном подходе, в рассмотрении отдельных явлений языка лишь в их отношении друг к другу» [Ахманова, 1969; 233]. В работе был использован также традиционно-описательный метод, в основе которого лежит семантико-стилистический комментарий текста.
Цель данного исследования заключается в следующем: выявить художественные и конструктивные приемы организации текста, определяющие индивидуальную творческую манеру А. Аверченко:
1) установить, каковы способы выражения авторской позиции и оценки (на разных уровнях языка) в сатирических произведениях;
2) выяснить, какие приемы составляют специфику повествования в рассказах и фельетонах писателя;
3) показать значение взаимосвязи всех элементов текста для выполнения единого художественного задания.
Такой подход к изучению особенностей творческой манеры А. Аверченко предопределил структуру работы. Во Введении приводятся основные теоретические посылки, положенные в основу диссертации, даются исходные определения, выделяются направления, по которым будет вестись исследование: а) вводятся понятия языковой личности, индивидуальной картины мира; б) раскрываются специфические черты сатирического произведения как продукта творчества неординарной языковой личности; в) рассматриваются особенности категории «образа автора» в сатирическом тексте.
В Главе 1 ведется исследование языковой личности писателя на лексическом уровне, где основное внимание уделяется функциям оценочной и эмоционально-экспрессивной лексики, различных образных средств. Во Главе 2 рассматриваются синтаксические особенности сатирического текста, анализируются различные средства синтаксиса, участвующие в формировании «образа автора» и экспрессивизации повествования. Глава 3 работы представляет собой анализ композиционно-структурной организации текста как высшей ступени в художественном произведении. В Заключении подводятся итоги исследования.
В Приложении приводится список анализируемых рассказов А. Аверченко. В конце работы дается список использованной литературы.
Методологическую основу диссертации составили фундаментальные исследования в области языка В.В. Виноградова, Г.О. Винокура, Л.В. Щербы, A.M. Пешковского, В.В. Одинцова и др. Особую важность при разработке концепции диссертации приобрело изучение работ Ю.Н. Караулова, Т.Г. Винокур, Г.Я. Солганика, Г.А. Золотовой, Н.Ю. Шведовой, И.Я. Чернухиной и других известных лингвистов. Были использованы материалы различных исследований по вопросам сатиры и юмора, например книга М.М. Бахтина «Творчество Франсуа Рабле», монографии Ю. Борева «Комическое» и В.Я. Проппа «Проблемы комизма и смеха», брошюра В.Н. Вакурова «Речевые средства комического в современном фельетоне» и другие работы. Много ценных замечаний о природе комического эффекта, созданного речевыми средствами, о различных способах его образования содержится также в работе Б. Томашевского «Теория литературы. Поэтика».
Практическая ценность работы заключается в том, что 1) впервые стилистическому анализу подвергаются тексты рассказов Аркадия Аверченко, и результаты этого анализа могут дополнить список исследований по языку литературы и публицистики; 2) методы анализа могут быть применены при исследовании творчества других авторов; 3) материалы по экспрессивной лексике и синтаксису могут быть использованы на занятиях со студентами факультетов журналистики и слушателями подготовительных отделений вузов, а также учащимися старших гуманитарных классов школ, лицеев, колледжей.
Апробация. Основные направления исследования были изложены в статьях «Весело ли редактору сатирического журнала?» и «Лексические средства создания «образа автора» в сатирическом произведении», опубликованных в «Вестнике Московского университета» (сер. 10 «Журналистика») соответственно в № 6 за 1998 г. и в №6 за 1999 г. Диссертация была обсуждена на кафедре стилистики русского языка факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова.
Информативность и эффективность слов с коннотативными признаками
Сатирический образ всегда должен вызывать смех читателя, даже если впоследствии этот смех перейдет в негодование. Аркадий Аверченко увидел в общественной жизни ряд отвратительных черт, ставящих перед обществом серьезные проблемы. Многие не замечают этих черт или не обращают на них достаточного внимания. Аверченко же, говоря об этих проблемах, оценивает их как существенное препятствие для правильного течения жизни. Поэтому писатель организует свою речь таким образом, чтобы приобщить читателя к своему видению реалии, своей эмоциональной оценке ее, т.е. создать свой образ, в который как опорное звено или как составной элемент входит слово: «В целостной структуре художественного текста именно уровень лексики является тем основным горизонтом, на котором строится здание его семантики» [Лотман, 1970; 208]. Тезис о центральной позиции слова в языке, об обращенности слова ко всем языковым уровням, о его важнейшей роли в конструировании всех языковых единиц и в их функционировании развивал и В.В. Виноградов. Как уже говорилось выше, задача писателя заключается в том, чтобы изобразить картины жизни так, как они переживаются им самим. Поэтому общепринятые устойчивые значения слов не всегда удовлетворяют автора (уже давно было замечено, что для воздействия на людей, на их чувства, волю , на их разум необходимо идеи преобразовать во впечатления). Создаются новые оригинальные сочетания, которые выявляют новые эмоциональные и выразительные наслоения у слова. Эти наслоения, свежие и неповторимые, создаются писателем для данного случая в данном контексте: «В художественном языке всякое сочетание слов в тенденции превращается в тесное, фразеологическое единство, в нечто устойчивое, а не случайное» [Винокур, 1959; 251]. При этом все лексические средства, включенные в повествование, взаимосвязаны поставленной автором художественной задачей - высказать этими словами нечто большее, чем простая сумма понятий, заключенная в этих словах. Новое употребление слова оправдывается фразой, главой или же всем произведением, и вне данных контекстов значение их бессмысленно. На смысловую многообъемность и взаимосвязь слов и выражений в строе художественного произведения указывал еще В.В. Виноградов: «Смысл слова в художественном произведении никогда не ограничен его прямым номинативно-предметным значением. Буквальное значение слова здесь обрастает новыми, иными смыслами» [Виноградов, 1959; 230]. Но, как уже говорилось выше, автор сатирического произведения предпочитает не показываться «на сцене». Значит, необходимы особые средства, которые помогут ему подготовить почву для адекватного восприятия текста, сформировать правильное отношение к описываемому явлению, подсказать читателю нужную оценку. В сфере лексики эту функцию в первую очередь выполняют слова, в семантике которых явственно различаются и даже преобладают дополнительные значения. Различные «полутона», каковыми являются оценочность, эмоциональность и экспрессивность. представляют собой весьма существенные, а иногда и главные признаки многих слов. Подобные «созначения» принято обозначать термином «коннотация», то есть «дополнительное содержание слова (или выражения), его сопутствующие семантические или стилистические оттенки, которые могут накладываться на его основное значение, служат для выражения разного рода эмоционально-оценочных и экспрессивных обертонов» [Ахманова, 1969; 203-204]. И здесь следует отметить особо, что вопрос о закономерности выбора слов с ярко выраженными «дополнительными» значениями тесно связан с проблемой языковой личности: именно коннотация несет в себе тот семантический комплекс, который «выражает не нейтральное (в оценочном, эмоциональном и социальном восприятии) отношение пользующегося языком к обозначаемой действительности» [Метафора в языке и тексте, 1990; 29]. Коннотативные оттенки тесно связаны между собой и взаимообусловливают друг друга. Но они не тождественны. Понятие «эмоциональность» шире «оценочности», т.к. не все слова, выражающие эмоции, содержат оценку, но все оценочные слова эмоциональны: «Субъективная оценка выражается в слове через эмоцию говорящего лица, как бы «впитывая» эту эмоцию» [Лукьянова, 1983; 19]. Соотношение же между эмоциональностью и экспрессивностью было впервые сформулировано Е.М. Галкиной-Федорук: «Эмоциональные средства языка всегда экспрессивны, но экспрессивные средства языка могут и не быть эмоциональными» [Галкина-Федорук, 1958; 124]. Значит, понятие экспрессивности шире эмоциональности. Взаимозависимость коннотативных признаков может выглядеть так: ОЦЕНОЧНОСТЬ - ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ - ЭКСПРЕССИВНОСТЬ. Исходя из этой зависимости, можно сделать вывод: оценочные слова обычно эмоциональны и экспрессивны, а значит, в их значении концентрируются все три признака. Возможность выразить одним словом оценку, свои чувства по отношению к герою или событию и одновременно насытить повествование яркими, сочными красками прекрасно использует Аркадий Аверченко. Собственно под оценкой мы понимаем заключенную в слове положительную или отрицательную характеристику человека, предмета, явления. Наличие «плюса» или «минуса» в значении слова - важнейший показатель оценки.
По всякая оценка действительности есть чья-то оценка и, следовательно, субъективная: для того, чтобы оценить объект, «человек должен «пропустить» его через себя» [Арутюнова, 1988; 58]. Стоит также отметить, что гамма негативных оценок в языке значительно шире позитивной. (Интересно, что в современных толковых словарях пометы, свидетельствующие о наличии у слова отрицательной оценки, представлены довольно широко: «неодобр.», «презр.», «пренебр», «ирон.» и др. А оттенки положительной характеристики - одобрение, восхищение, ласка - не даются вообще. Исключение составляют только слова с суффиксами субъективной оценки.) Подобные слова автор часто употребляет в целях сатирического обличения.
Стилистически окрашенные средства создания комической экспрессии
Употребление просторечной и диалектной лексики и фразеологии в языке художественного произведения также мотивируется определенными стилистическими заданиями (подробно об употреблении просторечия см.: [Вомперский, 1954]). И здесь мы полностью согласны с Т.В. Бабушкиной, которая считает, что «для просторечия нормативной является обусловленность его употребления ситуацией» [Бабушкина, 1984; 61]. Просторечный стиль вообще отличается высокой степенью экспрессивности. Богатство и постоянное обновление просторечия новыми экспрессивными средствами отражает общее стремление говорящих к эмоционально-оценочному и образному способу выражения. В художественном тексте просторечие обладает особой выразительностью еще и в силу яркого контраста с окружающей его литературной речью. И только такие виды нелитературного просторечия, как неправильные слова и грамматические формы, характеризуют низкую речевую культуру его носителей. Для Аверченко сниженная лексика - это прежде всего средство создания собирательного образа русского крестьянина - темного, неграмотного, запуганного. Такие слова в произведениях Аверченко почти не употребляются как средство общения ни в литературном обиходе, ни в разговорной речи людей, достигших известного уровня культурного развития. Они встречаются только в репликах деревенских мужиков, причем часто параллельно с «исковерканными» словами и формами употребляется и экспрессивное просторечие: «Мужик Савельев стоял у межи своего поля и ругался: «Ишь ты\ Ишь ты, подлая! Так и прет\ У людей как у людей - или градом побьет, или скот вытопчет, а у нас - хучь ты ее сам лаптем приколачивай!.. Сколько лет по-хорошему было: и о прошлом годе — недород, и о позапрошлом -недород, а тут - пако-ся! Урожай. Пойтить в кусочки потом и больше никаких апачьцинов!» («Бедствие»); « - Цветочки собираешь, паршивец!, - прохрипел мудрейший. - Брешет он, ребята! Холеру пущает... - Правильно, Савельич!.. Хватай его, братцы... Заходи оттелеваЬ) («Русская история»). Особенно богат экспрессивными средствами фразеологический фонд языка. Фразеологизмы вообще привлекают писателей своей метафоричностью, образностью, выразительностью. Мог ли признанный мастер слова Аркадий Аверченко оставить богатства фразеологии без внимания? Конечно, нет. Фразеологические обороты писатель мог использовать без изменений, для поддержания общего фона повествования. Так, например, рассказывая о безрадостной жизни шахтеров на самом грязном и глухом руднике в свете, Аверченко употребляет и «безрадостные» фразеологизмы: «Занесенные сюда гигантской метлой Божьего произволения, все они махнули рукой на внешний мир и стали жить, как Бог на душу положит. Пили, играли в карты, ругались прежестокими отчаянными словами и во хмелю пели что-то настойчиво тягучее и танцевали угрюмо-сосредоточенно, ломая каблуками полы и извергая из ослабевших уст целые потоки хулы на человечество» («Автобиография»). Чаще писатель включает в устойчивые сочетания (в принципе сохраняя их структуру) другие слова, позволяющие наполнить оборот новым смысловым содержанием. Так, герой рассказа «В ресторане», «мрачный человек с черными обмокшими усами и стеклянным недоумевающим взглядом», «был дурак в прямом и ясном смысле слова». Споря с собеседником, он «упрямо стоит на своем». В.Н. Телия отмечает, что экспрессивность «имеет языковую природу, ибо действует через механизмы языка, но ее эффект проявляется только в речи, выходя за рамки слова и словосочетания в текст» [Телия, 1991; 11]. Поэтому нам особенно хотелось бы отметить случаи создания речевой экспрессии, которая возникает при намеренном нарушении, заведомом искажении норм языка, когда слова, не обладающие узуальной экспрессией, могут приобретать ее в определенном контексте. И здесь стоит еще раз подчеркнуть, что в результате использования писателем-сатириком специфических речевых приемов возникает особый эффект - комическая экспрессия, обязательно вызывающая улыбку или смех читателя. В основе ее лежит принцип контраста, отклонения от нормы; этот вид экспрессии возникает в результате «противоречия между принятой системой выражения и данной» [Земская, 1959; 218]. Итак, комическая экспрессия рождается благодаря особым речевым приемам, которыми владеет писатель-сатирик. Прежде всего, конечно, это игра слов, каламбур 55 излюбленное средство сатириков и юмористов. В каламбуре принцип контраста проявляется наиболее ярко. Этому приему создания комического эффекта посвящена обширная литература , поэтому механизм возникновения экспрессии можно считать изученным. Напомним только, что сила воздействия каламбура определяется в первую очередь его «экономностью»: при минимуме словесных данных акцентируется, заостряется какая-либо мысль или получают выражение сразу две мысли. В рассказах Аркадия Аверченко нам встретились примеры различных каламбуров". « - Можно пройти в уборную Эрастова? Л вы не сапожник! Лично я не могу об этом судить, - нерешительно ответил я. - Хотя некоторые критики находили недостатки в моих рассказах, но не до такой степени, чтобы...» («Подмостки») Это самый распространенный вид каламбура, основанный на многозначности. Аверченко сталкивает прямое значение слова «сапожник» - «мастер, занимающийся шитьем и починкой обуви» - и переносное - «тот, кто плохо, неумело работает» [Ожегов, 695]. Не менее остроумно обыгрывает он и два значения слова ответить: «отозваться» и «изложить учителю заданный урок» [Ожегов, 466]:
Прием открытых присоединительных конструкций
Наиболее отчетливо связь синтаксических средств языка с лексическим наполнением той или иной фразы проявляется в открытых присоединительных конструкциях. Под этим термином подразумевается прием, заключающийся в том, что слова, далекие по своей семантике, объединяются как однородные члены предложения. Открытые присоединительные конструкции В.Н. Вакуров рассматривает как «эффективный прием комизма» [Вакуров, 1969; 50-51]. Е.А. Земская предлагает отнести это средство создания комического эффекта к семангико-синтаксическим или логико-синтаксическим, поскольку возникновение комизма является в данном случае результатом несоответствия «между содержанием и синтаксической конструкцией, которой оно выражается: семантически далекие, не связанные явления даются как синтаксически однородные, с интонацией перечисления» [Земская, 1959; 269].
В рассказах Аверченко часто встречаем подобные перечисления. Намеренное сближение далеких по смыслу слов становится ярким средством создания комического эффекта. «От праздничных расходов, от покупок разных гусей, сапог, сардин, нового самовара, икры и браслетки для жены у чиновника Плешихина осталось немного денег» («Детвора»). В этом примере комическое звучание создается чередованием «съедобных» и «несъедобных» предметов. Автор, перечисляя незамысловатые покупки чиновника, подчеркивает их обывательский уровень. Часто для создания комического эффекта управляющим словом избирается слово многозначное, и употребляется оно сразу в двух значениях, которые проявляются с помощью разноплановых, далеких друг от друга по смыслу дополнений. Так, в рассказе «Патриот» главный герой расхваливает свою жену: «У меня жена говорит по-французски, по-немецки и по телефону)) («Патриот»). В этом сближении улавливается скрытая насмешка автора. В рассказе «День госпожи Спандиковой» открытые присоединительные конструкции позволяют автору выставить напоказ глупость, взбалмошность героини. День ее «начался обычно»: «С утра она покояогтша сына Кольку, выругала соседку по даче «хронической дурой», а потом долго причесывалась. Причесавшись, долго прикалывала к голове модную шляпу и долго ругала прислугу за какую-то зеленую коробку». Описывая столь разноплановые действия героини как одновременные и обычные, автор дает ей весьма наглядную характеристику: госпоже Спандиковой свойственно лишь прихорашиваться и ругать окружающих - не слишком выдающиеся способности. Поддерживает нужный настрой и следующее перечисление: «Колька, сахар, госпожа Спандикова и цветок поместились в вагоне, а Галочка куда-то делась». Сахар, который оказался важнее дочери... Прием открытых присоединительных конструкций позволяет автору раскрыть особенности детского восприятия действительности. Аверченко отмечает неожиданные ассоциации, внезапные сближения, сравнения, параллели, которые возникают (или могут возникнуть) в голове ребенка, подчеркивает оригинальность мышления своих маленьких героев. Одинаково ценными могут стать для маленького мальчика совершенно разные вещи, которые ему удалось добыть и припрятать в надежном месте, и любое покушение на них кажется ему подлостью и предательством. Вот как размышляет юный герой рассказа «Грабитель»: «По дороге до комнаты сестры, между двумя гигантскими прыжками на одной ноге, в голову мою забралась предательская мысль: что если он нарочно придумал этот спорт, чтобы отослать меня и, пользуясь случаем, обокрасть мой домик? Но я сейчас же отогнал эту мысль. Был я мал, доверчив и не думал, что люди так подлы. Они кажутся серьезными, добрыми, но чуть где запахнет камышовой тростью, нянькиным платком или сигарной коробкой - эти люди превращаются в бессовестных грабителей». Воспоминания рассказчика о бурной, но неприбыльной деятельности отца связаны с открытием ресторана «Венецианский карнавал». Неудачное месторасположение, долгий ремонт, существование многочисленных конкурентов заведомо обрекали новое предприятие на крах (мать была уверена в этом с самого начала), но отец упорно продолжал начатое. Так запечатлелись основные события в памяти маленького героя рассказа «Ресторан «Венецианский карнавал»: «Вот - замазка на башмаке отца, запах краски и растерянное лицо матери - это и было начало «Венецианского карнавала». Не менее впечатлил ребенка и печальный конец отцовской затеи: «Я бродил среди этого разгрома, закаляя свое нежное детское сердце, и мне было жалко всего - Иикодимова, скатертей, кастрюль, драпировок, Алексея и вывески, потускневшей и осунувшейся...» Нужно также отметить, что чаще всего ряды однородных членов составляются из понятий, которые уже упоминались в тексте. Этот прием позволяет привлечь дополнительное внимание читателей не только потому, что экспрессивна форма выражения - сближение несовместимых понятий; в подобных перечислениях имеет место и лексический повтор - действенный композиционно-стилевой прием, скрепляющий повествование.
Особенности повествования от 3-го лица
ЗФ не имеет ограничений на полноту изображения внешнего и внутреннего мира, поскольку «автор-творец волен описать выдуманные им события с любой степенью полноты и объективно» [Атарова, Лесскис, 1980; 33-34]. Повествователь внеположен миру текста - он не участвует в изображаемых событиях сам. Но даже находясь в ином пространстве по отношению к сюжету и персонажам, автор формирует и корректирует точку зрения читателя. Программа создателя сатирического произведения ясна - осмеять описываемое явление и выработать у читателя негативное отношение к нему. И достичь этой цели автору помогает специфическая семантика ЗФ: повествование от 3-го лица по своей природе объективно, поэтому любой вымысел и любая реальность представляются одинаково возможными, допустимыми.
Выдавая вымышленный мир за фрагмент реального, автор должен скрывать свое существование - «противное приведет к разрушению иллюзии реальности» [Падучева, 1996; 201]. Выбирая форму повествования ЗФ, Аверченко становится бесстрастным хроникером. Основная особенность этой манеры ведения дискурса в сатирическом произведении заключается в том, что автор, являясь полновластным хозяином текста и имея возможность максимально полно и объективно раскрыть характер своего героя, сосредоточивает внимание на какой-либо одной черте характера, гиперболизирует ее, а из фактов внешнего мира сообщает лишь те, которые имеют существенное значение для последующего разоблачения. Его лентяй, например, настолько ленив, что не хочет поднять выпавшую из рук книгу, привести в порядок костюм, даже покончить с собой ему лень.
Аверченко создает обобщенные комические типы. Перед читателем проходят персонажи, демонстрирующие какой-либо из общечеловеческих пороков: глупость, жадность, подлость, моральную нечистоплотность, ложь. Писатель высмеивает их в конкретном облике городового Сапогова, «благопристойного жителя» Патлецова, вольнонаемного шпика Терентия Макаронова. Это типы, характерные для российской действительности 1910-х годов: провокатор, обыватель, подлец, шпион. Надо сказать, что героями повествования ЗФ становятся чиновники и бюрократы, должностные лица всех рангов («Виктор Поликарпович», «Люди, близкие к населению», «Провокатор»), а также серые, невзрачные, посредственные личности («Сплетня», «Кривые углы», «Страшный человек», «Красивая женщина» и др.). От третьего лица написаны все политические фельетоны («Октябрист Чикалкин», «История болезни Иванова» и многие другие).
Анализируя тематику произведений ЗФ, можем предположить, что автор намеренно использует эту форму повествования, чтобы показать свою впепо.чоженностъ изображаемому миру. Он не хочет иметь ничего общего с теми явлениями и персонажами, которые он разоблачает. Подтверждением этого предположения может служить высказывание II.А. Кожевниковой: «В объективированную форму повествование облекается тогда, когда важен не столько рассказчик как личность, сколько точка зрения на событие, более или менее социально определенное» [Кожевникова, 1994; 28].
Несмотря на стремление автора быть «незаинтересованным», объективным рассказчиком, его позиция неизбежно проявляется в подборе им персонажей, в манере их представления, в их взаимодействии в тексте, в особенностях композиции произведения. Таким образом, кажущаяся нейтральность текста вовсе не означает отсутствия в нем категориального признака модальности. Более того, «сама объективность, бесстрастность повествования зачастую носит модальный характер и отражает определенное отношение автора к излагаемым фактам» [Морозова, 1982; 57].
Объективированное повествование встречаем и во многих рассказах о детях («День делового человека», «Галочка», «Славный ребенок»). Но здесь причина выбора ЗФ совсем другая: мир детей, по Аверченко, совершенно особый мир, и субъективный подход к его изображению заранее обречен на неудачу.
Как отмечает Е.А. Гончарова, тексты ЗФ тяготеют «к нейтральной повествовательной норме, включающей на равных правах книжные и разговорные элементы при условии их относительного равновесия», тогда как персонификация повествования (1Ф) предполагает «большую речевую характерологизацию плана повествователя, что влечет за собой усиление стилистической роли элементов разговорной речи [Гончарова, 1984; 31-32]. Повествование от 3-го лица в сатирическом произведении имеет еще одну существенную особенность. Именно в объективированном повествовании на первый план выдвигается задача создания поля напряжения (термин И.Я. Чернухиной [1977; 114]). Поле напряжения - особая организация текста, в результате которой читатель ставит перед собой вопросы и ищет на них ответы. Искусство создания поля напряжения - важная особенность творческой манеры автора. Для стиля Аверченко характерно интригующее начало, от первой фразы во многом зависит желание адресата продолжать чтение. Вот характерный пример: «Всякий, кому приходилось видеть визитера в начале его хлопотливой деятельности, знает какое это чистенькое, надушенное, сверкающее белизной белья и лаком ботинок существо!» («Визитер»). Вопросы читатель ставит сразу: кто такой визитер, чем он занимается и почему автор обращает такое внимание на его внешний вид? Как видим, в первых же строках произведения в фокус внимания читателя выдвигаются детали (это могут быть портретные или пейзажные зарисовки, описания интерьеров, окружающей обстановки). Подобные фрагменты, также реализующие функцию создания поля напряжения, носят, как правило, описательный характер (см. З.З.1.). Но практически любой описательный фрагмент «догружен» дополнительными смысловыми и стилистическими функциями.
Аверченко изображает своего героя в самом начале «чистеньким» и «надушенным» не случайно (вспомним, что мелиоративная лексика в повествование включается крайне редко и с определенной целью - в дальнейшем высмеять героя). Читатель, уже настроенный на разоблачение, ждет его с большим нетерпением, и вскоре получает ответы на все вопросы. Этот человек наносит многочисленные визиты в праздник Пасхи, когда двери домов гостеприимно открыты для всех желающих. Везде он целуется с хозяевами, нигде не отказывается от возможности выпить и закусить и постепенно достигает «переходного состояния», а затем «долго бродит по улицам, полный смутных, неопределенных мыслей». После всех визитов «фрак его будет обсыпан пудрой, вымазан горчицей, и на носке ботинка уютно прикорнет прилипшая голова кильки...» И оказывается это удивительное, «сверкающее белизной белья существо» всего-навсего обывателем, любящим в праздник полакомиться «на дармовщинку».
Как уже говорилось выше, в произведениях малых жанров нет времени и места для подробных описаний и детального раскрытия образов персонажей. Небольшие по объему произведения динамичны, действие в них развивается стремительно. Поэтому в сатирическом рассказе или фельетоне интригующее начало является порой единственно возможным способом создания поля напряжения. И именно поэтому уже в первой фразе читателю дается максимум информации к размышлению. Еще примеры (курсивом выделены фрагменты зачинов, которые, на наш взгляд, могут вызвать вопросы читателя):