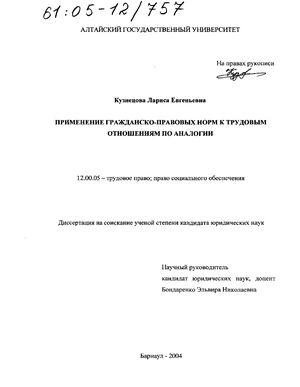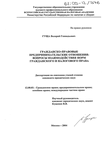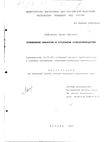Содержание к диссертации
Введение
Глава I Основания применения гражданско-правовых норм к трудовым отношениям по аналогии
1. Генезис трудового права. Историческая взаимосвязь гражданского и трудового права 8
2. Договорный характер отношений работника и работодателя 17
3. Соотношение трудового и гражданского правоотношений 43
Глава II Правила межотраслевой аналогии
1. Аналогия и субсидиарное применение норм права 68
2. Правила применения межотраслевой аналогии 97
Глава III Некоторые проблемы применения гражданско-правовых норм к трудовым отношениям по аналогии
1. Право- и дееспособность работника 119
2. Недействительность трудового договора и его условий 132
3. Материальная ответственность работодателя 149
Заключение 167
Список использованных источников и литературы 169
- Генезис трудового права. Историческая взаимосвязь гражданского и трудового права
- Договорный характер отношений работника и работодателя
- Аналогия и субсидиарное применение норм права
- Право- и дееспособность работника
Введение к работе
Актуальность темы исследования. Развитие России на современном этапе характеризуется значительными экономическими и политическими преобразованиями. Это обусловило существенные изменения законодательства, направленного на адекватное правовое регулирование происходящих реформ. В сфере трудового законодательства определенным итогом таких изменений явилось принятие Трудового кодекса Российской Федерации, по-новому регулирующего трудовые и непосредственно связанные с ними отношения. Это тем не менее не исключило наличия пробелов в трудовом праве, в том числе и вызванных интенсивным развитием общественных отношений. В связи с изложенным проблема преодоления пробелов по-прежнему актуальна. На фоне общей тенденции усиления межотраслевого взаимодействия трудового и гражданского права остается актуальным научное осмысление трудового права как самостоятельной отрасли и возможности применения гражданско-правовых норм к трудовым отношениям. Самостоятельность отрасли трудового права предполагает необходимость преодоления пробелов с помощью определенного механизма, которым является межотраслевая аналогия гражданского и трудового права. Поэтому важно определить правила применения такой аналогии, при соблюдении которых она будет допустима.
Между тем в науке трудового права проблема применения гражданско-правовых норм к трудовым отношениям как целостная не исследовалась. Отдельные вопросы данной темы освещались такими авторами, как А.В. Ашихмина, М.И. Бару, А.К. Безина, Л.Ю. Бугров, К.М. Варшавский, И.С. Войтинский, ВВ. Ершов, Е.А. Ершова, Л.Я. Гинцбург, Е.А. Голованова, СБ. Идрисова, П.Д. Каминская, А.М. Куренной, В.М. Лебедев, А.Ф. Нуртдинова, СП. Маврин, М.В. Молодцов, СВ. Поленина, Л.А. Сыроватская, Е.Б. Хохлов, Л.А. Чиканова и др. Указанные авторы внесли существенный вклад в исследование проблемы применения гражданско-правовых норм к трудовым
4 отношениям, однако на монографическом уровне она не разрабатывалась. В связи с изложенным попытка целенаправленного и комплексного исследования возможности и порядка применения гражданско-правовых норм к трудовым отношениям является актуальной.
Объект исследования - межотраслевое взаимодействие трудового и гражданского права в рамках системы права.
Предмет исследования - применение гражданско-правовых норм к трудовым отношениям, вариантом которого является межотраслевая аналогия.
Цель и задачи диссертационного исследования. Цель, намеченная в диссертации, - комплексное исследование возможности и механизма применения гражданско-правовых норм к трудовым отношениям в современных условиях. Достижение данной цели осуществлялось посредством постановки и решения следующих основных задач:
- изучение исторической взаимосвязи отраслей гражданского и трудового
права, их соотношения в науке и законодательстве;
- обоснование возможности и разработка оптимального механизма
применения гражданско-правовых норм к трудовым отношениям;
- определение правил и рассмотрение проблем применения гражданско-
правовых норм к трудовым отношениям по аналогии.
Методологическая основа исследования. Методология исследования определяется поставленными в диссертации целями и задачами. В работе использованы диалектический, системный методы исследования, а также сравнительно-правовой, формально-логический," формально-юридический, исторический методы.
Теоретическая основа исследования. Избранная тема исследования обусловливает использование в качестве теоретической основы трудов ученых в области трудового права, общей теории права, римского частного права, гражданского, гражданского процессуального и других отраслей права: М.Г. Авдюкова, С.С. Алексеева, М.И. Бару, А.К. Безиной, Э.Н. Бондаренко, А.Т. Боннера, М.И. Брагинского, С.Н. Братуся, Л.Ю. Бугрова, К.М. Варшавского,
5 В.В. Витрянского, И.С. Войтинского, В.В. Ершова, Е.А. Ершовой, Я.Я. Гинцбурга, Е.А. Головановой, СЮ. Головиной, К.Н. Гусова, СБ. Идрисовой, О.С. Иоффе, П.Д. Каминской, В.Н. Карташова, И.Я. Киселева, О.А. Красавчикова, A.M. Куренного, В.В. Лазарева, Р.З. Лившица, A.M. Лушникова, MB. Лушниковой, СП. Маврина, Н.И. Матузова, MB. Молодцова, П.Е. Недбайло, А.Ф. Нуртдиновой, Ю.П. Орловского, А.Е. Пашерстника, СВ. Полениной, А.И. Процевского, Л.А. Сыроватской, Л.С. Таля, Ю.М. Тихомирова, Е.Б. Хохлова, Л.А. Чикановой и др.
Информационная база исследования. Информационную базу диссертационного исследования составили:
нормативно-правовые акты России и РСФСР, акты дореволюционного законодательства, в частности, Свод гражданских законов и Устав о промышленном труде Свода законов Российской империи (1913 г.);
материалы судебной практики;
публикации в периодической печати;
справочные правовые системы.
Научная новизна исследования. Научная новизна диссертации определяется тем, что она представляет собой комплексное исследование оснований и механизма применения гражданско-правовых норм к трудовым отношениям по аналогии в современных условиях, которое на монографическом урвне в отечественной юридической науке не предпринималось. Выявляются не только формально-юридические, но и исторические, а также научно-теоретические основания такого применения, систематизируются правила, которые при этом необходимо соблюдать. Результатом анализа явились следующие положения, выносимые на защиту.
1. Обоснована возможность применения гражданско-правовых норм к
трудовым отношениям по аналогии.
2. Самостоятельность трудового права исключает непосредственное
применение гражданско-правовых норм к трудовым отношениям, что
подтверждается и отсутствием соответствующих норм в
ГК РФ и ТК РФ.
Механизмом преодоления пробелов в трудовом праве является межотраслевая аналогия закона, имеющая легальное основание (ч. Зет. 11 ГПК РФ).
Проведено разграничение правовых явлений, понимаемых под субсидиарным применением норм гражданского права к трудовым отношениям: аналогия, бланкетные нормы, общие понятия,
Вводится категория «правила применения межотраслевой аналогии», определяемая как совокупность требований, соблюдение которых обеспечивает законность аналогии и учет специфики трудового права как самостоятельной отрасли.
Применительно к межотраслевой аналогии гражданского и трудового права обобщены и уточнены требования, предлагаемые в юридической науке для аналогии внутри отрасли: непротиворечие применяемого по аналогии правила существу трудовых отношений; существенное сходство спорных отношений и отношений, урегулированных правом, и др.
Разработаны дополнительные правила применения межотраслевой аналогии: установление смежного характера взаимодействующих по аналогии отраслей с учетом деления права на публичное и частное; сходство в методах регулирования спорного и сходного общественных отношений.
Выявлены проблемы применения гражданско-правовых норм к трудовым отношениям по аналогии (право- и дееспособность работника, недействительность трудового договора и его условий, материальная ответственность работодателя) и предложено их решение.
9. Межотраслевая аналогия как средство преодоления пробелов в трудовом
праве применяется только мировым судьей и судом.
Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. Разработанное в диссертации обоснование соотношения гражданского и трудового права, вариантов и правил их взаимодействия в современных
7 условиях вносит определенный вклад в развитие науки трудового права и может получить дальнейшее развитие в научных исследованиях. Рассмотренные в диссертации пробелы в трудовом праве и предложения по их преодолению могут быть использованы в деятельности правотворческих и правоприменительных органов. Кроме того, возможно применение научных результатов исследования в учебном процессе при преподавании трудового права.
Апробация результатов исследования. Диссертационная работа подготовлена и обсуждена на кафедре трудового, экологического права и гражданского процесса юридического факультета Алтайского государственного университета. Основные положения работы освещены в докладах на научных и научно-практических конференциях, которые были опубликованы. Автор принимал участие в следующих конференциях: «Публично- и частноправовое регулирование в России: теоретические и практические проблемы», «Стабильность и динамизм общественных отношений в Российской Федерации: правовые аспекты» (Алтайский государственный университет, 2002, 2004 гг.), «Актуальные проблемы юридической науки и практики» (Пермский государственный университет, 2003 г.), «Правовые проблемы укрепления российской государственности» (Томский юридический институт ТГУ, 2003 г.), «Конституция Российской федерации 1993 г. и развитие отечественного государства и права», «Проблемы правового регулирования трудовых отношений» (Омский государственный университет, 2003, 2004 гг.), «Актуальные проблемы права России и стран СНГ
2004» (Южно-Уральский государственный университет, 2004 г.), «Государство и право в условиях глобализации: проблемы и перспективы» (Уральская государственная юридическая академия, 2004 г.).
Структура работы. Поставленные в работе цели и задачи обусловили ее структуру, а также логику изложения материала. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих восемь параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы.
Генезис трудового права. Историческая взаимосвязь гражданского и трудового права
Прежде чем обратиться к исследованию вопроса о вариантах взаимодействия гражданского и трудового права, представляется необходимым ответить на вопрос, почему именно гражданское право может выступать в качестве отрасли, нормы которой используются при регулировании трудовых отношений. Ответ на этот вопрос не может быть дан без исследования исторических истоков формирования трудового права как отрасли, анализа причин и объективной обусловленности его возникновения, что в конечном итоге связано с признанием его самостоятельности. Использование исторического метода исследования соотношения гражданского и трудового права позволит сделать вывод о том, действительно ли трудовое право является самостоятельной отраслью права, зависит ли это от воли законодателя, определяющего метод регулирования трудовых отношений, а также от экономических и политических особенностей государства.
Начало формирования в России трудового права исторически связывается с появлением крупной промышленности, чему в значительной степени способствовали реформы Петра I . Принятые им акты способствовали развитию промышленного производства, однако обеспечивали промышленные предприятия рабочими с помощью принудительных методов. Характеризуя законодательство феодальной эпохи, Л.С. Таль отмечал: «Промышленное право этой эпохи имело строго централизованный или публично-правовой характер; оно составляло лишь отрасль административного (полицейского) права»1.
Таким образом, в период до реформ 1861 г. в условиях феодального господствующего способа производства не только промышленность, практически неразвитая, но и сельское хозяйство основывались главным образом на принудительном труде крепостных крестьян, отсюда и публичноправовой характер регулирования. При этом доля работников, полностью свободных от крепостной зависимости, была невелика.
Правовое регулирование отношений фабриканта (работодателя) и наемного работника осуществлялось на основе гражданского законодательства (т. X Свода законов Российской империи - Свод законов гражданских); правовой формой таких отношений являлся договор личного найма. При этом договор личного найма находился в разделе IV Книги четвертой, посвященном личным договорам, к которым также был отнесен договор доверенности. Имущественные договоры - запродажа, найм имуществ, подряд, поставка, ссуда, поклажа, товарищество и страхование - находились в разделе III данной книги.
Наряду с указанными положениями Свода законов уже в дореформенную эпоху существовали и специальные акты, посвященные регулированию наемного труда: Положение от 24 мая 1835 г. об отношениях между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму и Положение от 7 августа 1845 г. о воспрещении фабрикантам назначать в ночные работы малолетних менее 12-летнего возраста. Первый акт разрешал имеющим паспорта лицам податного состояния (это были в основном оброчные крестьяне, отпущенные своими помещиками на заработки) наниматься на работу на фабрично-заводские заведения на срок не свыше срока действия паспорта ( 1), то есть на определённый срок. При этом работник не вправе был уволиться по собственному желанию, а также по требованию начальства, выдавшего паспорт, либо своего владельца. Хозяин же имел право уволить работника до истечения срока договора «по причине невыполнения им обязанностей или дурного поведения» ( З)1. Договор о найме мог заключаться в устной либо письменной форме. Предусматривалось также наличие правил внутреннего распорядка, однако указания относительно их содержания отсутствовали. Второй акт запрещал фабрикантам назначать в ночные смены (от 12 часов ночи до 6 часов утра) детей до 12 лет.
Примечательно, что в редакции Свода Законов 1842 г. упомянутое Положение от 24 мая 1835 г. было включено в XI том - Свод законов государственного благоустройства, который и ранее содержал нормы, регулирующие наемный труд. При этом указывалось, что найм вольных людей совершается на основании правил о личном найме «в Гражданских законах».
Анализ правового регулирование труда в России до реформ 1861 г. показывает, что регулирование труда носит, по сути, публично-правовой характер, то есть метод регулирования отношений, связанных с трудом, является преимущественно императивным. Метод правового регулирования -категория в значительной степени субъективная, конкретные приёмы и способы правового регулирования устанавливает законодатель, однако он не может не учитывать и объективную характеристику - предмет правового регулирования, общественные отношения, которые в правом регулировании нуждаются. Именно поэтому, даже в условиях общего подхода к регулированию труда с точки зрения императива, законодатель сохраняет и использует понятие «договор найма», то есть объективно необходимый диспозитивный момент в регулировании труда свободного человека. Можно сделать вывод о том, что уже на уровне зарождения трудового права как отрасли проявились особенности метода: сочетание императивного и диспозитивного регулирования, публичного и частного. Причём публичный момент имеет две составляющие:
1. Полицейский аспект. Особенно ярко проявился на дореформенной стадии развития трудового права. Исходит из общего подхода ограниченного правового статуса податных сословий.
2. Социальный аспект. Представлен пока очень узко и ограничивается защитой малолетних от применения ночного труда. Однако появление его является свидетельством признания необходимости учёта того, что работник нуждается в защите как человек, «биологический» источник труда. Кроме того, это является свидетельством признания работника более слабой стороной по отношению к работодателю. Целью работодателя является получение прибыли, и он не намерен нести добровольные затраты на защиту работника, это ему невыгодно, поэтому государство принуждает его к этому применением императивных методов, что обусловливает публичную составляющую регулирования.
Отмена крепостного права и другие реформы начала 1860-х годов создали условия для развития России по капиталистическому пути, обусловили развитие крупного машинного производства, основанного на использовании наёмной рабочей силы. Значительное увеличение числа потенциальных наемных работников обусловило необходимость реформирования законодательства о труде. Несмотря на то, что была разработана концепция реформы законодательства о наемном труде, включающая создание единого нормативного акта, регулирующего договор найма и специальных актов, учитывающих труд по найму отдельных категорий работников, разработанные проекты отвергались. Так, в 1875 г. Государственный совет отверг проекты актов о наемном труде комиссии П.А. Валуева по причине несвоевременности, что обосновывалось, в частности, «отсутствием в законе твердого обеспечения нанимателя в исполнении договора со стороны нанявшихся лиц»1.
Договорный характер отношений работника и работодателя
Как было отмечено ранее, изначально договор найма труда по российскому законодательству был отнесён к группе гражданско-правовых личных обязательств наряду с доверенностью, в то время как договоры подряда и поставки были объединены в группу договоров на имущество. Так, согласно ст. 2201 т. X Свода законов гражданских личный найм может быть 1) для домашних слуг, 2) для отправления земледельческих, ремесленных, фабричных и заводских работ, торговых и прочих промыслов, 3) вообще для отправления всякого рода работ и должностей, не воспрещенных законами.
Следовательно, гражданско-правовая регламентация найма труда в России была специфична в сравнении со структурой римского частного права, для которого было характерно объединение договоров найма услуг и найма вещей в одном договорном типе - договоре найма. Несмотря на значительную рецепцию римского права, русское гражданское право закрепило специфический, личностный характер договора о труде. В связи с тем, что в науке встречается мнение о необходимости конструирования трудового договора согласно теории услуг1 в римском праве, для оценки подобной позиции, представляется необходимым обратиться к категориям римского права.
В Древнем Риме, как известно, основой экономики являлось преимущественно использование рабского труда. При этом раб выступал в гражданском обороте как объект права (права собственности), в связи с чем мог являться предметом гражданско-правовых сделок. Одним из правил римского права было: servile caput nullum jus habet - рабы не имеют никаких прав1. Постепенно в Древнем Риме формируется взгляд на раба как на вещь определенного рода, обладающую, в частности, такими качествами, как сознание и способность к труду. В связи с этим, по представлению римских юристов, стало возможным выделить способность к труду как самостоятельный объект права, который также может быть предметом имущественных следок отдельно от вещи, которой он присущ, - раба. Как писал Л.С. Таль, «Представление о труде, как особой ценности и самостоятельном объекте оборота пустило столь глубокие корни, с ним так свыклись, что труд раба даже мог быть предметом договора, заключенного с ним самим, как органом своего господина или в пределах предоставленной ему имущественной самостоятельности (peculium)» .
Таким образом, отделение труда как объекта права от лица, чьим свойством он выступает, явилось следствием признания последнего также объектом, а не субъектом права. Представляется, что именно по данной причине наемный труд свободного лица считался принижением статуса свободного человека, который, отдавая свой труд, ставил себя в зависимое положение от господина и добровольно исполнял функцию раба. Иное положение в римском обществе занимали лица, бескорыстно и добровольно отдававшие свои духовные силы государству и согражданам3. Такие лица осуществляли деятельность, не связанную с выполнением чужой воли (artes liberate), которая, однако, также оплачивалась {honorarium), причем признавалось платой за добро.
Интересно, что римские юристы, с одной стороны, уравняли способность к труду и человека как объекты права, а с другой - пришли к признанию труда духовным самовыражением человека, его творческого характера. Признание некоторых видов труда творческими укоренилось и в русской правовой доктрине. Так, Д.И. Мейер в начале XX в. писал, что виды личного найма, в которых предметом его являются умственные услуги, общественное сознание не признает за наем, и вознаграждение за эти услуги оно не считает платой, а благодарностью, гонораром1.
Помимо указанных положений, римское право заложило основу разделения договорного типа найма - locatio conductio. Договор locatio conductio operarum применялся для обозначения правоотношения по личной передаче способности к труду в хозяйство нанимателя, которая оплачивалась сдельно или повременно. Договор locatio conductio operis - договор подряда, по которому подрядчик обязуется выполнить определенную работу (opus) в целом (universitas consummationis) в своей хозяйственной сфере с оплатой за результат. По словам Лабеона, «подряд означает такую работу, которую греки обозначают «законченный труд», в противоположность «работе»2, то есть, предметом договора подряда является конкретный результат труда.
Примечательно, трактовка что договора locatio conductio operarum связана с термином орегае, который в российских источниках традиционно переводится как «услуга», в связи с чем соответствующий договор назван «найм услуг»3. При этом у иностранных авторов встречается перевод орегае как «рабочая сила»4, что, подчеркивает понимание римскими юристами договора найма труда как регулирующего процесс трудовой деятельности.
Общие принципы договора найма услуг состояли в следующем: 1) наймодатель обязан был платить нанявшемуся условленное жалованье даже и тогда, когда услуги сделались невозможными по собственной вине наймодателя; если же вина была на нанявшемся, ему отказывали в вознаграждении; 2) нездоровье нанявшегося или увечье не могли служить основанием для требований о вознаграждении; 3) если нанявшийся не получил вознаграждения по причине смерти наймодателя, он вправе получить его от наследников1.
Таким образом, начало разграничению договоров подряда и найма услуг также было положено в Древнем Риме. Более того, признаки договора найма услуг, его личный характер делают его прообразом, скорее, не современного договора возмездного оказания услуг, а трудового договора.
В связи с изложенным представляется спорным утверждение о том, что восприятие римского понимания договора найма услуг (труда) в современной юриспруденции свидетельствует о признании трудового договора обычной гражданско-правовой сделкой. В силу рабовладельческого характера государства юридическая мысль Древнего Рима не пошла дальше признания способности к труду объектом имущественных сделок, объединив найм труда и найм вещей в договорный тип locatio conductio. Л.С. Таль писал по этому поводу: «Общество, привыкшее к зрелищу безжалостной эксплуатации рабов и вольноотпущенников, считавшее исполнение свободнорожденным гражданином за плату низших обязанностей в чужом хозяйстве явлением нежелательным и не заслуживающим поощрения, такое общество не могло проявить особенной чуткости к участи лиц, добровольно променявших свое независимое положение на положение слуг или рабочих.
Аналогия и субсидиарное применение норм права
Взаимодействие гражданского и трудового права возможно и обусловлено объективно, В то же время трудовое право, не являясь исключительно продуктом социалистической правовой системы, сохранило свою специфику и в условиях рыночных отношений. Следовательно, взаимодействие гражданского и трудового права не может быть произвольным и должно отражать самобытность последнего. Исходя из изложенного представляется необходимым выбор аналогии как адекватного варианта и правил такого взаимодействия, что обусловливает необходимость анализа соответствующих теоретических положений.
Можно назвать, по крайней мере, два варианта взаимодействия отраслей права при применении норм одной отрасли к отношениям другой: непосредственное и опосредованное. При непосредственном взаимодействии нормы одной отрасли права применяются к отношениям в силу прямого указания закона. Такая ситуация имеет место, как было отмечено, при взаимодействии гражданского и семейного права: согласно ст. 4 СК РФ к имущественным и личным неимущественным отношениям между членами семьи, не урегулированным семейным законодательством, применяется гражданское законодательство постольку, поскольку это не противоречит существу семейных отношений. В указанной ситуации проблематично говорить о пробелах в семейном законодательстве в случае, если соответствующие отношения урегулированы законодательством гражданским. В строгом смысле здесь отсутствует самостоятельная отрасль права, существует подотрасль в составе отрасли. Следует согласиться с В.В. Глазыриным, что распространение норм гражданского законодательства на трудовые отношения означает выход за пределы круга отношений, предусмотренных ст. 2 ГК РФ1.
Опосредованное же применение норм одной отрасли права к отношениям другой имеет место тогда, когда нормы эти применяются при пробелах в «отрасли-реципиенте», но распространяются они на эти отношения исключительно в силу решения правоприменительного органа для данного случая, а не непосредственно.
Действующие ТК РФ и ГК РФ не дают оснований непосредственно применять нормы последнего к трудовым отношениям, следовательно, взаимодействие гражданского и трудового права может и должно быть только опосредованным.
В науке трудового права существует мнение, принципиально отрицающее необходимость применения гражданско-правовых норм к трудовым отношениям. Так, по мнению Л.Я. Гинцбурга, трудовое право обладает собственным научным и техническим инструментарием, достаточным для решения всех практических вопросов отрасли, поэтому необходимости в содействии гражданского права не возникает2. Данная точка зрения применительно к конкретной отрасли напоминает позицию сторонников теории логической замкнутости права. Представляется однако, что нормы права не могут содержать больше, чем изначально в них заложено, в связи с чем бесконечное преодоление пробелов, особенно последующих, невозможно. В.И. Смолярчук пишет, что в трудовых отношениях неприменимы такие категории, как аналогия права и аналогия закона3. Автор не раскрывал аргументации своего утверждения, но его категоричный характер позволяет предположить, что речь идет о любой аналогии, в том числе межотраслевой. Думается, подобная позиция недостаточно обоснована отчасти по изложенным причинам (пробелы), отчасти исходя из формального разрешения применения аналогии в ст. 10 ГПК РСФСР 1964 г.1
В связи с самостоятельностью трудового и гражданского права возникает вопрос о причинах поиска варианта опосредованного взаимодействия этих отраслей. Потребность в регулировании гражданско-правовыми нормами возникает лишь тогда, когда соответствующие отношения трудовым правом не урегулированы, то есть при наличии пробела.
Под пробелом в праве понимается полное или частичное отсутствие нормативных установлений, необходимость которых обусловлена развитием общественных отношений и потребностями практического разрешения дел, основными принципами, политикой, смыслом и содержанием действующего законодательства2. В.В. Лазарев выделяет две основные разновидности пробелов: полное отсутствие нормативных актов, регулирующих определенную группу общественных отношений, а также неполноту действующих нормативных актов, когда соответствующие отношения в целом урегулированы, но отсутствуют отдельные нормы, и смыслом акта конкретный практический случай не охватывается3. Б.В. Дресвянкин, посвятивший исследованию пробелов в трудовом праве отдельное исследование, определяет пробел как отсутствие регулирования нормами российского трудового права общественных отношений, составляющих предмет трудового права России4. О пробелах в трудовом праве можно говорить скорее в случае неполноты действующих актов и прежде всего ТК РФ. Несмотря на то, что ТК РФ принят совсем недавно, пробелы неизбежны, ведь они обусловлены не только первоначальными недостатками законодательства. Развитие общественных отношений, особенно в периоды их реформирования, отличается свойством высокой динамичности, которому правовая система не всегда адекватна.
Как в работе в целом, так и при определении пробела мы исходим из понимания права как совокупности формально-определённых общеобязательных норм, принимаемых высшими органами государства, то есть право позитивное. Избрание вышеуказанного подхода к праву предопределяет отрицание теорий беспробельности права, которые выражаются в признании логической замкнутости права, из которого можно вывести любое новое положение, либо связаны с существованием «надзаконной» совокупности норм. Указанный подход, как следствие, приводит к необходимости восполнения и преодоления неизбежно возникающих в праве пробелов. При этом собственно восполнение пробела, то есть ликвидация пробела как такового, может быть осуществлено только законодателем путём принятия недостающих правовых норм. Это объясняется тем, что в силу принципа разделения властей «творят закон» специализированные правотворческие органы. Восполнение пробелов законодателем путём внесения изменений и дополнений в нормативно-правовые акты - процесс сложный и длительный. В то же время решение практических вопросов, в частности, при обращении граждан и юридических лиц с иском в суд, требует оперативности в защите прав и законных интересов участников общественных отношений. Именно поэтому на правоприменителя возложена миссия по преодолению пробелов в праве, в том числе посредством аналогии. Преодоление же пробела - деятельность правоприменителя, в основном суда, по решению возникшего правового вопроса без создания новой нормы права.
С.С. Алексеев придерживается иной точки зрения и считает, что восполнение пробела возможно не путем правотворчества, а путем использования особых институтов в применении права. Правоприменительный орган, осуществляя индивидуально-правовое регулирование, восполняет пробел для данного случая . В более поздней работе «Право на пороге нового тысячелетия» автор последовательно настаивает на своей позиции о восполнении судами пробелов в праве. Такое восполнение названо «особой нормативной реальностью», которая на стадии многократного повторения в судебной практике становится настоящей юридической нормой2. Следует отметить, что подобные положения напоминают идеи представителей школы свободного права конца XIX - начала XX в., которые, признавая жизнь живым источником права, выступали за широкую свободу судейского творчества.
Право- и дееспособность работника
Взаимодействие трудового и гражданского права возможно не только в случае преодоления пробелов в трудовом праве. Оно возможно и в случае прямого указания в ТК РФ на обращение к гражданско-правовым нормам, а также при использовании в актах трудового права гражданско-правовых категорий.
Указание закона на применение гражданско-правовых норм, о чем было сказано в предыдущей главе настоящей работы, может быть общим, как это имело место в Основах гражданского законодательства Союза ССР и республик, и конкретным, когда обращение к ГК РФ осуществляется в отдельных предусмотренных случаях. Следовательно, можно говорить об общей и конкретной отсылке закона к нормам другой отрасли.
ТК РФ не позволяет непосредственно применять гражданско-правовые нормы к трудовым отношениям (не допускает общую отсылку). Вместе с тем взаимодействие трудового и гражданского права при преодолении пробелов, использовании единых понятий и бланкетных норм возможно.
Одним из институтов, традиционно существующих в ГК РФ и, к сожалению, отсутствующих в ТК РФ, является совокупность норм о право- и дееспособности.
Несмотря на то, что ТК РФ был принят сравнительно недавно и содержит значительное количество новелл, применительно к правоспособности актуальным остается замечание Б.К. Бегичева о том, что «полное умолчание о категории правоспособности граждан не является достоинством действующего трудового законодательства» .
Вместе с тем, правоспособность исследовалась как в науке теории права, так и в гражданском и трудовом праве.
Подходы к пониманию правоспособности неоднозначны. Одни авторы делают акцент на первую часть этого понятия и определяют правоспособность как особое субъективное право - «право на право»2. Другие авторы, делая акцент на второй части понятия, определяют правоспособность как способность быть субъектом права. Так, в учебнике гражданского права под редакцией О.А. Красавчикова правоспособность понимается как способность иметь права и обязанности, которая в свою очередь рассматривается как юридическая возможность гражданина быть участником правоотношений3. В другой своей работе О.А. Красавчиков так и писал: «Главное в понятии правоспособности следует усматривать не в «праве», а в «способности»4.
Как равная для всех способность к правообладанию правоспособность определяется Л.Я. Гинцбургом5. Следовательно, правоспособность, по мнению данного автора, является прежде всего способностью и характеризуется равенством. Н.И. Матузов также признает правоспособность способностью лица быть носителем предусмотренных законом прав и обязанностей, которая стабильна и одинакова для всех1. Аналогичная точка зрения отражена в работах О.С. Иоффе, С.Н. Братуся2.
Иной точки зрения придерживался В.Н. Скобелкин. По его мнению, правоспособность не есть нечто раз и навсегда данное и неизменное. Ее характеризует внутреннее движение, в том числе в течение жизни каждого конкретного человека... Объем правоспособности находится в прямой зависимости от объема прав и обязанностей3. При этом автор, однако, не отождествляет правоспособность с совокупностью субъективных прав. В более поздней своей работе В.Н. Скобелкин выделяет несколько видов правоспособности в зависимости от степени ее абстрактности: правоспособность как общее понятие, правоспособность любого субъекта, правоспособность определенного субъекта в определенный момент его жизни и деятельности4. Можно заметить, что в данном случае речь идет не о делении правоспособности в зависимости от построения правовой системы на обитую и отраслевую, а деление ее на виды в зависимости от субъекта, которого она характеризует. Объясняется это тем, что автор признает зависимость объема правоспособности от объема принадлежащих лицу субъективных прав: «объем конкретной правоспособности находится в прямой зависимости от объема прав и обязанностей, которые может иметь субъект...»
С приведенной точкой зрения трудно согласиться. Правоспособность и в науке, и в законодательстве характеризуется как способность лица обладать правами и обязанностями. Это общественно-юридическое свойство индивида, отражающее признаваемую государством возможность быть субъектом права, участвовать в самых различных правоотношениях. «А то, что фактическая возможность обладания теми или иными правами в силу разных причин наступает в разное время, не делает правоспособность различной» . Этот тезис верен в равной степени и для гражданской, и для трудовой правоспособности. Благодаря правоспособности субъект может приобретать права и обязанности. Государство признает это и, более того, оставляет перечень возможностей открытым, как это имеет место в современном ГК РФ. Правоспособность понимается как предпосылка правообладания. Для приобретения, изменения и прекращения конкретных прав и обязанностей необходимо наличие одного или нескольких юридических фактов. С точки зрения философии зависимость правоспособности и субъективных прав можно отразить как связь возможного и действительного. При этом возможное реализуется в действительности далеко не всегда, отчего не перестает быть возможным. Так, в содержание гражданской правоспособности входит возможность создания юридических лиц, однако далеко не все субъекты эту возможность реализуют. И трудовая правоспособность включает, в частности, возможность получения дополнительного отпуска, однако трудовая функция работника может его и не предполагать. При этом если на уровне организации такой отпуск будет установлен, абстрактная возможность дополнительного оплачиваемого отпуска реализуется в конкретное правопритязание.
Изложенная концепция В.Н. Скобелкина является отражением теории динамической правоспособности, выдвинутой М.М. Агарковым, в противоположность которой существует теория статической правоспособности С.Н. Братуся. По мнению М.М. Агаркова, правоспособность должна быть понята динамически; гражданская правоспособность для каждого данного лица в каждый определенный момент означает возможность иметь определенные конкретные права и обязанности в зависимости от его взаимоотношений с другими лицами1. С.Н. Братусь подверг данную позицию критике, полагая, что правоспособность как самостоятельная категория имеет значение и ценность лишь в качестве выражения абстрактной, то есть общей возможности быть носителем прав и обязанностей2.