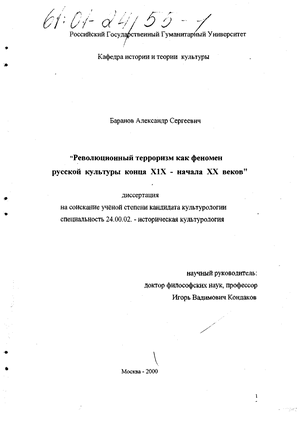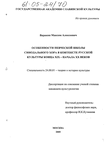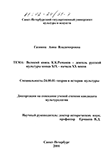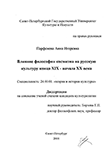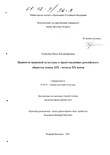Содержание к диссертации
Введение
Глава Первая. Терроризм : социокультурные границы явления. 23
1. Специфика террористического действия. 23
2. Террор и культура: взаимоотторжение, преобразование, стимуляция, 40
3. « Устрашение » и « Самоистязание » в европейской политической культуре Нового Времени. 49
Глава Вторая. Русская культура последней трети ХГХ века : от противостояния терроризму к началу « террористического диалога ». 61
1. Культура, противостоящая терроризму, 1860-е гг. 61
2. Осознание неоднозначности проблемы, 1870-е гг. 74
3. Начало диалога, начало 1880-х гг. 88
Глава Третья. «Террористический диалог» начала XX века : кульминация, спад, итоги. 104
1. Формирование и универсализация террористического пантеона в рамках русской культуры, 1901 -1905 гг. 104
2. Прекращение диалога, 1906-1911 гг. 122
3. Судьба революционно-террористической героики в 10-е - 20-е гг. XX века. 135
Глава Четвертая. Основные этапы и направления развития террористических кампаний в XVIII - XX вв. 148
Заключение. 156
Приложения. Неизвестные рассказы Бориса Савинкова. 159
Список использованных источников литературы. 173
- Специфика террористического действия.
- Культура, противостоящая терроризму, 1860-е гг.
- Формирование и универсализация террористического пантеона в рамках русской культуры, 1901 -1905 гг.
Введение к работе
Историческое сознание любого общественного организма периодически • актуализирует определённые темы, сюжеты и образы своего прошлого, в те моменты, когда современная жизнь, сталкивает его со сходными или глубоко родственными явлениями. Характер "болевых точек" исторического сознания общества, т.е. тех хронически актуальні» "не остывающих" исторических проблем, которые перманентно присутствуют в поле его зрения, даёт яркое представление о психическом состоянии рассматриваемого общества. Эти проблемы, перерастая рамки профессиональной науки, не умещаясь в них, превращаются в настоящие комплексы или фобии. Они не только иллюстрируют развитие представлений об определенной собственно исторической проблеме в общественном сознании, но и предопределяют рефлексию общества на те или иные схожие ситуации его современной жизни.
Проблема сущности и значения революционного терроризма, его роли в тех сложнейших и неоднозначных процессах, которые развивались в политической, • социокультурной сферах жизни российской империи последних десятилетий её существования, а таю-же его влияния на весь последующий ход российской истории, относится к числу "хронически" актуальных проблем отечественного исторического сознания.
Всё уходящее столетие прошло для России под знаком террора XX век начинался для нашей страны с беспрецедентной по своим масштабам революционно-террористической кампании (1901-1911 гг.), сыгравшей огромную роль в ходе Первой русской революции. Террор "красный" и террор "белый" сопровождали боевые действия гражданской войны (1918 - 1921 гг.). В 20-х -начале 50-х годов террор являлся едва ли не главной чертой, характеризующей порядок организации власти в Советском Союзе. И, наконец, в 90-е годы - новая широкомасштабная террористическая кампания, тесно связанная с развитием кризиса на Северном Кавказе. Террор, жертвой которого перманентно являлось и является русское общество, развивался на фоне менявшихся политических декораций, цветов знамён и тех нравственных приоритетов, которыми террористические организации обосновывали его необходимость. Россией накоплена богатейшая традиция террористической рефлексии, важнейшую роль, в формировании которой сыграл характер первого знакомства русского общества с терроризмом в его "революционном" обличий.
Указанная "хроническая актуальность" явления фатальным образом отразилась на историографической судьбе русского революционного терроризма. На протяжении целого столетия до сегодняшнего дня включительно изучение этого явления всегда было тесным образом связано с "живой" политикой. С восьмидесятых годов XIX века, когда террорист и писатель СМ. Степняк -Кравчинский опубликовал свою знаменитую книгу "Подпольная Россия" заложившую основу революционной агиографии "героев революционного подвига", а представители проправительственного лагеря приступили к написанию собственных альтернативных "историй" революционно - террористического движения (не менее далёких от стремления к научной беспристрастности, но диаметрально противоположных в своих оценках деятельности участников террористической компании) - данная историческая проблема являлась ареной политической борьбы между представителями различных идеологических направлений, "охранительного" и "революционного".
Основная полемика между этими традициями развивалась по следующим направлениям: определение стороны несущей ответственность за начало революционно-террористической кампании (правительство - радикалы), выяснение степени соответствия террористических методов борьбы фундаментальным положениям основных революционных идеологий, а так же степени связи деятельности революционно - террористических организаций и "интересов І народа". Кроме того, каждое из указанных направлений рассматривало историю терроризма фактически только в политической плоскости, как историю смертельной схватки правящей элиты российской империи и революционно-террористических организаций. Каждый новый поворот в истории России приводил к определённому смещению акцентов в осмыслении тех трагически событий, сохраняя неизменным общую направленность исследований.
В 20-е годы "революционное" направление после марксистской идеологической модернизаций, выразившейся, прежде всего в "деэсеризации" революционного терроризма, стало официальным в СССР, вытеснив на "другие берега" или подавив цензурным прессом не только представителей "охранительного" направления, но и фактически породившую само "революционное" направление народническую среду. В тридцатые - сороковые годы личное отрицательное отношение И.В. Сталина к революционному терроризму в целом и, к культу вне большевистских "героев революционного подвига" в частности, фактически сделало исследование группы проблем связанных с историей революционного терроризма невозможным. В последующие десятилетия "революционное" направление постепенно восстанавливает утраченные позиции как официальная точка зрения советской исторической науки. С той лишь немаловажной особенностью, что в целом благожелательная и даже порой патетически приподнятая высокая оценка деятельности революционно-террористических организаций адресовалась, по понятным причинам официальной советской историографией лишь к представителям первой волны революционного терроризма (конец 70-х - начало 80-х гг. XIX в.)(1).
Великая информационная революция конца 80-х годов сделала возможным недогматическое, свободное творческое изучение истории революционного терроризма, привела к открытию огромного массива архивных документов, вызвала настоящий бум публикаций (и даже издание настоящих антологий документов по истории русского радикализма) (2), а так же породила возможность для самых разнообразных сопоставлений, концептуальных новшеств и поиска места русского терроризма в истории этого явления во всемирном масштабе. К настоящему времени по различным аспектам истории русского революционного терроризма накоплена богатейшая исследовательская литература. Истории отдельных организаций, партий, их идеологической и программной эволюции, деятельности наиболее вьщающихся персонажей, как первой, так и второй террористических кампаний посвящены яркие исследования: О.В. Будницкого, С.С. Волка, Р.А. Городницкого, Г. К, Гусева, ГС. Кана, В.М. Лаврова, M.R Леонова, Д. Павлова, Е.Л. Рудницкой, Н.А. Троицкого, Б.М. Шахматова. И всё же, несмотря на значительные успехи в реконструкции хронологии и локализации фактографических "белых пятен" истории деятельности ряда революционно-террористических организаций (в первую очередь это касается эпохи "Земли и воли" и "Народной воли"), в анализе их идеологической эволюции (становление революционного народничества и его полемики с марксизмом), а так--же в биографических исследованиях (от С. Нечаева и П. Ткачёва до Е. Созонова, И. Каляева, М Спиридоновой и особенно ныне популярного Е. Азефа), на сегодняшний день можно говорить о затяжном концептуальном кризисе, переживаемом исторической наукой в отношении группы проблем связанных с историей революционного терроризма.
Этот кризис, выражается, прежде всего, в бесконечном продолжении бесперспективного спора о том, "кто первый начал"; в традиционно высокой связи исследовательской литературы с "живой" политикой (будь то требования официальной советской идеологии или личные политические симпатии исследователей - переход от первого ко второму, не так уж сильно приближает к "объективности" как это казалось в конце 80-х годов уходящего века); в столь же традиционной перегруженности исследований морально-этическими оценками; в исключительной узости исследовательского горизонта (история терроризма рассматривается традиционной исторической наукой только как история террористов), наконец, зачастую в отсутствии заметного стремления исследователей к концептуальному творчеству .
Осознание концептуальной бесперспективности продолжения этого старого спора диктует необходимость поиска иного ракурса и иной методологии при рассмотрении проблем связанных с сущностью и значением русского революционного терроризма (3).
Среди произведений современных историков, которые действенно способствуют преодолению указанных "тормозящих" явлений f следует назвать книгу профессора Бостонского университета (С.ІИ.А.) Анны Гейфман "Thou Shalt Kill (Revolutionary terrorism in Russia 1894 -1917) (4).
А.Гейфман является автором фактически первого фундаментального исследования по истории русского революционного терроризма, в котором указанное явление, перерастая "организационную нарезку", рассматривается как тяжелейшее социальное заболевание, захватившее самые различные обшественные слои империи - от столиц до далёких национальных окраин, от ультра-радикалов до относительно умеренных либеральных кругов, которое н» по своему размаху, ни по характеру не вмещалось ни в какие идеологические и программные рамки. В качестве центрального персонажа террористической кампании начала XX века в книге А.Гейфман рассматривается "террорист нового типа", тип 5 преобладавший практически во всех революционно-террористических организациях того времени, отличавшийся от террориста "народовольческой эпохи" смутностью политических взглядов, постоянной готовностью к насилию ( не скованному никакими моральными преградами, реальной близостью к типу обычного уголовника. Книга А.Гейфман - первая попытка создания социальной истории революционного терроризма. Вместе с тем, необходимо отметить, что книга, несомненно, выиграла бы, если бы её реально воплощаемое новаторство не сдерживалась бы той по истине "антикварной" целью, которую по непонятной причине ставит себе автор: "демифологизировать и деромантизировать русское революционное движение, самое революцию и её участников, которых столь облагородили и возвысили далеко не беспристрастные мемуаристы" (5). Указанная исходная установка, постоянно возвращает автора в русло старой полемики о "плохих" и "хороших".
В связи с этим возникает вопрос: не является ли ценным и достойным не опровержения, а тщательного изучения тот факт, что хотя русское общество начала XX века прекрасно видело и очень хорошо знало тех "террористов нового типа", о которых пишет А.Гейфман, а также хорошо отдавало себе отчёт в том, что "герои революционного подвига", подобные М. Спиридоновой или И. Каляеву, составляют ничтожное меньшинство в общей террористической массе, и несмотря на это, в общественном сознании был запечатлен именно этот героический образ? Причём запёчатлён настолько сильно, что восторженное отношение к "подвигу" террористов впоследствии .почти буквально проросло в русском историческом сознании сквозь раздраженную неприязнь к терроризму со стороны как классического марксизма, так и его "ленинской" модификации, и сохранилось в нём (и в советской исторической науке в частности) на долгие десятилетия, т.е. автору и в начале девяностых годов XX века явно есть что "демифологизировать" и "деромантизировать"? Обращают на себя внимание также и вполне "карамзинские" хронологические рамки работы. Думается, что рассмотрение террора как уникального явления требует поиска его собственной хронологии и собственной периодизации, а не искусственной "нарезки" его "извне". Даты начала и конца правления Николая П (1894 - 1917) никак не совпадают с собственным "ритмом" революционного терроризма.
Последнее десятилетие выявило всё более возрастающий интерес к истории революционного терроризма не только среди представителей классической "общественно-политической" истории, но и со стороны других наук: прежде всего -социологии, социальной антропологии, филологии и культурологии (6). Именно с этими науками связаны те концептуальные новшества во взгляде на сущность революционного терроризма, которые нацелены на переход к изучению проблем, связанных с историей терроризма, на новый качественный уровень. Первыми в этом ряду следует назвать работы М. Одесского и Д. Фельдмана, посвященные ряду ключевых аспектов истории террористической ментальности как в русле общеевропейской истории Нового времени (7), так и в истории России (8). В наиболее полном виде концепция Одесского и Фельдмана представлена в книге "Поэтика террора и новая административная ментальность: очерки формирования" (9), которая не только привнесла ряд важнейших теоретических и методологических новшеств в изучение истории революционного терроризма, но и самим переходом от патологически политизированного изучения истории терроризма как истории политических столкновений к анализу качественной эволюции "логики" и "поэтики" террора, впервые в отечественной науке ярко обозначила реальный выход из бесплодного блуждания в поисках "правых" и "виноватых".
Объектом изучения для авторов являются, прежде всего, процесс возникновения и развития в новоевропейской истории и русской истории XIX века базовых идеологем: "террор" и "революция", динамики преобразования революционно-террористической терминологии и символики, и их связи с глубинной трансформацией обществ, подвергшихся массированному террористическому воздействию в ходе революционных событий. Прежде всего, французского общества эпохи Великой революции и русского общества второй половины XIX века. Одесский и Фельдман формулируют, на мой взгляд, лучшее на сегодняшний день определение террора, точно и лаконично передающее суть явления: "Террор - способ управления социумом посредством превентивного устрашения" (10). Работа Одесского и Фельдмана содержит немало исключительно ценных наблюдений, касающихся "носителей террористической ментальности". В концептуальном и методологическом смыслах это произведение существенно повлияло на современное состояние проблемы и породила ряд последователей, к которым, с определенными оговорками, относит себя и пишущий эти строки.
И все же, несмотря на все очевидные достоинства "Поэтики террора", некоторые, в том числе и принципиально важные положения авторской концепции, на мой взгляд, не могут быть приняты без поправок. Некоторые другие вызывают моё категорическое несогласие. Прежде всего, это касается следующих характерных особенностей работы.
1.Определив в начале книги террор как способ управления, авторы в дальнейшем, рассматривают его как способ захвата власти и её незаконного удержания. Уже в этом, на мой взгляд, чувствуется логический сбой, который в дальнейшем серьезно сказывается на всём характере работы. Если террор есть способ управления, то любая террористическая группа (неважно, возглавляющая государственный аппарат или находящаяся в оппозиции по отношению к нему) уже имеет власть по определению. И для понимания террора как феномена необходимо изучение этой власти исходя из её собственной феноменальной сущности, а не сведение её (вслед за "носителями террористического менталитета" к роли прикладного инструмента, необходимого для достижения какой-либо иной внешней цели. Иначе исследователь рискует незаметно для себя переключиться от рассмотрения явления к изучение его "источника" или "цели",, в данном случае, к изучению природы революционности и тоталитаризма.
2.Тесная связь между "революцией" и "террором", установленная авторами в ходе анализа событий эпохи Великой Французской революции (в контексте данного конкретного исторического события с этим невозможно не согласиться), приводит их к абсолютной убеждённости, что целью деятельности террористических организаций вообще является именно захват государственной власти через осуществление переворота, что далеко не так очевидно, как это представляется авторам. При всем эпохальном значении Великой Французской революции для мировой истории - в истории терроризма (и революционного в том числе) это всё-таки уникальный частный случай. Сценарий, который нигде и никогда не повторялся до такой степени, чтобы выводы, сделанные на его примере, могли рассматриваться как универсальные.
3. Абсолютно очевидным для Одесского и Фельдмана представляется не только обязательная нацеленность террористической группы на захват государственной власти, но и обязательное стремление этой группы к построению тоталитарного общества (данное утверждение вообще является одним из "краеугольных камней" авторской концепции). Причём отсутствие стремления к построению тоталитарного общества или добровольный отказ от дальнейшего проведения террористической политики источником устрашения оказывается даже достаточным основанием для того, чтобы не рассматривать данные конкретные репрессивные действия в качестве именно террора.
Авторы совершено справедливо отмечают антиправовой характер террористической политики, но всегда ли обращение кого бы то ни было к противоправным действиям сопровождается обязательным стремлением к уничтожению права в принципе! Именно так выходит у авторов и, следовательно, террор они видят лишь там, где он абсолютен, революционен и тоталитарен (11). Возникает ощущение, что борьба с терроризмом - это, в сущности, борьба с тоталитаризмом и революционностью в различных их вариантах. Эта, на первый взгляд, безобидная уверенность, в которой авторы "Поэтики террора", к сожалению, далеко не одиноки, не только глубоко ошибочна, но и просто вредна для уяснения сущности террора. Она порождает в обществе обманчивое представление, что терроризм - дело, осуществляемое только радикалами, естественно вытекающее из сущности их специфических антигуманных и аморальных идеологий, локализация и вытеснение из массового сознания которых сможет предохранить общество от массированных террористических проявлений. Как результат - общество может привычно отторгать тоталитаризм в различных его видах, с крайней осторожностью относиться к радикалам любой окраски и в то же время регулярно санкционировать, поддерживать и стимулировать принципиально антиправовые террористические действия, преподносимые ему под вполне удобоваримым идеологическим "соусом".
4. Обращает на себя внимание и следующая особенность "Поэтики террора". В одних частях книги (прежде всего, в главах, посвященных Великой Французской революции) речь идёт о технологии устрашения, т.е. анализируется метод управления, возникающий в результате взаимодействия различных факторов и имеющий различные же последствия, преобразовывающие как управляемый социум, так и тех, кто пытается им управлять. Иными словами - французское общество эпохи Великой революции рассматривается как соучастник и сотворец метода. И это совершенно справедливо - всякая власть, н террористическая в том числе, есть не то, что делает "правитель", но то, что происходит между управляющим и управляемыми. Без подчинения вторых невозможна власть первых. В других частях книги, переходя к анализу событий русской истории XIX века, авторы переключаются на рассмотрение собственно ментальности радикальной среды. Теперь развитие метода происходит как бы только в самой радикальной среде. Авторы показывают классическую цепочку преемственности -от одних радикалов к другим.
Чередуются имена русских, итальянских, французских террористов, которые действуют словно в каком-то вакууме и общество не имеет к этому развитию прямого отношения. Возникает странное ощущение, будто бы культура Франции конца XVIII века оказала сильнейшее влияние на первую "презентацию" террора, а в дальнейшем он передавался из рук в руки как эстафетная палочка, дорабатываясь на ходу лишь усилиями носителей "террористического менталитета". Конечно, нельзя не согласиться с тем, что Великая Французская революция оказала сильнейшее влияние на русских радикалов (особенно на первые их поколения), но про русское общество как целый организм, который, начиная с шестидесятых годов XIX века, подвергался беспрецедентной по размаху и продолжительности террористической обработке и рефлексия, которого сама существенно трансформировала источник устрашения, этого сказать никак нельзя. Его террористическая рефлексия совершено не вписывается в предложенную "французскую" схему. В ней подчас даже трудно определить какие общественные силы в большей степени способствовали развитию террора.
Заметное влияние на современное состояние проблемы оказали исключительно интересные и оригинальные книги М. Могильнер (12). Особенно монография "Мифология подпольного человека". В центре внимания М. Могильнер-культура русской радикальной среды последних предреволюционных десятилетий как единого организма, возникшего и в конце XIX века переживавшего расцвет в годы первой русской революции и впоследствии переживавшего затяжной кризис. Могильнер реконструирует "радикальный микрокосм", классифицирует и прослеживает развитие основных мифологических образов "Подпольной России", исследует характер её взаимодействия с культурой "России легальной". Несомненная ценность работ Могильнер заключается также в том, что она впервые приступила к изучению значительного корпуса художественных текстов, порождённых революционной средой, мимо которых равнодушно проходила аолитическая. история, или, в лучшем случае, походя, выборочно, отмечала отдельные её образцы.
И всё же, думается, что минусом авторской концепции является не вполне верное изображение характера взаимодействия "Подпольной" и "Легальной" России. Вычленение русского радикализма в отдельный культурный организм, нераздельно и нёслияннО сопутствовавший национальной культуре рубежа веков, имевший самостоятельную историю появления, развития и вырождения, а значит и самодостаточный культурный код, не оправдано историческим материалом. Возможно ли, как это делает автор, в отношении культуры русских радикалов использовать те же методы, которые успешно "работают" при рассмотрении социокультурной истории, скажем, хлыстов? Конечно, и те и другие, по-своему, были революционерами, те и другие порождали, в общем-то, свою субкультуру, и на тех и на других в определённые периоды времени возникала своего рода мода среди представителей интеллектуальном элиты. Но при всём этом, одни - хлысты -действительно были самодостаточны и погружены в своё "святое" дело, создавали свои культурные ценности для себя, и во многом были закрыты для "внешней России", другие же до такой степени были поглощены задачей пропаганды своих воззрений, своего "героического образа", до такой степени "держались" за определённые традиционные каноны культуры "России Легальной", что слово "раскольники" по отношению к ним можно употреблять только в очень жирных кавычках. Художественные произведения, порождённые "Подпольной Россией", за очень редким исключением создавались с чётко осознанной прикладной пропагандистской целью. Практически никогда, вопреки утверждению М.Могйльнер, тексты "Подпольной России" не были адресованы "идеальному читателю", напротив (особенно это касается революционного народничества), они создавались для того "крестьянина", "солдата", "рабочего", "студента" и т.д., который "имелся в наличии"., и были призваны максимально соответствовать культурным запросам последнего (13).
По моему глубокому убеждению, изучение истории культуры русской радикальной среды может быть действительно плодотворным только через рассмотрение напряжённого и творческого взаимодействия, диалога радикальной среды и общества. Вез этого слишком многое остаётся смутным и неясным.
В целом, завершая обзор наиболее интересных работ, созданных в русле данной проблематики, приходится, несмотря на все имеющиеся достижения отечественной науки, согласиться с мнением В.Л. Булдакова, охарактеризовавшего сложившуюся историографическую ситуацию последних лет следующим образом: "Возвращается ситуация советского времени, когда теория и история существовали как бы в разных измерениях. Разница лишь в том, что если ранее теория осуществляла формальный диктат над историей, то теперь они рискуют разойтись, внутренне презирая друг друга" (14).
Целью предлагаемой работы является исследование механизма включения террора в отечественную культуру второй половины Х1Х-начала XX веков, укоренения его на уровне более глубоком, чем существовавшие в обществе политические идеологии и конкретные задачи партий, движений, правительственных структур, - на уровне национальной психики и ментальности культуры. Через реконструкцию процесса формирования образа террориста на стыке художественной и политической составляющих национальной культуры указанного периода, расшифровки драматургии террористических действий к пониманию динамики развития способов взаимодействия, взаиморефлексии и взаимопреобразования террористических групп и общества.
Объектом исследования является революционный терроризм в контексте русской культуры последней трети ХГХ - начала XX века. Предметом исследования -культурная семантика революционного терроризма, важнейшие смысловые конструкции и образный ряд, определявшие способ взаимодействия террора и национальной культуры. Указанные смысловые конструкции определяются и фиксируются в рабочей терминологии исследования, содержащей такие понятия, как: "система представления террористической группы обществу", "террористическая война на уничтожение" и "террористический диалог", "гражданское мученичество", "террорист защищающийся" и т.д.
При написании работы автор не ставил своей задачей применение к объекту и предмету исследования методологического инструментария какого-либо из существующих научных направлений, стремясь избежать любой осмысленной методологической и концептуальной предвзятости, отталкиваться исключительно от специфики своего материала. Вместе с тем, нахождение автора в рамках современной исследовательской парадигмы, безуслоено, проявилось в почти бессознательном, зачастую осознанном постфактум влиянии на методику работы и её концепцию с самых разных сторон. Основные "группы влияния" можно определить следующим образом:
1. Рассмотрение истории конкретного общества через реконструкцию процесса изменений его ментальное™, зафиксировавшееся в различных жанрах культуры, - обнаруживает влияние французской исторической школы "Анналов", прежде всего, поздней "анналистики" (Жак Ле Гофф).
2. Осознание высшей ценности и значимости для уяснения сущности рассматриваемого явления субъективно-личностных эмоциональных переживаний индивидов, решавших для себя проблему отношения к революционному насилию в противовес конкретно политическим, партийно-иерархическим и идеологическим его проявлениям, по-видимому, вызвано влиянием феноменологии религии американского философа Уильяма Джеймса ("Многообразие религиозного опыта").
Активно используемая в работе медико-биологическая терминология ("вирус", наибольшей достоверностью обладают программные документы, материалы съездов и конференций, постановления центральных органов этой организации, которые определяют её стратегические задачи, а так -же прослеживают её идеологическую эволюцию.
Именно данная группа источников характеризует ту или иную террористическую организацию как единое целое сообщество, стремящееся добиться в своей деятельности тех или иных конкретных политических целей. Соответственно, достижение или недостижение организацией поставленных задач - основание для вывода об успешности или неуспешности её деятельности. Другим, исключительно влиятельным на исследователей источником, в данном случае является тот корпус литературы, который сформировал идейные основы данной организации. Труды мыслителей, в той или иной степени предопределивших её политическую физиономию. Установление теоретического источника программных документов организации - основание для вывода о её месте в "политическом спектре". Подчинённое место в обшей иерархии источников, в данном случае, занимают те документы, которые квалифицируются либо как нехарактерные и субъективные, либо по самим условиям и целям своего происхождения (как, к примеру, выступления подсудимых на судебных процессах или иные действия и высказывания) могут рассматриваться как носящие тактический, компромиссный характер, "уклон" вьвванный стоминутными интересами.
Рассмотрение революционного терроризма в его социокультурной плоскости как явления, не только не вмещающегося в те или иные политические программы и постановления, но и принципиально разворачивавшегося вне их, в котором чётко прослеживается исходный приоритет образного начала над идеологическими догматами при обосновании террористическими группами своего обращения к террору, а также эмоционального начала над логической целесообразностью при осознании обществом смысла происходящего, диктует иные критерии и подходы к источникам. Основополагающим для вывода о ценности здесь будет принцип широты общественного резонанса тех или иных событий и документов, с ним связанных.
К примеру, с точки зрения "организационной" политической истории, та критика, которой в девяностые годы ХГХ века подвергала М. Ошанина С.
Кравчинского, за "неверную" интерпретацию им смысла народовольческого террора, была абсолютно правомерна. Именно Ошанина, как член Исполнительного Комитета "Народной воли", поддержала "апостольскую преемственность" по отношению к той "Народной воле", и террор, с точки зрения И.К., был вовсе не средством завоевания демократических свобод в Российской империи, как это показывал миру Кравчинский, а инструментом, необходимым для осуществления в стране революционного переворота. Но "программная" правота не соответствовала правоте социокультурной, а именно Степняк-Кравчинский находился в плодотворном творческом диалоге с европейским общественным мнением, он сформировал народовольческий "канон" и запечатлел в массовом сознании облик народовольцев как мучеников за свободу слова, "мечтающих" о возможности "мирной работы" в этом обществе. Эти народовольцы Кравчинского вызывали горячее сочувствие во всём мире, они являлись живым фактором общественного сознания, а вовсе не те, "настоящие", с которыми был знаком очень узкий круг лиц, непосредственно связанных с революционной средой. Или другой пример, абсолютным еретиком и едва ли не ренегатом, с точки зрения официальной эсеровской традиции, являлся Борис Савинков, который в своих знаменитых произведениях о терроре и террористах действительно попадал в резонанс с русским общественным мнением и фактически "отнимал" своей неожиданной интерпретацией революционно-террористической кампании у партийной эсеровской иерархии её "героев".
Неприемлемым, с точки зрения задач данной работы, является и классическое разделение террора как объекта изучения на "теорию" и "практику". Эта традиция, как правило, формирует следующую методологическую цепочку (так же весьма характерную для политической истории) - от рассмотрения "теории" к тому, как она претворялась в жизнь, к каким конкретным результатам приводила:
A. Для терроризируемых властей.
Б. Для личной и политической судьбы террористов и для дела, которому они служили.
B. Как иллюстрация - "отклики общественности".
Но чем считать знаменитый "Катехизис революционера" С. Нечаева, "теорией" или "практикой" терроризма? Как документ, явно не предназначенный для широкого распространения с целью объяснения обществу смысла революционной борьбы, и не столько являвшийся руководством к действию, сколько содержавший общий взгляд на то, какими чертами должен обладать революционер, "Катехизис" скорее являлся теоретическим сочинением. Но этот документ после своей публикации в российской центральной прессе стал настолько мощным реальным действенным фактором общественного сознания, что он фактически превратил в террористический акт событие, которое сначала рассматривалось обществом в качестве банального уголовного преступления. "Катехизис" не привлёк бы к себе такого внимание, если бы не убийство студента Иванова, а убийство не породило бы такой общественный резонанс, если бы не публикация "Катехизиса". Это одна из абсолютно неразрывных террористических пар: действие - разъяснение, которые для анализа сущности терроризма как уникального явления можно рассматривать только вместе. К чему отнести выступлении адвоката Александрова на процессе по делу Веры Засулич? К "откликам общественности"? Но аргументация, содержащаяся в этом "отклике", оказала куда более мощное влияние на развитие дальнейшей террористической кампании, нежели любое из сочинений теоретиков терроризма, и т. д.
Исходя из принципа широты общественного резонанса, деятельность революционно-террористических организаций будет разделяться не на "теорию" и "практику", - а на "внешнюю" и "внутреннюю" стороны. К первой будут отнесены те события, документы, трактовки образов террористов, которые становились фактами общественного сознания, как целенаправленно адресованные ему радикальной средой, так и случайно ставшие известными обществу, или в силу определённых обстоятельств изменившие первоначальную "окраску". К "внутренней" - те, документы, факты, которые не выходили за пределы собственно радикальной среды. К ней же относятся не состоявшиеся в глазах общества попытки террористических покушений. Причём именно "внешняя", публичная сторона деятельности революционно-террористических организаций будет представлять наибольший интерес, с точки зрения цели данной работы, поскольку именно она становилась "фактической", т.е. обуславливала характер включения терроризма в национальную культуру. "Внутренняя" будет в данном случае интересна только в том смысле, в котором она отличалась от первой. Исходя из этого, и фигурам, которые действием потрясли современное им русское общество и оказали мощнейшее влияние на развитие образа террориста, - С. Нечаев, С. Степняк-Кравчинский, В. Засулич, А. Желябов, И. Каляев, Б. Савинков, в работе уделено значительно большее внимание, чем куда более крупным теоретикам революционного движения в целом и терроризма в частности (будь то П. Ткачёв, М. Бакунин или П. Кропоткин), не преодолевавшим чрезвычайно узких границ своей среды.
При написании работы, помимо хорошо известных опубликованных источников, которые в силу специфики данной работы составляют основу её источниковой базы, использованы материалы ряда отечественных архивов. Прежде всего, ГАРФ (фонды В. Бурцева, Б. Савинкова, И. Фондаминского), отдела рукописей ГЛМ, библиотеки-фонда "Русское зарубежье" и архива русского зарубежья при музее "дом М. Цветаевой" (в частности, хранящиеся там неопубликованные произведения Б. Савинкова).
Специфика террористического действия
Террор, согласно наиболее удачному из существующих на сегодняшний день определений, - это "способ управления социумом посредством превентивного устрашения". Система действий, предназначенных для мощного устрашающего воздействия на психику общества с целью добиться санкции последнего на реализацию определенных идеологических установок.
Обращение к террору - это всегда отказ группы, выступающей в качестве источника устрашения, от попыток логического убеждения общества в правильности определённых воззрений.. Это переход к полемике с ним на уровне более глубоком, чем существующие в обществе политические учения, на уровне национальной психики, национальной культуры. Последствия любой террористической компании никогда не ограничиваются сферой политики. Чем более продолжительна, насыщена и масштабна террористическая компания, тем более стойкими, разносторонними, противоречивыми и плохо предсказуемыми могут быть её последствия. Они, как правило, не вмещаются в рамки тех исходных задач, которые ставила себе террористическая группа, обращаясь к попыткам управлять обществом через осуществление актов устрашения, а также в осмысленные логически обоснованные антитеррористические программы политических партий, движений, государственных структур.
Мы можем говорить о терроре "государственном" или "оппозиционном", "массовом" или "индивидуальном", "политическом", "международном", "экономическом", "этническом", "религиозном" и т.д., каждый раз понимая, что речь, в сущности, идёт об одном и том же явлении, тождественном в ценностно-смысловом отношении, обладающем поразительной способностью к мимикрии и к воспроизведению в совершенно различных условиях. Являясь уникальным феноменом общественной жизни человечества, терроризм не совпадает в своих сущностных характеристиках с такими явлениями, как экстремизм, радикализм, вандализм, диверсионная деятельность, и не может рассматриваться как синоним этих понятий. Хотя различными своими "гранями" он "соприкасается" с каждым из них, т.е. помимо своей основной задачи (подчинение психики общества через его устрашение) акты террора в определённых случаях могут быть нацелены на: устранение конкретного политического или общественного деятеля (политическое убийство), уничтожение культурных, религиозных, исторических ценностей (вандализм), вывод из строя стратегически важных объектов (диверсионные действия) и т.д.
При всех различиях в том, где, когда и во имя чего проводилась или проводится политика террора, мы всегда можем достаточно точно определить, что имеем дело именно с ней, если в насильственных действиях совершаемых по отношению к обществу проступают следующие специфические и легко узнаваемые принципы.
Любой акт насилия, в том числе и политически мотивированный, может квалифицироваться как террористический акт только в том случае, если его цель была значительно шире, чем устранение того лица или группы лиц, которые явились непосредственными жертвами насильственных действий. Иными словами, при осуществлении террористического акта жертвами насилия становятся конкретные люди, а жертвой устрашения - все общество в целом или его значительная часть. Разделяя понятия "жертва насилия" и "жертва устрашения", следует отметить, что любые статистические методы исследования и количественные подсчеты жертв применимы лишь к первой из указанных категорий. Мы можем и должны стремиться установить максимально точное количество людей погибших в сталинских лагерях, но в нашем распоряжении нет единиц, с помощью которых можно было бы подсчитать сдвиг в психике жертвы Большого Террора - всего советского общества как единого организма. Террор, т.е. ужас, есть понятие принципиально неисчисляемое.
Казнь французского короля Людовика Шестнадцатого (1793 г.) безусловно являлась актом террора. Весь смысл этого события заключался в стремлении радикального большинства Революционного Конвента "убить самый смысл монархии" и произвести мощное устрашающее воздействие на весь монархический мир того времени. И уже это стремление, не имевшее никакого отношения к личности короля, предопределяло поиск "судьями" доказательств его "измены". Но у нас нет никаких оснований видеть акт террора в убийстве русского императора Павла Первого (1801 г.), поскольку в этом действии нет ни малейшего намёка на нечто большее, чем желание влиятельной части высшего сословия России заменить неприятного монарха более привлекательным. Это убийство не было ни к кому обращено, а, следовательно, оно и не устрашало. Нет оснований считать террористическим актом убийство Григория Распутина (1916г.), которое явилось только устранением одного, пусть и очень влиятельного в российской политике того времени человека, и ничем большим, или убийство графа Милорадовича, осуществленное Петром Каховским 14 декабря 1825 года в ходе известного восстания. Оно также, конечно, носило политический характер, но Милорадович стал жертвой случайного стечения обстоятельств, он пытался помешать заговорщикам, и за это был убит. И все. С другой стороны, если бы мы считали, что целью Веры Засулич 24 января 1878 года было убийство Ф.Ф.Трепова, вызванное стремлением отомстить за глумление над политическими заключенными, то нам пришлось бы признать, что её ждала полная неудача. Но, не совсем попав в конкретную жертву насилия, Засулич вполне попала в жертву устрашения - в русское общество. Это был классический акт террора, имевший широкий радиус действия. И он оказался исключительно удачным не только, несмотря на то, что Трепов остался жив, но даже, возможно, благодаря этому.
Культура, противостоящая терроризму, 1860-е гг.
Русское общество впервые столкнулось с попытками управлять собой через акты террора в шестидесятые годы XIX века. Николай Первый был последним правителем России, который мог позволить себе роскошь одиноких прогулок по своей столице. Начало известных либеральных реформ Александра Второго, помимо прочих своих разнообразных результатов, сказавшихся в самых разных сферах жизни русского общества, привело к известным послаблениям в цензуре и сделало возможной определённую эмансипацию общественного мнения. Как бы далеко ни было российским средствам массовой информации, общеобразовательным и высшим учебным заведениям, судебным процессам и т.д. до подлинной свободы слова, в них уже стала проявляться та относительная независимость общественного мнения, которая является одним из двух необходимых условий возможности террористических проявлений. Появление другого условия - наличие источника устрашения первоначально было связано не с образованием внутри общества революционно т террористическим организаций, а с проявлениями национально освободительных движений на окраинах империи. Шестидесятые годы проходили по всей Европе под знаком резкого усиления сепаратизма. Великобритания, Австро-Венгрия, Османская империя и Россия переживали очередные периоды обострения обстановки в Ирландии, Италии, Болгарии, Сербии и Польше соответственно. Первые террористические акты в русской истории, так или иначе, связаны с польским восстанием 1863 года. Политически мотивированные покушения против представителей местной русской администрации, а также против тех поляков, которых сторонники независимости считали предателями, совершались неоднократно. Но только одно из этих покушений явилось террористическим актом, обращенным к русскому обществу, и было услышано последним. За год до начала восстания, 21 июня 1862 года, в Варшаве было совершено покушение на Великого князя Константина Николаевича, только за день до этого прибывшего в Варшаву в качестве нового наместника. Портной подмастерье Ярошинский Ф выстрелил в Великого князя, когда тот выходил из театра, и ранил его в плечо. Вскоре после этого Константин Николаевич обратился с воззванием к полякам, который содержал призыв "трудиться сообща и в мире для счастья Польши", и немедленно получил петицию с требованием восстановления старинных польских вольностей. Петиция выглядела как объяснение смысла состоявшегося покушения и намёк на возможность его повторения.
Как известно, диалога со сторонниками независимости не получилось. В 1863 году в Польше началось кровопролитное восстание. Несмотря на то, что восстание бьшо подавлено, и стабильность на западных окраинах империи была восстановлена, угроза новых покушений для российских правителей не исчезла. И поэтому вся обстановка первого покушения ка Александра Второго, предпринятого представителем радикальной среды, вызвала вовсе не ту реакцию, к которой стремился террорист. 4 апреля 1866 года дворянин Дмитрий Каракозов совершил неудачное покушение на Александра Второго, подкараулив императора возле ворот Летнего сада в Санкт-Петербурге, когда тот возвращался после прогулки. По одной версии, Каракозов промахнулся. Согласно другой, в момент произведения выстрела его толкнул находившийся поблизости крестьянин Осип Комиссаров, ставший, таким образом, героем и спасителем монаршей жизни.
Уже первый вопрос, который задал спасённый император схваченному злоумышленнику, достаточно показателей: "Ты поляк?". Когда Каракозов ответил что он русский, удивлению Александра не было предела: "Почему же ты стрелял в меня?". В ответ на этот вопрос, Каракозов, как известно, выразил своё несогласие условиями освобождения крестьян. Первый вопрос императора был закономерен и логичен. Более того, как только по России стала распространяться первая информация о состоявшемся покушении, во многих городах и, прежде всего, в обеих столицах состоялись настоящие патриотические манифестации, быстро принимавшие антипольский характер. Демонстрации эти не были официально подготовлены, власти быстро разобрались в мотивах Каракозова и вовсе не стремились к введению в заблуждение общественного мнения. Но общество ожидало удара именно от поляков и реагировало на это соответствующим образом. Ответ этот был построен на тех сюжетах и образах национальной культуры, которые напрашивались сами собой. Особенно показательные проявления патриотизма состоялись в столичных театрах. В Большом театре объявленный на этот вечер спектакль был снят и заменен, казалось, необыкновенно подходящей к ситуации оперой М. Глинки "Жизнь за царя". "После первого акта народный гимн пропет был четыре раза подряд; второй акт не состоялся совсем - публика не хотела видеть польских танцев и вместо них потребовала снова народный гимн, который пропет был раза три. В третьем акте поляки приходят к Сусанину, на их угрозы он отвечает неустрашимым и энергичным: "Лягу за царя, за Русь!" Слова эти зажигают восторг в зрителях, действие на сцене прерывается. Артист Родонежский, исполнявший роль Сусанина, три раза сряду повторяет эту фразу, сцена наполняется хористами и снова гремит на сцене народный гимн, снова непрерывные крики восторга и громкие рукоплескания в зале... (20).
Формирование и универсализация террористического пантеона в рамках русской культуры, 1901 -1905 гг.
Начало XX века ознаменовалось для России новым всплеском революционного терроризма. Первые залпы этой террористической кампании -убийства П.В. Карповичем и СВ. Балмашёвым соответственно министра народного просвещения Н.П. Боголепова (февраль 1901 г.) и министра внутренних дел, фактического главы правительства, Д.С. Сипягина (апрель 1902 г.), продемонстрировали обществу тот сценарий, по которому радикальная среда намерена возобновить угасший к середине восьмидесятых годов террористический диалог. Эти события предъявили России новый источник превентивного устрашения - БО ПСР, с самого начала стремившийся предстать:
1. Законным наследником и продолжателем дела "Народной воли".
2. Выразителем обще-освободителъных интересов российского общества, а не только собственно революционных настроений радикалов.
В этой связи, исключительно показательны сами обстоятельства образования БО и крайне осторожные шаги ПСР, направленные на прощупывание готовности общества к возобновлению "диалога". Они выглядят не новым повторением, а скорее зеркальным отражением процесса вызревания террористического крыла "Земли и воли". В конце семидесятых годов радикальная среда самостоятельно приняла решение о своём обращении к террору и затем методом проб и ошибок нащупала тот тон в обращении к обществу, который помог последнему "узнать" террористов и способствовал началу террористического диалога. Здесь же, всё шло задом наперёд. БО, по существу, формировалась "от общества".
Разговоры в радикальной среде о возобновлении террора шли задолго до образования БО и собственно люди, стоявшие "у колыбели" ПСР (Е.К. Брешко-Брешковская, ГА. Гершуни, MP. Гоц, В.М. Чернов и д.р.) в принципе давно для себя решили вопрос о необходимости и правомерности осуществления террористических актов. Но к началу века, во-первых, при наличии значительного числа партийных функционеров, симпатизировавших терроризму, не было заметно людей, готовых лично в нём участвовать в качестве рядовых исполнителей, а во-вторых, не было ясно, как воспримет общество новый всплеск терроризма, поскольку относительная политическая и социальная стабильность империи в девяностые годы не давали актуального формального повода для реализации народовольческой модели "террора защищающегося"{Ы\ а только эта модель была приемлема для той, части радикальной среды, которая породила ПСР. Такая проблема с неожиданной резкостью обозначилась в 1900 - 1901 годах и была
Речь идёт вовсе не об отсутствии таких действий правительства, которые могли бы быть представлены радикальной средой как жестокие и репрессивные или действительно были такими, но ни одно из них, будь то вечный "польский вопрос", всё более разгорающийся "еврейский", или гонения властей на духоборов и иных религиозных диссидентов, - не имел общенационального размаха, касался либо этнических, либо религиозных меньшинств, в то время как эффективный "террористический диалог с обществом" и оправдание террористических действий возможны лишь в обществе, которого действительно всерьёз касается проблема, становящаяся лейтмотивом террористического диалога. напрямую связана не с деятельностью революционеров, а с лихорадочным брожением в идеологически крайне неоднородной, но традиционно политически активной студенческой среде. Резкие действия правительства по отношению к студентам (особенно известный разгон студенческой манифестации у Казанского собора в Санкт-Петербурге, 1901 год), практика массовых исключений из университетов и суровые, вплоть до отправления в армию, наказания, вызвали резкое возмущение в России и стоили жизни министру просвещения Боголепову, которому общественное мнение приписывало основную вину за происходившее.
Сочувственная реакция общества на убийство Боголепова, которое было осуществлено социалистом-одиночкой Карповичем, показало радикальной среде, готовой к началу террористической кампании, что общество готово дать санкцию на "вооружённую самозащиту" радикалов от "кровавой политики" царской администрации. С этого момента вожди переживающей стадию становления ПСР начинают осуществлять первые реальные шаги по созданию своей БО. Главную роль в этом процессе сыграли основной теоретик партии В.М. Чернов, и первый "антрепренер" и "режиссер-постановщик" эсеровского террора Г.А. Гершуни. Первоначально предполагалось, что возникнет одновременно несколько инициативных групп, каждая из которых начнёт негласную подготовку к активной террористической деятельности, но официальной "Боевой Организацией" партии, "монополизирующей в своих руках центральный политический террор", станет только та из них, которая первой совершит крупный и удачный террористический акт. Таким образом, БО должна была "возникнуть" лишь после первой одержанной победы. Тем самым, без предварительных угроз и объявлений "войны", партия сохраняла за собой относительную свободу политического манёвра, в случае явного провала первых покушений или непопадания их в резонанс с общественным настроением, они могли остаться в массовом сознании просто результатом деятельности "фанатиков-одиночек".