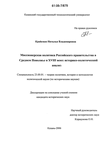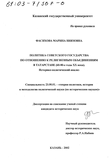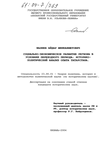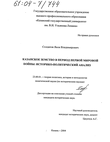Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Советский тип политической критики 34
Глава 2. Политическая критика периода кризиса советской политической системы 68
Глава 3. Политическая критика первой половины 1990-х гг 119
Заключение 167
Список источников и литературы 174
- Советский тип политической критики
- Политическая критика периода кризиса советской политической системы
- Политическая критика первой половины 1990-х гг
Введение к работе
Содержание научной проблемы и ее актуальность. Изменения современного российского политического пространства актуализировали внимание исследователей к акторам политического процесса, и идеям, влияющим на активизацию основных политических ресурсов. Понимание и объяснение этих изменений через исследование структуры и содержания диалогового процесса, формирующего политический дизайн современности, представляется весьма продуктивным.
При достаточно внимательном взгляде на временные особенности диалогового процесса, вполне заметным оказывается то, что новое время придало политике явную качественную определенность: в ее центре оказалась борьба между государством (государственной властью) и обществом (общественным мнением) за перераспределение регулятивных возможностей (регулятивного потенциала). Данная конкуренция за регулятивные функции приводит к тому, что одним из доминирующих компонентов интеллектуальной жизни нового времени становится критика.
Она стала компонентом предложения альтернатив, путей развития отечественной политической системы, что способствовало складыванию политического дискурса как коммуникативного диалога по определению вектора трансформаций текущего политического процесса.
Сам феномен критики отражает по-своему тип и характер социального диалога. Именно в этом феномене воплощаются некоторые характерные смысловые черты социального взаимодействия, социального диалога. К одной из таких важнейших черт следует отнести универсализм диалогового процесса, делающий критику имманентной частью любой социальной сферы. Уже в XIX веке достаточно развитыми и самореализующимися становятся философская, литературная, эстетическая, экономическая, политическая и др. критика.
В соответствии с той сферой, на которую направлена и в которой укоренена критика, она имеет свою бесспорную специфику и свое бесспорное своеобразие. Однако, есть некоторые черты критики, как особого типа социального диалога, которые и позволяют говорить о ее универсализме.
Во-первых, критика способствует обособлению различных сфер социальной деятельности, обоснованию критериев самодостаточности и постановки «барьеров» против размывания этих сфер деятельности. «Профессионалы» защищаются от «дилетантов», представители различных социальных групп друг от друга и т. д.
Во-вторых критика способствует социализации различных сфер деятельности. С одной стороны, она «оправдывает» сам факт существования данной сферы деятельности, с другой стороны, концентрирует внимание общества на необходимости его поддержки и обеспечения достаточных условий для его существования.
В-третьих, критика решает задачи обеспечения внутренней динамики развития социальной сферы (по П.Сорокину, ее вертикальной и горизонтальной мобильности)1.
Наконец, в-четвертых, критика выражает претензии различных социальных сообществ и структур на исполнение общесоциальных функций. (Воспитание патриотизма и национальной самодостаточности - историческая критика; формирование этических ценностей - литературная критика; формирование гражданских основ и современного социального взаимодействия - политическая критика и др.)
В качестве важнейших общих оснований критики лежит то, что именно она представляет иногда наиболее полно тип и качество диалогового процесса. Для развития критики как типа социального взаимодействия весьма значимыми оказываются традиции интеллектуализма и качество социального взаимодействия (то есть, наличие или отсутствие реальных альтернативных сил, претендующих на общие или частные регулятивные функции).
XIX век достаточно наглядно продемонстрировал, что в национальных культурах интеллектуализм развивался в различных формах. В Германии — в основном в философских, во Франции - в социально-политических и т. д. Это, естественно, накладывало отпечаток на роль и своеобразие критики.
В России вплоть до конца XIX века критика (даже политическая) развивалась,, в основном, как критика литературная. Это приводило не только к тому, что русская литература играла особую роль в процессах социализации, но и придавало заметное своеобразие как русским политическим текстам, так и всему социальному контексту.
Начиная с XIX века вполне определенно можно говорить и о различных социальных языках критики. «Критика словом» при всей ее значимости, отнюдь не была единственной, и, более того, быть может, не самой значительной. Вместе с «критикой словом» достаточно быстро стала распространяться «критика делом».
Естественно, что способы организации политического пространства наряду с культурными традициями и национально-этническими особенностями оказывались мощнейшими факторами, которые не только стимулировали, или определяли своеобразие «критики словом», но и, в значительной степени, влияли на ее направленность и эффективность. Тот факт, например, что в России вплоть до известного октябрьского (1905 г.) Манифеста само слово «политика» было исключено из официальной печати, приводил к тому, что формировался своеобразный язык, стиль, и тип политической критики, как и политической мысли, в целом.
Еще заметнее влияние своеобразия политического контекста на становление и развитие «критики» делом. Демократические политические условия и режимы, основанные на легальном сосуществовании и деятельности различных политических сил, стимулировали развитие легальной оппозиции и, соответственно, способствовали выработке эффективного языка «критики делом» в рамках существующих политических режимов и политической системы ценностей. Политические митинги, политические демонстрации, забастовки и стачки являли собой тот тип «критики делом», который был достаточно распространенным в Западной Европе и обеспечивал возможности оппозиции оказывать решающее воздействие на власть, с целью побуждения ее (власти) к диалогу с обществом и оппозицией.
В XIX веке сформировались и различные представления как о содержании «критики делом», так и о критериях ее эффективности. Речь идет о нескольких типах оценивания эффективности политической критики.
Первый тип оценивания основывался на выделении в качестве основного критерия эффективности критики ее способность побуждать потенциального участника диалога к диалоговому общению, к заявлению и открытому представлению своих позиций, их оправданию и защите, к допущению и выслушиванию точки зрения оппонирующей стороны. Это предполагало понимание того, что возникновение и развитие диалога само по себе рассматривалось как положительный эффект критики.
Другой тип оценивания в качестве важнейшего критерия эффективности критики определял наличие уступки со стороны субъекта, на которого эта критика была направлена. Этот подход сформировался на основе упрощенных представлений о диалоге как варианте спора, целью которого оказывается стремление во что бы то ни стало провести и отстоять собственную точку зрения. Для миросозерцания и системы ценностей участников социального диалога XIX — начала XX веков было достаточно типичным измерять эффективность диалогового процесса способностью навязывать собственную точку зрения и заставлять оппонирующую сторону воспринять предлагаемую ей позицию в качестве единственно возможной. Это традиция была достаточно сильной в европейской политической культуре, поскольку, как замечал А. Тойнби, движущими силами всего XIX века были индустриализм и национализм с их жесткими способами реакции на окружающий мир и категоричными ответами на вызовы времени .
«Критика делом» понимаемая как «навязывание собственной точки зрения» (способы «навязывания» при этом могли существенно отличаться — СМ.) как правило, распространялась и укоренялась в политических культурах, обладающих рядом имманентных свойств, среди которых наиболее важными были: неразвитость политических коммуникаций; жесткое доминирование или преобладание одного из политических акторов (чаще всего таковым оказывалась государственная власть в отсутствие развитой партийной структуры, общественных институтов или эффективно действующего общественного мнения); развитые и укорененные ценности монологизма и силовых способов социального взаимодействия.
Содержание российской политической культуры на всем протяжении XIX - XX вв. как раз и характеризовалось значительной степенью неразвитости внутреннего политического взаимодействия. Прежде всего, речь идет о неразвитости процессов социальной дифференциации и несовременной социальной структуре, порождающих лишь простейшие формы социального диалога и социального взаимодействия3.
Попытки сформировать общественное мнение в ходе интеллектуальных дискуссий середины XIX - начала XX вв. не дали положительных результатов4. По существу, напряженная полемика второй половины 1980-х гг. преследовала подобные цели, но и ее результаты оказались весьма противоречивы.
Неразвитость личностного начала и многовековая традиция сакрализации государственной власти сформировали своеобразную и устойчивую политическую среду, в рамках которой «обществу», как правило, нечего предъявить власти кроме своих ожиданий и надежд на ее (власти) трансформацию и обновление.
Характерно, что даже диссидентское движение 1970-х - 1980-х гг. не столько выдвигало социально значимые инициативы и альтернативные проекты, сколько апеллировало к власти и призывало ее (власть) к выработке устойчивых и гарантированных правил социального взаимодействия и диалога5.
Следствием данного своеобразия политической культуры становилось преобладание вполне определенных качеств политической критики и ее направленности.
Совершенно неслучайным оказалось быстрое распространение в России террористических форм и способов давления на власть с целью побуждения ее к радикальным изменениям. Наводившая страх не только на жителей российской столицы, но и на жителей крупнейших европейских центров, организация «Народная воля» стремилась с помощью революционных террористических действий заставить царскую власть перестать быть самодержавной и вступить на путь социальных реформ. Характерно при этом, что общая атмосфера страха перед деятельностью террористов весьма причудливо соединялась с сочувствием к ним и солидарностью с их устремлениями.
Кризис русского революционизма 1870-х - 1880-х гг.6 не устранил при этом самого феномена и политического значения русской революционной политической критики, а лишь придал ей новые черты и свойства.
Базовой чертой революционной критики оказывалось исходное признание неспособности власти к диалогу. Власть рассматривалась и характеризовалась как сила не просто противостоящая народу, но и способная существовать только и посредством силового давления на народ, приспособленная для его эксплуатации и существования за счет его прав.
Побуждать подобную власть к активизации действий в интересах народа оказывалось, по представлениям революционеров, изначально делом бессмысленным и малоэффективным . В результате, даже «критика делом» выстраивалась, в первую очередь, как система определенных протестных действий, призванных в большей степени к демонстрации собственного присутствия в политическом пространстве, и стремлению лишить власть способности к политической деятельности вообще, то есть, способности к политическому диалогу.
При таком понимании эффективности «критики делом» единственной альтернативой диалогу становилось провозглашение оппонента «преступником». А с преступником следовало уже вести не диалог, а борьбу, чаще борьбу на уничтожение.
Советский тип политической критики сформировался как отражение и продолжение генезиса крайних форм русского революционизма и цивилизационных особенностей русской интеллектуальной культуры. Не просто сохранялся, но и углублялся монологизм, а поле интеллектуальной состязательности практически полностью отсутствовало. Особенно важно, что это накладывалось на системообразующую роль политической теории, строившейся на абсолютизации собственного политического опыта.
В значительной степени это породило кризис советской политической системы, определявшейся ее неспособностью адекватно реагировать на вызовы времени. А сам этот кризис привел к возникновению поливариантной критики, исходившей как «изнутри», так и «извне» системы.
Становление современных российских политических реалий происходило в условиях общего противостояния больших социальных групп, глубокого социокультурного кризиса, разворачивавшегося в рамках политической культуры, включающей многочисленные элементы традиционализма.
Критики современной российской политической системы, как справа, так и слева, при всем различии их исходных теоретических и политических установок чаще всего исходили из признания двух ее существенных недостатков. Первым таким недостатком была несовременность самой системы. При этом, «левые» обосновывали свою позицию неспособностью (в лучшем случае, неэффективностью) решения системой наиболее острых социальных проблем. «Правые» видели архаичность системы в ее несоответствии европейским политическим стандартам.
Вторым общим элементом критики стало признание отсутствия у ведущих политических акторов (Президента и «партии власти») объединяющей идеологии и идеологического обоснования политического курса.
В целом в структурировании новой политической реальности, существенное значение приобретало понятие «преступление» как выражение архаической формы дихотомии «МЫ» - «ОНИ», Именно понятие «политическое преступление» занимает важное место в политической критике середины 1980-х - начала 1990-х гг., становясь доминантной метафорой, формирующей дискурсивное поле политической критики.
На протяжении существования Российского государства понятие «преступного» определялось по-разному. Так Русская Правда определяла преступление не как нарушение закона или княжеской воли, а как «обиду», под которой понималось причинение морального или материального ущерба частному лицу или группе лиц со стороны частного же лица8. Уголовное правонарушение не отграничивалось в законе от политического. Однако, древнерусские правовые нормаы предусматривали одновременное применение двух форм ответственности, уголовной и политической (гражданской)9.
Более явно можно выделить «политическое» содержание в характере преступления в Псковской Судной грамоте (1467 г.). Грамота квалифицировала как преступление не только посягательства на человека, его личность и имущество, но и «деяния, направленные против государства и его органов10».
Несмотря на то, что для периода Московской Руси очень трудно выделить четкую дефиницию преступного как такого, не говоря о политическом преступлении, тем не менее, можно обозначить некоторые дефиниции, например термин «лихое дело», которое в содержание преступления включало, в том числе тяжкое преступное деяние с ущербом для интересов государства.
Термин «лихое дело» использовался и в XVII веке, но чаще уже в этот период тяжкие преступления обозначали термином «воровство», впервые закрепленном в Судебнике 1589 года. Воровство означало нанесение двойного вреда государству: политического и имущественного (со временем это понятие полностью перешло из политической сферы в имущественную1!).
Соборное Уложение царя Алексея Михайловича Романова (1649 г.) под политическим преступлением понимало «непослушание царской воле, нарушение предписаний». Артикул Воинский (1714 г.) заменяет характерный для Соборного Уложения 1649 года термин «воровство» на «преступление».
Причем, под преступлением по прежнему понималось действие, наносящее ущерб государству. Так, Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года определяло как преступление «всякое нарушение закона, через которое посягается на неприкосновенность прав власти верховной и установленных ею властей или же на права и безопасность общества или частных лиц»12.
Наряду с законодательными определениями преступления в России, со второй половины XIX века стали появляться его теоретические дефиниции, вырабатываемые наукой уголовного права. Для исследуемой нами темы наиболее важны те, дефиниции «преступления, которые рассматривают его в качестве «катализатора» общественной опасности.
Только в начале XX века из определения преступления на время исчезает необходимое до этого упоминание об угрозе верховной власти. Уголовное уложение 1903 года в первой главе «О преступных деяниях и наказаниях вообще», признавало преступлением любое «деяние, воспрещенное во время его учинення законом под страхом наказания»13.
Российские правоведы рассматриваемого периода зачастую вообще отрицали возможность материального определения преступления, в силу, того, что оно напрямую зависело от таких изменчивых категорий, как конкретная историческая ситуация14.
В целом эта тенденция сохранялась в первых правовых актах советской республики. Например, в Руководящие начала по уголовному праву РСФСР (12 декабря 1919 г. параграф 3 «О преступлении и наказании») практически воспроизводили норму Уголовного Уложения 1903 года, определяя преступление как «нарушение порядка общественных отношений, охраняемого уголовным правом»15.
Интересно, что уже через несколько лет советские правовые нормы вернулись к акцентировке внимания на политической составляющей преступления. Так Уголовный кодекс РСФСР 1922 года (ст. 6) определял преступление как «общественно опасное действие или бездействие, угрожающее основам советского строя и правопорядку, установленному рабоче-крестьянской властью на переходный к коммунистическому срою период времени»16. Эта же доминанта сохранялась в УК РСФСР в редакции 1926 года: «Общественно опасным признается всякое действие или бездействие, направленное против советского строя или нарушающее правопорядок, установленный рабоче-крестьянской властью на переходный к коммунистическому строю период времени»17.
На тех же основаниях строилась и дефиниция преступления в Уголовном кодексе 1960 года: «Преступлением признается предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние (действие или бездействие), посягающие на общественный строй СССР, его политическую и экономическую системы, личность, политические, трудовые, имущественные и другие права и свободы граждан, все формы собственности, а равно иное, посягающее на социалистический правопорядок общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом» .
В действующем УК РФ, как и в законодательствах большинства стран, нет понятия «политическая преступность», так как его правовое закрепление противоречит Всеобщей декларации прав человека (1948 г.) и Международному пакту о гражданских и политических правах (1966 г.), провозглашающих права и свободы каждого человека на политические и иные убеждения19.
Однако «преступное политическое» содержание советские правовые нормы квалифицировали как преступления уголовные. Отнесение политических преступлений к типу уголовных основывалось на необходимости защиты «единственно верной идеологии». Следственное и судебное доказательства антисоветской политической мотивации были невозможны без политических оценок, критерии которых оставались неопределенными, ситуативными и зависели в первую очередь не от законодательства (оно в этом случае лишь давало карт-бланш власти для борьбы с ее явными и скрытыми критиками), а от позиции действующих политиков.
В истории СССР, особенно после революции 1917 года и в сталинское время, существовала жесткая зависимость массовых репрессий от политической и идеологической конъюнктуры. Преследовали как за дела, так и за убеждения, если они противоречили политической линии партии. При этом, нельзя не согласиться с А.В. Наумовым, который отмечал, что: «с образованием в России в октябре 1917 года первого в мире социалистического государства стала совершенно очевидной классовая направленность зарождавшегося социалистического уголовного права»20.
Нетрудно заметить, что во всех приведенных формулировках на первое место выдвигались интересы государства, и, соответственно, любое преступление, в зависимости от контекста и желания власти, можно было отнести к разряду политических.
Попытки научного определения понятие преступного предпринимались и советскими исследователями в области уголовного права. Причем в большинстве определений все так же присутствовала «политическая составляющая». Так А.А. Пионтковский в 1952 году определял преступление как «опасное для социалистического государства или социалистического правопорядка, противоправного, виновного, наказуемого действия или бездействия»21.
В советском уголовном праве с самого начала большое значение придавалось органическому обоснованию классовой сущности преступления. Так советское право складывалось как право нового исторического типа — право социалистического государства. При этом в качестве аксиомы провозглашалось, что «уголовное право как правовая форма организации государственного принуждения в борьбе с преступностью всегда имеет классовый характер» . Таким образом, теперь уже официально, любое преступление превращалось в преступление классовое или политическое.
Крах советской политической системы привел к изменению не только правовых норм, но и отношения общества к пониманию «политического содержания» преступления. Перестройка М.С. Горбачева началась с реабилитации партийных лидеров, репрессированных при Сталине. Напротив «преступным» внезапно стало, то, что на протяжении 70 лет советской власти было «единственно верным», «подлинно демократическим». Вчерашние герои также внезапно превратились в преступников, что и было продемонстрировано свержением сих с пьедесталов и установкой новых монументов (например, камня памяти жертв репрессий 1930-х вместо памятника основателя ВЧК Ф.Э. Дзержинского).
Так в структурировании новой политической реальности понятие политическое преступление существенно трансформировалось. Причем, учитывая условия социокультурного кризиса в самом изменившемся содержании понятия прослеживается архаическая дихотомии «МЫ» — «ОНИ», в которой «ОНИ» - противостоящие, воспринимались, как «преступники», «преступное сообщество», «клан», «семья», «фашисты», «красно-коричневая угроза» и т. д.
Исходя из обозначенного интенционного поля понятия «политическое преступление!» мы вкладываем в него следующее содержательное наполнение:
• При возникновении коммуникационного диалога политического дискурса метафора «политического преступления» становилась маркером обозначения оппозиционной позиции партнера по диалогу.
• Само понятие «политическое преступление» в данном контексте . становилось призмой, через которую фокусировались векторы направленности развития политического дискурса критики.
• Метафора «политическое преступление» символизировала отношение вырабатываемое участниками политического дискурса к сторонам, которые выступали с критикой их позиций в данном коммуникативном поле.
Между тем в ситуации трансформации как в целом самой политической системы, так и коммуникаций между ее основными политическими акторами именно критика становилась важнейшей детерминантои всего контекста политического дискурса. Сама же политическая критика в этом русле может быть интерпретирована как альтернатива, задающая вектор ближайшего развития, инициирующий выработку всего спектра возможных вариантов потенциалов, определяющих основные сценарии политического будущего страны.
Историографическая традиция исследования проблемы.
В содержании современных дискуссий о природе, свойствах и качествах политического явно обозначаются две тенденции: первая - к расширительному толкованию понятия политического, и вторая — к сведению политического к особой системе операций и механизмов деятельности. При этом все большее внимание обращается авторами на процессы качественного изменения сферы политической жизни во времени. Простое деление политики на до-нововременную и нововременную уступило более сложным градациям. Наряду с названным разделением, активно используются понятия «современная политика», «политика постмодерна», «политика периода глобализации» и др. Несмотря на множественность сосуществующих подходов, внутри них, сохраняются в качестве достаточно устойчивых, некоторые представления о смыслах, функциях и назначении политики как особой области социальной жизни.
К наиболее устойчивым признакам, выделяемым авторами, можно отнести следующие. Во-первых, вне зависимости от существа базовых теоретических подходов, политика по прежнему характеризуется как система отношений, ценностей, идей, складывающихся в связи и по поводу власти. Во-вторых, сама политическая власть все чаще воспринимается в ряду других акторов политической жизни.
Все это определяет особый интерес исследователей к природе и содержанию отношений, складывающихся между различными акторами политики в системе политического, то есть к проблемам политического диалога.
Важнейшей частью историографической основы диссертационного исследования являлись работы, посвященные изучению политических коммуникаций в современном обществе. В западной политологической литературе рассмотрение этих проблем имеет давнюю научную традицию.
В рамках концепций постиндустриализма эти вопросы разрабатывали П. Бурдье, П. Дракер, М. Кастельс, М. Маклюэн, К. Поппер, Э. Тоффлер и др. Изучение политических коммуникаций проводилось также на базе школы структурного функционализма («системная модель» политической системы Д. Истона и «кибернетическая модель» К. Дойча). Появился и ряд отечественных публикаций, в которых анализировались вопросы политического управления, социальной обратной связи и роли политических коммуникаций в реализации политических задач, В работах Л.Л. Бейкера, В.Р. Бадда, Г. Лассуэлла, Д. Фиске, С. Ратзена, С. Чанка, П. Сейтела, Д. Вотса предложены основы современных концепций массовой и политической коммуникации. С точки зрения изучаемой темы нам представляется важным лассуэловское определение модели массовой коммуникации как «акта коммуникации», раскрывающегося как ответ на последовательно возникающие вопросы: «кто говорит? что говорит? по какому каналу? кому? с каким эффектом?». Это определение позволяет структурировать исследование диалогового политического пространства.
В последнее время проблемы политических коммуникаций активно разрабатывают как зарубежные, так и российские авторы. Так в работах М.Д. Валовой, Т.Э. Гринберг, Е.А. Блажнова, С. Блэка, Л. Войтасика, М.Л. Земляновой, К.С. Гаджиева, Б.А. Грушина, Я.Н. Засурского, В.Н. Конецкой, Г.Г. Почепцова и др. особое внимание уделяется рассмотрению политических коммуникаций как социально - политически!® института.
Внимание таких авторов как М.Г. Анохин, B.C. Комаровский, В.И. Подшивалкина, Е.Г. Морозова, А.И. Ковлер, О.Ф. Шабров, И.Г. Яковлев сосредоточено на различных прикладных аспектах политической коммуникации: роли политических партий как коммуникационного звена между обществом и государством, воздействию политических технологий на социально-экономическое развитие государства и др.
Собственно проблемы политического диалога исследуются преимущественно в американской политической науке (Dalton R.J. Putnam R, Cohen J.). В работах этих авторов предпринимаются эффективные попытки разобраться в функциональном и структурном феномене политических коммуникаций в современном обществе. Однако даже американские исследователи обращают внимание, прежде всего, на деятельность политических акторов, участвующих в формировании политического дизайна, а так же на выявление и анализ эффективных технологий, с помощью которых он формируется.
В рамках системно-коммуникативного подхода мы опирались на идеи одного из его основателей Д. Истона4 Среди выделенных им и значимых для нас компонентов - «система», «среда», «реакция», «обратная связь»23. Однако этот подход не снимает, всех вопросов, имеющих существенное значение для понимания, современной политики и политического диалога.
Отмечая это, я совершенно не предполагаю адресовать упреки Истону или кому-либо из лидеров современных политических школ. Как раз их множественность и конкуренция и позволяют продвигаться вперед в постановке и осмыслении основных тенденций и эволюции политической жизни -СМ.)
Теоретические основания исследуемой нами темы формируются в одной из последних и небесспорных работ российского автора В.М.Сергеева «Демократия как переговорный процесс». Автор предлагает рассматривать современность как систему непрерывного и непрекращающегося диалога, а, соответственно, демократический процесс как способ диалогового взаимодействия24. Сам по себе этот вывод имеет явные корреспонденции к базовым идеям М.М. Бахтина, и их интерпретациям B.C. Библером. На наш взгляд распространение этих идей на сферу политического дает принципиально новые интеллектуальные возможности для анализа природы и своеобразия политического диалога и политического взаимодействия, как особой системы социальных коммуникаций. Сделанные авторами акценты на диалоге и переговорном процессе могут быть вполне проинтерпретированы в контекстах временных и культурных проекций, учитывая к тому же, поливариантные зоны сопряжения.
Значительной частью историографической традиции важной для поставленной нами цели являются исследования, посвященные проблемам становления, эволюции и содержанию политической критики. Собственно речь идет о целом пласте исследований, так или иначе выходящих на проблемы социального взаимодействия.
Так, например, авторы, занимающиеся исследованием русской политической культуры (Ю.Пивоваров, В.Сергеев, Н.Бирюков и др.), обращают внимание на целый ряд причин и условий которые стимулируют закрепление и трансляцию традиций политической критики как одного из глубинных свойств российской политической культуры.
Важной и значимой частью историографической традиции с точки зрения выдвигаемой нами исследовательской гипотезы стали исследования, посвященные понятию политического преступления, его содержанию и эволюции. Естественно, что традиция исследования понятия «политическое преступление главным образом складывается в рамках юридического подхода.
В современной отечественной юридической литературе упоминание о существовании феномена политической преступности связанно с рассмотрением проблем ее предупреждения и стратегии противодействия,25 а также разработкой и принятием нормативных актов, в которых упоминается о политических преступлениях, или иначе называемых «преступлениями v-политического характера» . Первые работы по этой теме в России появились в начале 1990-х гг. в связи с необходимостью юридического осмысления преступлений коммунистического режима27.
Авторы книги «Политический режим и преступность» выделили три подхода к определению политической преступности: уголовно-правовой, -28 мотивационнои и оценочный .
Одним из первых нр Ерлнял- попытку определить с юридической точки зрения термин «политическая преступность» в контексте российских реалий 1990-х гг. предпринял В.В. Лунеев. По его мнению, политическая преступность представляет собой общественно опасные формы борьбы правящих или оппозиционных политических элит, партий, групп и отдельных лиц за власть или за ее неправомерное удержание29. При этом автор рассматривает политическое преступление почти исключительно как форму политического терроризма30. Характеризуя «политическую преступность» высших должностных лиц советского государства в своей статье «Политическая преступность» В.В. Лунеев, дает ей следующее определение: «Политическая преступность как криминализированная преступность властей против своего народа»31. В последующих своих работах автор не рассматривает исследуемое понятие, а лишь приводит современные формы его проявления в обществе (политический терроризм, политическая продажность и коррупция в политике)32.
В современной зарубежной юридической литературе в понятие «политическое преступление» включается чаще всего «политическая продажность» (коррупция) . Такоч подход во многом стал следствием , отсутствия единства интерпретации данного понятия в культуре и традиции международного права.
Однако большинство исследователей, как отечественных, так и зарубежных, в рамках юридического подхода дают определение термина политическая преступность с криминологической точки зрения. Так, по мнению Д.А. Шестакова, в общесоциальном понимании «политическая преступность проявляется в виде преступлений населения против государства и преступлений самой власти по отношению к народу»34. По определению Г.Н. Горшенкова, «политическая преступность» - это совокупность уголовно-наказуемых деяний, избираемых в качестве средств достижения целей политического характера»35. В этом определении выделено два характерных признака исследуемого явления: первый -политическая цель совершения преступления; второй - уголовная наказуемость подобных деяний. Однако при таком определении не раскрывается сущность «политического преступления», т.е. что следует понимать под целями политического характера.
B.C. Устинов считает, что политическая преступность складывается из преступлений, совершенных с целью насильственного захвата государственной власти вооруженным путем. В качестве основных видов политической преступности он выделяет: деятельность партий, движений по насильственному захвату власти, насильственному созданию нового государства, присоединению территории другого государства (военный переворот); антиконституционное смещение законно избранной власти . Автор также выделяет сущностные признаки, характеризующие политическую преступность как криминальное явление. К ним он относит -насильственную деятельность преступников по отношению к жертве; цель преступления или преступной деятельности - захват власти; вооруженный путь достижения цели. Далее автор делает вывод, что преступную деятельность советского государства не следует относить к политической преступности на том основании, что такую оценку ей может дать только международное сообщество в соответствии с нормами международного права, причем нередко только после смены политических режимов, и, как правило, не современниками, а будущими поколениями. Он называет этот феномен одним из видов политической преступности - тоталитарной преступностью37.
Немецкий политолог Г. Шнайдер, рассматривая феномен политической преступности, указывает на то обстоятельство, что в современной криминологической науке это социальное явление рассматривается с трех различных точек зрения. В узком, уголовно-правовом смысле этот термин охватывает «все деликты, которые в Уголовном кодексе обозначены как политические преступления: измена миру, государственная измена, создание угрозы демократическому правовому государству, преступления против иностранных государств, деликты против конституционных органов и нарушающие порядок выборов и процедуры голосования, а также о о преступления, ослабляющие обороноспособность страны» .
Другой подход, обозначенный Г. Шнайдером, предполагает рассмотрение политических преступлений с точки зрения мотивации поведения преступника. Согласно этому подходу, к политическим можно отнести преступления, совершаемые с целью сохранения или изменения политической системы, распределения власти в ней и её структурах с использованием преступных средств и методов.
И наконец, третий, обозначенный Г. Шнайдером подход отражает психо- и социально-динамическую реальность. Он сводится к определению того, в какой мере участники этого процесса придают свершившемуся действию политическое значение39.
Таким образом, в рамках юридической традиции не сформировалось универсального понятия «политическое преступление» и о взаимодействии таких социальных явлений как политический режим и преступность, несмотря на то, что ряд исследователей делали попытки разобраться в проблеме.
Важнейшей с точки зрения исследуемой темы составной частью историографической традиции является изучение процессов трансформации в России в период сер. 1980 — н. 1990-х годов.
Уже в период подготовки празднования 70-летия Октябрьской революции 1917 года самым распространенным в советской общественно-политической литературе40 оказался тезис, согласно которому перестройка рассматривалась как продолэюение и воплощение принципов Октября. Тем самым, с одной стороны, подчеркивалась ее преемственность с идеалами Октября, с другой - она противополагалась как явление альтернативное не только мировому капиталистическому порядку, но и как альтернатива тем деформациям, которые накопились в ходе социалистического строительства. Этот тезис стал по сути определяющим все содержание главного политического документа СССР - доклада Генерального Секретаря ЦК КПСС, М.С. Горбачева41.
Вопрос же о том, от какого политического наследства должен отказаться советский народ, выдвинулся в центр политической публицистики середины - второй половины 1980-х годов. Характерно, что официальная политическая идеология быстрее всего сдала две твердыни: брежневское политическое наследие; политический опыт и традицию сталинизма42.
Более того, достаточно быстро выяснилось, что степень дистанцирования от данных элементов политического прошлого стало гарантией получения эффективного политического будущего.
В политической публицистике второй половины 1980-х — начала 1990-х годов сложилось несколько доминирующих направлений.
Первое было связано с критикой сталинского режима как режима, в основе которого была система политических преступлений (М.Капустин, И. Клямкин, А. Ципко и др.43).
Второе определялось акцентами на критике брежневского режима как режима восстановившего базовые сталинские ценности и паразитировавшего на них .
Третье формировалось как признание того, что социализм и его ценности не совместимы с современными представлениями об общественном прогрессе и могут рассматриваться исключительно в качестве масштабного социального эксперимента, за проведение которого приходилось расплачиваться громадным массам населения45.
В целом исследование историографической традиции позволяет сделать ряд выводов.
В современных политических исследованиях осмысление природы, смысла и содержания политических коммуникаций занимает все более интеллектуально значимое место. Однако до сих пор в изучении процессов политической трансформации в России этим аспектам не уделялось сколько-либо серьезного исследовательского внимания. И в целом проблема политической критики как одного из системообразующих компонентов политических коммуникаций до сих пор остается неизученной.
Практически вне зоны внимания исследователей осталось выявление структурообразующих смыслов политической критики (как системообразующего элемента политического дизайна) и выявление политических метафор, вокруг которых разворачивался политический диалог. В российских и зарубежных исследованиях практически не обращалось внимания на активное использование политической публицистикой для критики и преодоления предшествующего политического опыта понятия политическое преступление. По нашему мнению исследование политической критики и ее системообразующих смыслов открывает значительные перспективы для анализа содержания и качества политической современности.
Цель и задачи диссертационного исследования. Цель диссертационного проекта состоит в исследовании содержания политической критики как важнейшего элемента политической коммуникации, определявшего структуру политического дизайна России в сер. 1980-х -н. 1990-х годов.
Для реализации этой цели решаются следующие исследовательские задачи:
исследование факторов, влиявших на формирование содержания политической критики;
рассмотрение механизмов актуализации и использования базовых понятий, основных этапов и эволюции смыслов политической критики;
выявление системообразующих понятий, вокруг которых конструировалось основное содержание политической критики;
анализ способов интерпретации системообразующих понятий в процессе российской политической трансформации.
Исследовательская гипотеза диссертации формулируется как предположение о наличии в структуре критики в условиях трансформационных процессов определенных системообразующих смыслов и понятий. Мы предполагаем, что для периода трансформационных процессов 1985 - 1993 гг. таким понятием стало понятие «политическое преступление». Именно это понятие стало фактором, определявшим политический дизайн России.
В своей гипотезе мы исходим из предположения о том, что в системе российских политических коммуникаций критика играла системообразующую роль, а в ее границах ключевым оказывалось понятие «политического преступления». Через это понятие решались проблемы политической идентичности основных акторов российской политики.
Данная гипотеза базируется на современных принципах политической антропологии, признающих значимость как парадигмальных, так и политико-культурных оснований формирования и функционирования политического бытия и политического пространства.
Источниковые основы диссертационного исследования. Выбор цели и постановка исследовательских задач предопределили выбор источников и приемов их научной критики.
Первую группу источников составляют официально-документальные материалы, на основании которых восстанавливались основные элементы формирования и развития советской политической традиции, отношение к которой влияло на выработку и функционирование современной российской политической культуры.
Прежде всего, речь идет о материалах съездов Верховного Совета СССР46, пленумов ЦК КПСС, Конференций и съездов КПСС перестроечных лет47, в которых содержится актуальная для нашего исследования информация о содержании и направленности политической критики и степени ее эффективности48. К этой же группе мы относим документы советских органов власти , выступления, речи и статьи политических лидеров второй половины 1980-х-первой половины 1990-х годов.50
Следующую группу источников составляют правовые акты. Среди них следует выделить законодательные акты Союза ССР и Союзных республик, которые фиксируют процесс становления, развития и эволюции регулятивных основ политической деятельности, а так же отношение к понятию «политического преступления». В составе этой группы источников- основополагающие акты вк Конституция Российской Федерации 1993 года51, и важнейшие государственно-правовые акты РФ/52»
Принципиально важное значение для диссертационного проекта имело изучение Уголовных кодексов РСФСР и РФ, позволивших выявить развитие основных тенденций изменения государственной политики в отношении к политическому преступлению53.
К третьей группе источников относятся политические выступления и заявления политических лидеров. Особое место среди них занимают работы М.С. Горбачева54, в которых содержится информация о формировании нового курса власти и той роли, которую играла политическая критика в становлении политических приоритетов. Сюда же относятся и документы, которые содержат представление о формировании новых политических установок и ценностей55.
При подготовке диссертационного исследования использовались и материалы российской периодической печати середины 1980-х — начала 1990-х годов («Правда», «Российская газета», «Независимая газета», «Литературная газета», «Известия», «Московский комсомолец», «День», «Советская Россия», «Парламентская неделя», «Русский порядок», «Проблемы мира и социализма», «Коммунист» и др.). Периодическая печать исследуемого периода, содержит важную для нашего исследования информацию о содержании политической критики, ее направленности и метафорах, вокруг которых она структурировалась. Кроме того, именно в периодической печати содержится информация, отражающая реакцию общества на резкую конфронтационную риторику оппонентов56.
И, наконец, в процессе подготовки диссертационного исследования активно использовалась мемуарная литература57. Рассмотрение мемуаров главных действующих лиц перестройки, несмотря на субъективизм, характерный для данного вида источников, позволяет выявить характеристики, которые авторы дают различным политическим лидерам и группам, принимавшим участие в формировании политической культуры современной России.
Теоретические и методологические основания диссертационного исследования. В современной политической науке весьма активно дискутируется вопрос о роли и значении идеологического дискурса в выработке и формировании современной политики.
Модернистская традиция, все еще оказывающая влияние на поиск и реализацию теоретических предпочтений ориентирует исследователей на рассмотрение политики и политического как производного от совокупности социально-политических условий их бытования. Иными словами все еще актуальным для многих исследователей остается классический марксистский тезис о том, что «бытие определяет сознание»5 , а базис - надстройку (при этом политика однозначно интерпретируется как элемент надстроечных явлений).
Вместе с тем все более актуальным становится признание постмодернистской парадигмы, согласно которой наше бытие таково, каким его воспринимает и формирует наше сознание. Подобные, казалось бы, чисто умозрительные, посылки активно вторгаются в современную жизнь в самых неожиданных ситуациях. Проблема доверия или недоверия к правительственному курсу оказалась в центре общественной полемики в связи с реализацией закона о монетизации льгот59.
В качестве основных исследовательских методов использовались методы дискурсивного анализа и контент-анализа, которые позволили поставить и по-новому осмыслить ряд принципиальных политических проблем.
Научная новизна диссертационного исследования. Впервые в отечественной политической науке в диссертационном исследовании проведено всестороннее исследование феномена политической критики как важнейшего элемента современной политической коммуникативной культуры. •
Это позволяет вывить характерные черты «советской политической критики»: монологизм, актуализацию архаических элементов, направленность на поиск «врага», и апеллирующую к базовым основаниям социальной деструкции.
В ходе исследования проблемы выявляется совокупность факторов, воздействовавших на трансформацию содержания и смыслов политической критики, тем самым исследуется динамическая характеристика эволюции политической критики в периоды глубоких трансформационных процессов.
В диссертационном исследовании выявляются, анализируются и описываются основные функции политической критики, а также своеобразие критического потенциала, используемого различными политическими акторами в ходе выстраивания современного политического дизайна.
Особое внимание уделяется процессам эволюции политической критики в ходе глобальных трансформационных перемен перира перестройки и постперестроечного периода.
В научный оборот вовлекается широкий спектр официально-документальных и публицистических материалов, позволяющих выявить разнообразные механизмы использования политической критики, а также своеобразие политического диалога внутри российского политического пространства второй половины 1980-х — етерЬйгполовины 1990-х гг.
Проводимое исследование позволяет обосновать, что системообразующим элементом политического дискурса явилось понятие политического преступления, вокруг которого конструировалось новое политическое пространство.
Практическая значимость диссертационного исследования. Результаты проведенного исследования могут быть использованы в процессе разработки и чтения базовых учебных курсов по современным политическим процессам в России, истории политических партий и движений и др.
Кроме того, полученные выводы могут быть использованы в практической деятельности связанной с избирательными и консалтинговыми практиками.
Апробация выводов, выносимых на защиту. Содержание диссертационного проекта обсуждалось на заседании кафедры культуры -мира и демократии в 2004 и 2005 гг. Основные положения апробировались на научных конференциях в Москве (2003), Сеуле (2003), Германии (2004).
Структура диссертационного исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения, приложения.
Во введении определяется основная исследовательская проблема, обосновывается ее актуальность, историографические, источниковые и методологические основания разработки, а также формулируются новизна и практическая значимость исследования.
Первая глава «Советский тип политической критики» выявляются основные функции, характерные черты и механизмы функционирования политической критики как важнейшего коммуникативного элемента советской политической культуры.
Во второй главе «Политическая критика периода кризиса советской политической системы» выявляются основные факторы, влиявшие на процесс трансформации содержания и смыслов политической критики, а также определяется место и роль ее системообразующего понятия — «политическое преступление».
В третьей главе «Политическая критика первой половины 1990-х гг.» исследуются процесс изменения функций политической критики и размывания базового системообразующего понятия в связи с переменой сущностных характеристик основных политических акторов н. 1990-х гг.
В Заключении подводятся итоги проведенного диссертационного исследования.
В приложении приводится список источников и литературы по теме диссертационного исследования.
Советский тип политической критики
Хотя в изучении истории развития советской политической мысли остается еще много непроясненного, работы отечественных и зарубежных авторов позволяют выявить целый ряд ее (политической мысли) существенных черт. Многие из них сформировались как отражение и продолжение генезиса крайних форм русского революционизма и цивилизационных особенностей русской интеллектуальной культуры3.
Во-первых, обращает на себя внимание крайний монологизм, почти полное отсутствие поля интеллектуальной состязательности.
В значительной степени это стало следствием вполне определенной интерпретации российскими марксистами взглядов Ф. Энгельса на теоретическую деятельность как разновидность классовой борьбы. В.И. Ленин в работе «Что делать?» отмечал, что Энгельс «признает не две формы великой борьбы социал-демократии (политическую и экономическую), как это принято делать у нас, а три, ставя наряду с ними и теоретическую борьбу»4. Исследователями обращалось внимание на крайнюю нетерпимость основоположников марксизма к иным точкам зрения5.
Российский политолог А.Ципко подчеркивал, что «нетерпимость Ленина к политической свободе... идет не от русского характера, а прежде всего от марксистского учения о диктатуре пролетариата, от марксистского убеждения, что буржуазные права и свободы, буржуазный парламентаризм и свобода печати должны пасть в ходе победоносной пролетарской революции». Он отмечал, что «Ленин как личность весьма схож со своим учителем Марксом. Ему свойственны та же безжалостность, та же грубость по отношению к политическому противнику, та же органическая неспособность допустить хотя бы частичной правоты своих противников, хотя бы частичной своей неправоты» .
Руководство Советской Республики официально признало создание неправового государства, где произвол стал нормой жизни, а террор — важнейшим инструментом удержания власти. Беззаконие было выгодно воюющим сторонам, так как разрешало любые действия ссылками на подобное у противника. Его происхождение объясняется традиционной жестокостью российской истории, остротой противостояния революционеров и самодержавия, тем, наконец, что Ленин и Плеханов не видели греха в убийстве своих идеологических противников, что «вместе с ядом социализма русская интеллигенция в полной мере приняла и отраву народничества»7.
На V съезде РСДРП даже возникала дискуссия о праве членов партии на самостоятельные воззрения в области теории8. Однако, пугавшая российских социал-демократов популярность идей Э. Бернштейна, допускавшего полную свободу философских воззрений в рядах социал-демократии9, стимулировала не только консолидацию большевиков вокруг ленинской точки зрения о том, что партийность несовместима со свободой теоретических воззрений10, но и поддержку этой позиции значительным числом делегатов съезда11.
После политической победы большевиков установилась строгая иерархия не только в политических, но и в теоретических вопросах. Ленин однозначно признавался основным теоретиком, хотя сам всячески подчеркивал неоригинальность своих теоретических воззрений, свое ученичество по отношению к Марксу . В то же время ближайшему окружению Ленина позволялось представлять себя в качестве его (Ленина) учеников и выдвигать некоторые самостоятельные идеи, представляя их в качестве интерпретации и комментариев к ленинским выводам.
Подобная традиция была настолько сильной и устойчивой, что даже в Кратком курсе ВКП (б) редактировавший его Сталин, сохранял тезис о своем ученичестве по отношению к Ленину13.
Еще более однозначным он был в своей «Краткой биографии»14 и многократно переиздававшихся лекциях «Об основах ленинизма»15. В
первоначальном тексте биографии была следующая фраза: «Сталин - это Ленин сегодня». Сталин заменил ее следующей формулировкой: «Сталин -достойный продолжатель дела Ленина, или, как говорят у нас в партии, Сталин - это Ленин сегодня»16.
XX съезд КПСС, начавший публичную политическую критику сталинизма, казалось, внес существенные коррективы в отношение к данному вопросу. Во всяком случае, и Н. Хрущев, и М. Суслов, и Б.Пономарев, поднимавшие в своих выступлениях проблемы отношения к теории, не только критиковали Сталина за допущенные ошибки в области теории, но и проводили мысль о том, что на смену монополизма в области теоретической деятельности должно прийти коллективное творчество.
М. Суслов заявлял, что «чуждые духу марксизма-ленинизма теория и практика культа личности... наносили значительный ущерб партийной работе, ... так как умаляли роль народных масс и роль партии, принижали коллективное руководство, подрывали внутрипартийную демократию»17.
На открытом заседании съезда Н. Хрущев призвал к восстановлению и всемерному укреплению «ленинского принципа «коллективности руководства»18. Зачитывая на закрытом заседании доклад «О культе личности и его последствиях», Н. Хрущев был более прямолинеен: «Мы должны... исключить всякую возможность повторения... того, что имело место при жизни Сталина, который проявлял полную нетерпимость коллективности в руководстве и работе, допускал грубое насилие над всем, что не только противоречило ему, но что казалось ему, при его капризности и деспотичности, противоречащим его установкам»
Политическая критика периода кризиса советской политической системы
Кризис советской политической системы, ставший реальностью во второй половине 1980-х годов, определялся ее неспособностью адекватно реагировать на вызовы времени. Система не смогла выработать ничего принципиально нового для решения глобальных проблем. Она была приспособлена только к тому, чтобы поддерживать и воспроизводить собственную систему ценностей. Но даже механизмы трансляции этих ценностей оказывались все менее эффективными. Базовые институты советского общества стремительно теряли авторитет, советский образ жизни утрачивал привлекательность, а коммунизм из программной цели превратился в персонаж анекдотов1.
В результате советская политическая система стала объектом тотальной критики, исходившей из различных к/тугое. Критическое осмысление самой системы и ее системообразующих факторов разворачивалось как изнутри, так и извне. Переоценка ценностей, развернувшаяся на фоне социального кризиса, подготовила базу для перемен. Эта же эпоха породила различные типы критических практик.
Критика «изнутри» системы была связана с осознанием кризиса системы направлена на поиск выхода из этого кризиса. Так как основой системы была КПСС, а точнее в советской системе ее Политбюро и персонально генеральный секретарь, то именно партийные документы, в которых формулировалась «генеральная линия» развития страны конца 1980-х отражают возникновение новой системы вопросов.
Критика изнутри имела целью не столько слом или глубокую трансформацию политической системы, сколько поиск вариантов ее оптимизации и придания ей более эффективных способов и приемов функционирования.
«Внесистемная» составляющая критики была представлена возникшими в постсталинский период неинстуцианолизированными общественными группами (диссиденты, как в Советском Союзе, так и за рубежом). К этому же лагерю можно отнести и, так называемые, «околодиссидентские круги», разделявшие взгляды диссидентов, но выражавшие их либо непублично, либо в завуалированной форме (социальная фантастика, сатира, гуманитарные науки, образование и т. д.).
При всей своей «внесистемности» и, казалось бы, при отсутствии возможности явного влияния на формирование идеологических приоритетов развития общества, в условиях кризиса системы именно наличие (и даже расширение) этой группы формировало основу поддержки тех перемен, которые будут предложены властью.
Поколение 1960-х, воспитанное хрущевской оттепелью, получившее «урок критического осмысления» собственной истории, не просто было готово, но и стремилось к критическому осмыслению настоящего.
Именно эту группу европейски образованной научной и творческой интеллигенции Н.Бирюков и В.Сергеев выделяют как проводника социальной модернизации, ориентированной на Запад. Из технической модернизации технократической элиты советской эпохи вырастала идея социальной модернизации, которая «по мере углубления кризиса «реального социализма» и утраты основными институтами советского общества былого динамизма» заставляла «часть правящей элиты... все более и более благосклонно относиться к modus vivendi и modus operandi политического и идеологического противника»2.
«Щелка» в железном занавесе, появившаяся в 1960-е и не окончательно закрытая в 1970 - н.1980-х гг., пропускавшая «вражеские голоса», некоторые запрещенных к изданию в СССР книги, кое-что из западного кинематографа создавала основу будущей оппозиции. Публичный протест «инакомыслящих» «взбудоражил общественное мнение, прорвал информационную блокаду; он требовал от каждого осмысления факта, укреплял собственное достоинство... он подрывал монополию страха, монополию власти на интерпретацию событий, на информацию, разрушал мнимое «морально-политическое единство», принцип большевистской корпоративности - в этом также проявилась гражданская, историческая, нравственная миссия «инакомыслящих»3.
А политические анекдоты, ставшие массовым явлением социальной реальности, переносили опыт узкого круга интеллектуальной элиты в широкое общественное поле.
В это время в среде интеллигенции «в противовес «юношескому максимализму» формируется компромиссная психология «двойного стандарта» поведения, которая в идеологическом плане оформилась в кентаврической модели «социализма с человеческим лицом»»4. Естественно, что и система (власть) была включена в это изменяющееся общественно-политическое пространство. Соответствующим образом это влияние формировало основу для нового политического курса. Так складывалось сотрудничество интеллигенции достаточно разнообразных ориентации с официальной властью, которая «постепенно присваивала себе концепцию «социализма с человеческим лицом», а в недрах самого партийно-государственного аппарата начали допускать формирование группы интеллектуалов, подготовившие идеологические предпосылки выхода из «застоя» к «перестройке» 1980-х годов»5.
Именно на эта группа станет опорой М.С. Горбачева в начале перестройки. Практическими же шагами к сближению будут возврат А.Д. Сахарова из горьковской ссылки, разрешение на публикацию в «Новом мире» произведений А. Солженицына и И. Бродского. А в публичном выступлении в США М. Горбачев назовет интеллигенцию «дрожжами», присутствующими в любом обществе и вызывающими «брожение в умах». Он признает необходимым участие интеллигенции в политике для придания ей «нравственного элемента»6.
Так произойдет кратковременное сближение демократов-правозащитников и идеологов-реформаторов на общей перестроечно -демократической платформе.
Эпоха перестройки «легализует» диссидентские лозунги, и даже воспользуется многими из них. Но сама претензия интеллигенции (или скорее ее самоощущение) представлять собой «совесть нации», диктовала необходимость дистанцироваться от власти, оставаясь постоянно в оппозиции. Определяя специфику диссидентского движения, Л. Богораз и А. Даниэль пишут что «диссидентство как целое никогда не стремилось стать ни политической оппозицией, ни тем более политической партией». Главное для диссидентов было осознание своей личной ответственности за судьбу общества.
Перемены, предложенные властью «сверху в годы перестройки, окажутся для этой группы недостаточными (или не совместимыми с идеалами)8.
Горячо поддержавшая в начале политику перестройки либеральная интеллигенция (как достаточно целостная, но не институционализированная группа для советского периода) довольно быстро разделилась. Часть этой группы, попав в группу горбаческих советников, фактически и стала основным создателем «теории перестройки» (А.Н. Яковлев и др.).
Другая часть, оказавшись в «новых советах» (Г. Попов, А. Собчак) или в числе депутатов Съезда Советов СССР (Ю. Афанасьев, Г. Старовойтова и др.) вскоре начали консолидироваться вокруг идеи ограниченности (недостаточности) «либерализма» в реформах Горбачева. Ядром этого лагеря будет так называемая Межрегиональная депутатская группа, лидером которой станет Б.Н.Ельцин. В 1990-1991 гг. происходит организационное оформление этой группы на базе движения «Демократическая Россия», вначале объединявшим широкие круги противников советской системы и недовольных ограниченностью предложенных командой М.С. Горбачева реформ.
Политическая критика первой половины 1990-х гг
В политической истории России первая половина 1990-х гг. занимает особое место. Это не только время обретения Россией государственной независимости, но и важнейший период становления ее политической идентичности и формирования модернизационных приоритетов.
Итогом политического противостояния конца 1980-х гг. стал путч 19 августа 1991 г. При этом публичные организаторы путча на самом деле сыграли на руку стремившимся к независимости от федерального центра лидерам советских республик. Открыто стремление к суверенитету лидеры большинства республик не демонстрировали. Однако по оценкам их действий «демократической оппозицией» речь шла в первую очередь об обладании всей полнотой власти. Так, по словам Ю. Афанасьева, целью Б.Н. Ельцина «было безраздельное единовластие в России, а средство достижения цели он усмотрел в избавлении от союзных органов власти и той части советской номенклатуры, которая на момент заключения соглашений не успела еще переметнуться на его сторону как на сторону заявившего о себе российского вождя»1. Кроме этого, то, как быстро лидеры республик воспользовались предоставившейся возможностью, свидетельствует об их реальных намерениях.
Де-факто сразу же после подавления путча, возглавивший сопротивление Б.Н. Ельцин стал ключевой политической фигурой в России. Освобожденный М.С. Горбачев вернулся в «новую» страну. Беловежское соглашение от 30 декабря 1991 года на самом деле фактически всего лишь юридически зафиксировало сложившуюся ситуацию.
Демонтаж СССР означал радикальное изменение не только мирового геополитического пространства, но и столь же радикальное изменение российского политического дизайна. К системообразующим изменениям, на наш взгляд, следует отнести: демонтаж советской системы власти, начавшийся с ликвидации КПСС как стержня этой системы; стягивание властных полномочий к Президенту и связанный с этим процессом новый конфликт внутри властных структур 2; усложнение конфигурации оппозиции и изменение содержания критики, обусловленное усилением борьбы за политические ресурсы3.
Содержание противоречий между основными политическими акторами и, следовательно, фокус критики, определялся в рассматриваемый период вопросом о системе и организации власти в новой России. На наш взгляд, ответ на этот вопрос связан в первую очередь не столько с определением типа государственного устройства (парламентское - президентское — смешанное), сколько со стремлением сохранить или усилить статусную роль «перестроечных элит» в политическом процессе.
Реально претендентами могли выступать следующие группы 4. Б.Н. Ельцин и его окружение Состав. Представители либерально-демократических сил, поддерживавших Б.Н. Ельцина в его противостоянии горбачевскому окружению и наиболее консервативным элементам в рядах КПСС. Это была новая политическая элита, сформировавшаяся на волне противостояния Союзному государственно-политическому руководству.
Ресурсы. За этой группой стояла поддержка масс, прежде всего в крупных промышленных и административных центрах. Она могла опереться на значительные медиа-ресурсы (прежде всего, на контролируемые телеканалы)5 и поддержку международной демократической общественности.
Декларируемые этой группой цели — построение демократического правового государства, рыночные реформы сближение с Западом. Принципиально важным оказывалось то, что эта группа получила властные полномочия неожиданно. Переход от ориентации на долгосрочную
-перспективу оппозиции Союзному центру к реальным властным полномочиям оказывался для многих из них сложным политическим барьером.
В этом смысле постсоветская власть, по справедливому на наш взгляд мнению Ю.Афанасьева, как «власть-победитель» нуждалась в новых противниках, без которых «она не власть». Ей (власти - СМ.) «как воздух нужны враги». «Если врагов нет - их изобретают. Сначала изобрели врагов в лице развалившейся и немощной компартии. Потом — «красно-коричневую угрозу». Потом вскормили генерала Дудаева - для давления на Шеварнадзе -и начали войну с Чечней»6.
Руководство Советов в центре и на местах.
В состав группы входила, прежде всего, та часть руководства Советов, которая избирались на «альтернативной» основе и поддерживала Б.Н. Ельцина в его противостоянии с М.С. Горбачевым (Г.Х. Попов, А.А. Собчак и др.).
Ресурсы, Политический капитал, приобретенный за счет статуса «альтернативности» партийному руководству в годы перестройки; поддержка ряда демократических структур. Они могли опираться так же на организационные структуры советов и исполнительных комитетов; «статусность» позиции, публичность; местные элиты; собственные официальные печатные органы.
В процессе выборов эти лидеры завоевывали авторитет демократических структур, готовых проводить и отстаивать новую систему ценностей, Цели - как правило, речь шла о борьбе за властные приоритеты и полномочия в условиях запрета КПСС и свертывания политической деятельности партийных организаций на местах.