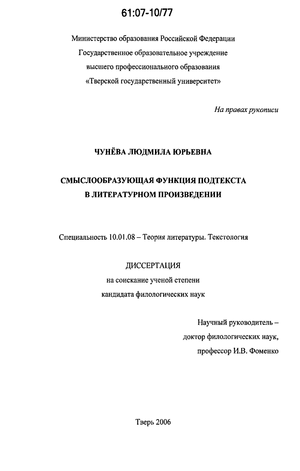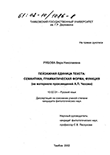Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Подтекст как литературоведческая проблема 12
Глава 2. Нарушение языковой нормы как механизм порождения подтекста 43
1. Слово и подтекст 46
2. Синтаксические видоизменения и подтекст 64
Глава 3. Диалогические отношения как основа формирования подтекста 81
1. Диалогичность слова и подтекст 81
2. Диалог как сфера формирования подтекста 87
Глава 4. Порождение подтекста в динамике повествования («Преображение» И.А. Бунина) 121
Заключение 153
Список используемой литературы 158
- Слово и подтекст
- Синтаксические видоизменения и подтекст
- Диалогичность слова и подтекст
- Диалог как сфера формирования подтекста
Введение к работе
«Подтекст» - одно из самых употребительных и одновременно самых неопределенных филологических понятий. Оно давно и прочно вошло в литературоведческий обиход, им широко пользуются, его содержание кажется очевидным и не заслуживающим особого внимания. Анализируя и описывая подтексты произведений Пушкина , Гоголя , Некрасова , Бунина, Булгакова, Цветаевой , Мандельштама и многих других прозаиков, драматургов и поэтов, исследователи, как правило, интуитивно или осознанно исходят из того, что подтекст - это «не лежащее на поверхности
Я О
значение высказывания» , «содержательная глубина текста» .
1 Иваницкий A.M. О подтексте поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник» // Рус. яз. за рубежом. 1993. № 2. С. 76-82.
Барабаш Ю.Я Гоголь: подтексты «Петербургского текста» (-их", -ов"): («Невский проспект» и «Портрет») // Литература, культура и фольклор славянских народов: ХШМеждунар. съезд славистов (Любляна, авг. 2003). М., 2002. С. 173-184.
3 Вигержа Л.И Стихотворение Н.А. Некрасова «В полном разгаре страда деревенская,..»:
текст и подтекст//Пушкинские чтения. 2001. СПб., 2002. С. 11-15.
4 Жемчужный И С. «Сны Чанга» И. Бунина: текст и подтекст // Культура и текст. СПб.;
Барнаул, 1997. Вып. 1: Литературоведение. Ч. 1. С. 69-73.
5 Ябпоков Е.А. Текст и подтекст в рассказах М. Булгакова («Записки юного врача»). Тверь,
2002. С. 96-99.
6 Баевский B.C. «Генералам двенадцатого года» М. Цветаевой: текст, подтекст, затекст //
Изв. АН РАН. Сер. лит. и яз. М„ 1992. Т. 51, № 6. С. 43-51.
7 Тименчик Р. Еврейские подтексты в «Египетской марке» Осипа Мандельштама // Yews
and Slaws. Yerusalem; St. Petersburg, 1993. Vol. 1. P. 354-358.
8 Сипъман Т.И Подтекст как лингвистическое явление // Филол. науки. 1969. № 1; Она
же. Подтекст - это глубина текста // Вопр. лит. 1969. № 1.
9 Полянский А.Н. Формы и функции неизреченного в текстах художественной литературы
// Науч. докл. высш. шк. Филол. науки. 1990. № 2. С. 54-62.
Метафоризм, лежащий в основе такого понимания слова «подтекст», обусловливает правомерность целого ряда метафорических синонимов: «второе дно», «подводное течение», «невидимая часть айсберга»1. В результате как подтекст воспринимается все то, что находится за пределами денотативного ряда (то есть все, что непосредственно не эксплицировано в тексте): психологизм, биографическая основа произведения или его эпизода3, аллюзии4, историко-литературная ситуация, тем или иным образом отразившаяся в тексте, и т.д. Неизбежным следствием такого широкого понимания подтекста становится и его типологизация. Основанием для выделения отдельных типов контекстов становятся история словесности6 и
Юсфин А Невидимая часть айсберга: (О нефиксированной части поэтического текста) // Лабиринт/ Эксцентр. Л.; Свердловск, 1991. № 1. С. 91-95; Заслаеский ОБ «Второе дно» // Мир Высоцкого: Исслед. и материалы. М., 2002. Вып. 6. С. 160-186.
'у
Муратов А.Б О «подводном течении» и «психологическом подтексте» в пьесе А.П. Чехова «Дядя Ваня» // Вести. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. История, язык, литературоведение. СПб., 2001. Вып. 4. С. 77-88.
3 Барский ОБО «семейственном» подтексте одной сцены трагедии Пушкина «Борис
Годунов» // Национальный гений и пути русской культуры: Пушкин, Платонов, Набоков в
конце XX в. Омск, 1999. Вып. 1. С. 53-57.
4 Долинин А А Пушкинские подтексты в романе Набокова «Приглашение на казнь»
// Пушкин и культура русского зарубежья: Междунар. науч. конф., посвящ. 200-летию со
дня рожд. 1-3 июля 1999. М., 2000. Вып. 2. С. 64-85.
5 Николаева СЮ. Литературно-исторический подтекст в первой пьесе Чехова
// Художественное восприятие: проблемы теории и истории. Калинин, 1988.
6 Петрова НА Взаимодействие фольклорных и литературных подтекстов в образе
черемухи у О. Мандельштама // Фольклорный текст - 98. Пермь, 1998. С. 119-130;
Левинтон Г.А. К проблеме эпического подтекста // Фольклор и этнографическая
действительность. СПб., 1992. С. 162-169.
история литературы , творчество того или иного писателя2, особенности авторского мировидения3 и т. д.
Поэтому естественно, что подтекст, окончательно теряя свою категориальную самостоятельность, толкуется и как нечто, состоящее из деталей , имеющее самостоятельную поэтику5 и мотивную структуру6, и как нечто со-противопоставленное предметному ряду и, соответственно, мотивной структуре7, как элемент содержания8 и синоним понятия «смысл»9.
Ратин А М Авангардистский подтекст в поэзии И. Бродского: предварительные наблюдения//Литературный авангард. Особенности развития. М., 1993. С. 170-187. Левинтон ГА. Ремизовекий подтекст в «Четвертой прозе» // Лотмановский сборник. М., 1995. Т. 1.С. 596-610.
3 Шмараков Р.Л Символический подтекст романа Ф.М. Достоевского «Бесы»: Автореф.
дис.... канд. филол. наук. М., 1999.
4 Жемчужный И С Цвет как явление художественного подтекста в прозе И.А. Бунина //
Культура и текст. 1999. СПб. [и др.], 2000. С. 188-198.
5 Ауэр А П. К поэтике подтекста в «Пиковой даме» А.С. Пушкина // Филология. Саратов,
2000. Вып. 5: Пушкинский. С. 106-109.
6 Яблоков ЕА Уснуть, чтобы проснуться: Подтекстные мотивы рассказа М. Булгакова
«Крещение поворотом» // Славяне. Письменность и культура. Смоленск, 2002. С. 54-60.
7 Якимова ЛИ Подтекст и мотивная структура произведений Л. Леонова // Леонид
Леонов и русская литература XX в. СПб., 2000. С. 22-34.
8 Кошляк А Б Подтекст как компонент структуры содержания художественного
литературного произведения, его виды и способы реализации. Уфа, 1986.
9 Александров А В Непрочитанный «Евгений Онегин»: Опыт прочтения потаенного
смысла романа. Анализ подтекста, комментарии. Щекино, 2001; Калюжный ВН
Подтекст и сверхсмысл «Чистого понедельника»: (Опыт комментария к статье
Л. Долгополова) // Висн. Харк. нац. ун-ту. Харькив, 2002. Сер. философия. № 35. С. 243-
249; Лекомцева Н В Форма и смысл: подтекст в «конкретной поэзии» // Пушкинские
чтения. 2002. М., 2003. С. 133-135.
Отождествление подтекста и смысла имеет свои основания. Когда в начале 60-х годов в «Лекциях по структуральной поэтике» Ю.М. Лотман ввел в науку понятие «смысл», оно было важно для него, прежде всего, как утверждение семантической значимости любого элемента текста. «Все ... элементы суть элементы смысловые»1. Отчасти это была полемика с Л.В. ЩербоЙ, считавшим, что в художественном произведении наряду с важным, существенным, есть и нейтральный «упаковочный материал»2. Но в гораздо большей степени это важно было как утверждение принципиального тезиса: смыслы порождаются взаимодействием всех элементов текста. Поэтому произведение можно и нужно рассматривать как «сложно построенный смысл»3.
Сложность состояла в том, что не было при этом определено содержание понятия «смысл(ы)». Оно оставалось крайне неопределенным . И, кроме того, речь, по сути, шла о «материализованных» в тексте авторских смыслах, которые должен открыть читатель.
Одновременно понятие «смысл» вводила в обиход филологическая герменевтика, ищущая и устанавливающая законы понимания текста. Особенности и «глубина» понимания читателем художественного текста стали здесь основанием для различения двух разных, но взаимодействующих уровней: содержания и смысла.
Содержание - это «предметная область», непосредственно представленная в тексте, номинация (называние) существа ситуации
1 Лотман ЮМ Лекции по структуральной поэтике // Ю.М. Лотман и тартуско-
московская семиотическая школа. М, 1994. С. 88.
2 Щерба Л В Избранные работы по русскому языку. М., 1957. С. 32.
3 Лотман Ю М Лекции по структуральной поэтике. С. 88.
4 Не случайно этого понятия нет и в «Материалах к словарю терминов тартуско-
московской семиотической школы» (Тарту, 1999).
(события), ее участников и т.д. Оно общедоступно и общепонятно, легко воспроизводимо (его можно пересказать без всяких потерь), потому что формируется совокупностью значений языковых единиц. Естественно, содержание не существует в чистом виде, так как ни одно высказывание не может быть воспринято только как непосредственная (эксплицированная) информация. Любое высказывание вызывает у адресата как минимум оценку (неважно, это приятие, неприятие или безразличие), поэтому любое высказывание при восприятии отягощается какими-то смыслами.
Высказывание на языке художественной литературы отличается от высказывания на литературном языке прежде всего тем, что художественный текст адресован определенной группе читателей и не рассчитан на всеобщее понимание. Поэтому и язык художественной литературы, и идиостиль писателя как вторичные моделирующие системы разрабатываются для того, чтобы передать не столько эксплицированную информацию, сколько авторскую концепцию, его мироощущение, которые не могут быть нормированными и требуют особого языка, чтобы «опредметить»2 их в тексте. Соответственно, и язык художественной литературы «строится по законам логики, но с некоторыми специфическими законами семантики», в нем «не действуют правила истинности и ложности высказываний», «невозможна, в общем случае, замена синонимами практического языка», напротив, «допустима более широкая семантическая и лексическая сочетаемость слов и высказываний, синонимическая замена в рамках имплицитных соглашений данного поэтического языка, языка отдельного
1 «Совокупное содержание текста состоит из предикаций в цепях пропозициональных
структур в рамках всего текста» (Богии Г И Обретение способности понимать: Введение в
филологическую герменевтику. М., 2001. С. 2).
2 Соваков БН. Стимулирование значащих переживаний средствами текста: Дис. ... канд.
филол. наук. Тверь, 2001.
произведения или автора» . Это приводит к тому, что художественное высказывание принципиально отличается от нехудожественного: в нем доминирует не содержание, а смыслы, не «что сказано», а «что это для меня значит».
Итак, «содержание эксплицитно выражено лингвистически словарными значениями составляющих текст единиц, тогда как смысл является продуктом сложного взаимодействия между различными элементами текста, внетекстовыми структурами, а также результатом определенных видоизмененных в тексте единиц»2. Однако смыслы актуализируются только в том случае и настолько, когда и насколько читатель готов их воспринять, когда он знает, что автор вложил в свой текст нечто большее, чем непосредственная информация, «что содержание недостаточно для усмотрения той содержательности3, которую вложил в текст продуцент»4. Иначе говоря, читатель должен уметь, пользуясь терминологией тартуско-московскои школы, декодировать текст и должен быть готов к мыследеятельности , то есть к пониманию того, что стоит за содержанием, за совокупностью значений языковых единиц.
Степанов Ю.С. Язык художественной литературы // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 609.
2 Исаева Л А Художественный текст: скрытые смыслы и способы их представления.
Краснодар, 1996. С. 24.
3 Под содержательностью здесь понимается «смысл вкупе с содержаниями»
(см.: Богин Г.И Субстанциональная сторона понимания текста. Тверь, 1993. С. 79).
4 Богин Г.И. Усмотрение содержаний и смыслов при понимании текста // Богин Г.И.
Обретение способности понимать... С. 32-34.
5 Богин Г.И Филологическая герменевтика. Калинин, 1982.
«Содержание, представленное в словах, закреплено в значениях, коль скоро слово берется как номинативная единица, смысл же существует лишь в коммуникации»1.
Таким образом, «между смыслом и содержанием нет ничего общего, кроме того, что они присутствуют в одном и том же тексте, но состоят из компонентов, представленных в разных сочетаниях... Усмотреть смысл единиц можно, только связав и соотнеся их». Но «связывание» и «соотнесение» - операции ментальные. Поэтому фундаментальное отличие содержания от смыслов в том, что содержание принадлежит сфере языка, а смыслы - сфере ментальности и потому принципиально не могут быть описаны. Кроме того, личный опыт, склонности, эстетические пристрастия, умонастроение, идеология, темперамент, культура читателя внесут свои поправки в смыслообразование. В зависимости от своего опыта читатель может актуализировать и те смыслы, которые непосредственно не соотносятся не только со значениями языковых единиц, но даже с текстом, потому что частью смыслообразующего механизма для него могут быть и датировка, и имя автора, и жанр, и пр.
Таким образом, смысл - это сфера ментальности, авторская и / или читательская концепции текста, которые могут совпадать в большей или меньшей степени.
Если рассматривать смысл именно так, то не остается оснований отождествлять его с подтекстом хотя бы потому, что подтекст в отличие от смысла не концептуален. Вместе с тем со смыслом подтекст роднит то, что и смысл, и подтекст - универсальные и взаимозависимые свойства художественного произведения.
1 Богин Г.И Субстанциональная сторона понимания текста. С. 68.
2 Богин Г И. Филологическая герменевтика. С. 33.
В диссертации предпринята попытка рассмотреть подтекст как один из основных смыслообразующих механизмов, переходное звено, соединяющее содержание и смысл.
В отличие от смысла подтекст может быть проанализирован как скрытая, не выраженная специальными регулярными языковыми средствами художественная информация.
Для того чтобы результаты не были случайными, материалом для анализа послужили произведения писателей разных эпох, отличающихся друг от друга и опытом, и эстетическими установками: А.С. Пушкина, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Л.Н. Толстого, М.А. Шолохова, А.Н. Толстого, Н.С. Лескова, В.В. Маяковского, В. Мариенгофа, И.А. Бунина, А.П. Чехова, А.И. Куприна, В.М. Гаршина, Б.К. Зайцева.
Актуальность исследования обусловлена, таким образом, необходимостью изучения подтекста как основы смыслообразования.
Научная новизна диссертации состоит в построении теоретической модели механизмов формирования подтекстов на отдельных уровнях структуры. Впервые подтекст исследуется как переходное звено между содержанием и смыслом, предпринимается попытка описания механизмов, позволяющих элементам художественного текста, оставаясь носителями содержания, служить основой смыслопорождения.
Теоретическая значимость исследования состоит в разработке положений, согласно которым подтекст является основой смыслообразования. Материалы исследования могут быть использованы при дальнейшем изучении подтекста и для выхода к конкретным процедурам литературоведческого анализа.
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и библиографии. В первой главе «Подтекст как литературоведческая проблема» анализируются основные исследования, посвященные проблеме
подтекста, предпринимается попытка определить значение, в котором будет использоваться термин «подтекст» в данной работе. Во второй главе «Нарушение языковой нормы как механизм порождения подтекста» прослеживается, как одни и те же компоненты текста одновременно становятся носителями и содержания, и смысла. Выдвигается гипотеза, согласно которой содержание и смысл коррелируются подтекстом, который, в свою очередь, становится основой смыслообразования. В качестве одного из механизмов порождения подтекста рассматривается трансформация языковой нормы на различных уровнях структуры. В третьей главе «Диалогические отношения как основа формирования подтекста» исследуются особенности возникновения подтекста как следствия диалогичности слова, а также рассматривается эксплицированный диалог в эпосе в качестве одного из проявлений диалогических отношений на уровне высказывания, что позволяет проследить возможности и особенности формирования подтекста в разных типах эпических диалогов. В четвертой главе «Порождение подтекста в динамике повествования («Преображение» И.А. Бунина)» проанализировано формирование подтекстов в процессе дискурсивного развертывания текста.
В заключении предлагаются основные выводы.
Слово и подтекст
Человеческая речь осуществляется при помощи звуков. Различные комбинации звуков образуют разные слова. В практической речи звуки почти не задерживают на себе внимания. Человек, как правило, воспринимает знакомую речь автоматически, не задумываясь над тем, как она звучит. Иная ситуация складывается при восприятии письменного текста, когда первостепенное значение имеет не звучание слова, а его графический облик. В художественном тексте роль графики усиливается, так как автор должен не только передать некую информацию, но и одновременно решить определенную художественную задачу.
Передавая на письме звучащую речь, автор может использовать два варианта записи слова: он либо учитывает существующую в языке орфографическую норму, либо нарушает ее. Нарушая норму, писатель тем самым видоизменяет языковую единицу и акцентирует на ней внимание.
В результате несоответствия звукового и графического облика слова происходит взаимодействие норм правописания и произносительных норм языка, что становится мощным средством формирования подтекста.
Так, например, заглавие сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина «Премудрый пискарь» представляет собой сочетание двух слов, которое буквально можно прочитать как «премудрая рыба» (= «очень мудрая рыба»). Благодаря такому сочетанию заглавие приобретает метафорическое значение, которое звучит по меньшей мере как оксюморон. Но этого мало. Название известной рыбы вопреки традиционному написанию (пескарь) у Салтыкова-Щедрина написано не через букву «е», а через «и». Такое написание на фонетическом уровне практически неразличимо («пискарь» и «пескарь» звучат примерно одинаково: [п искар ] и [п иэскар ]. И если воспринимать это заглавие на слух, то данное видоизменение языковой единицы не будет иметь значения. Однако «Премудрый пискарь» является литературной сказкой, предназначенной, прежде всего, для чтения. Поэтому замена всего лишь одной буквы в слове приводит к тому, что оно уже не воспринимается только как название рыбы. В словаре-комментарии к этой сказке читаем: «ПИСКАРЬ (пескарь), -я, м, «Премудрый пискарь». Мелкая рыба из семейства карповых, а Написание пискарь связано со словами писк, пищать (пискарь издает своеобразный звук, похожий на писк, если схватить его рукой). Нормой является написание пескарь»1. В слове сталкиваются два значения: «рыба из семейства карповых» и «писк, пищать». Написание пискарь сталкивает два значения: «рыба из семейства карповых» и «писк, пищать». Слово оказывается принципиально многозначным. Столкновение значений приводит к усилению иронии. Метафоризм заглавия усиливается. И если иметь в виду, что заглавие является одной из сильных позиций текста, то его осмысление предполагает дальнейшее восприятие текста как текста ироничного и иносказательного.
Таким образом, видоизменение графического облика слова (замена всего лишь одной буквы) существенным образом влияет на процесс смыслообразования. Совмещение двух разных словарных значений в пределах одной языковой единицы служит основой для возникновения подтекста. Это далеко не всегда учитывается. Так, например, авторы «Фразеологического словаря»1, используя пример из сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина для иллюстрации фразеологизма «ума палата», оставили нормативное написание «пескарь». «Ума палата у кого. Кто-либо очень умен. А у молодого пескаря ума палата была. Начал он этим умом раскидывать. Салтыков-Щедрин, Премудрый пескарь». В результате исчезло одно из оснований возникновения подтекста, и текст, лишившись важного подтекста, обеднялся в смысловом отношении.
Общеизвестно, что изменение графического облика слова достаточно часто используется и для того, чтобы передать особенности речи персонажей. К таковым, например, относятся анатомо-физиологические и ситуативные недочеты речи персонажей, различные речевые погрешности, оговорки и т.п. Но к этому следует добавить, что всякий раз в этих случаях изменение графического облика слова приводит к появлению подтекста.
Так, например, в одном из романов А. Мариенгофа герой картавит, пересказывая разговор со своим отцом, который состоялся, когда ему было шесть лет:
Синтаксические видоизменения и подтекст
При построении любого высказывания автор обязан учитывать синтаксические нормы, то есть нормы сочетания слов в словосочетании и предложении, а предложений - в тексте. Видоизменения на уровне синтаксиса главным образом сводятся к использованию неполных (эллиптических) конструкций или семантически избыточных структур (плеоназма). Неполные (эллиптические) синтаксические структуры предназначены формировать подтекст.
Природа неполных синтаксических единиц, особенности выражаемых ими смысловых отношений отчасти рассмотрены в лингвистике1.
Неполные конструкции в силу своей «недоговоренности» стимулируют воображение, то есть дают возможность для «достраивания» художественного текста.
Среди неполных (эллиптических) единиц можно выделить «структурно» и «семантически» неполные конструкции. «Структурно» неполные конструкции представляют собой формально неполные единицы, в «семантически» неполных имеет место содержательная (информативная) неполнота. Структурно неполные образования часто используются в речевых ситуациях и передают интонационные особенности и особенности речи героя. Обычно структурно неполные единицы встречаются в прямой или несобственно прямой речи. Семантически неполные конструкции могут становится носителем «открытого финала», использоваться для указания на существование «неприличных», «неназываемых» ситуаций, что приводит к семантической перспективе, многозначности. Знаком семантически неполных конструкций часто является многоточие.
Явление, противоположное неполным синтаксическим единицам, -избыточные конструкции (плеоназм). Семантически избыточные структуры, как правило, участвуют в формировании иронического подтекста.
Так, в одном из диалогов рассказа А.П. Чехова «Красавицы» структурно неполная единица в то же время является и семантически неполной: «Не я один находил, что армяночка красива. Мой дедушка, восьмидесятилетний старик, человек крутой, равнодушный к женщинам и красотам природы, целую минуту ласково глядел на Машу и спросил; - Это ваша дочка, Авет Назарыч? - Дочка. Это дочка.. - ответил хозяин. - Хорошая барышня, - похвалил дедушка» (курсив наш. - Л.Ч.). Неполнота конструкции (подчеркнутая многоточием) никак не объясняется в тексте. На вопрос; «Это ваша дочка, Авет Назарыч?» - было бы достаточно первой части ответа: «Дочка». Присоединение конструкции «Это дочка...», с одной стороны, подтверждает первое предложение, а с другой - приводит к семантической многозначности. Многоточие - это знак того, что что-то недоговорено, не сказано самого важного, чего-то такого, чего нельзя или неприлично произнести вслух. Это и есть условие формирования подтекста. В контексте рассказа эта неполная синтаксическая единица порождает подтекст: молодая армяночка, которая по возрасту годится только в дочки хозяину, на самом деле ему вовсе не дочка. Потому он не нашел слов, которые бы обозначили статус этой девушки в его доме.
Таким образом, использование в этом отрывке структурно и семантически неполной конструкции способствует возникновению подтекста, по значению противоположного содержанию высказывания.
Кроме неполных (эллиптических) конструкций или семантически избыточных структур (плеоназма), в качестве видоизменений на уровне синтаксиса могут быть рассмотрены синтаксические единицы в несвойственной им позиции, например, использование предиката в метафорическом значении, использование диалога с имплицитными репликами и др. Синтаксические единицы в несвойственной им позиции также могут быть условием формирования подтекста. В лингвистике существует ряд работ, посвященных изучению функциональных свойств языковых единиц, текстообразующим возможностям каждого структурно-семантического типа предложения
Диалогичность слова и подтекст
В основе теории М.М. Бахтина, объясняющей, каким образом и почему диалогические отношения определяют рождение и бытование литературного текста, лежит мысль о диалогической природе самой жизни человека. Общественное бытие человека, жизнь среди людей определяют его диалогические отношения с окружающими и миром в целом. Основным средством общения человека является язык. В процессе речевого общения происходит постоянный обмен информацией, и человек, включаясь в этот процесс, участвует в диалоге. Поэтому любое монологическое высказывание (относительно развернутое и внешне самодостаточное) в речевой деятельности - это ответная реплика человека, который участвует в бесконечно длящемся диалоге.
Для того чтобы сообщить нечто, говорящий использует в своей речи определенный набор слов. Таким образом, слово, с одной стороны, существует как элемент системы языка; с другой - слово, становясь частью речевого высказывания, приобретает конкретного автора. Следовательно, слово уже по своей природе диалогично. Оно существует в вечном переходе из одного контекста в другой, от одного человека к другому, из поколения в поколение. При этом слово не забывает своего пути, то есть тех конкретных контекстов, в которые оно входило. Поэтому каждый носитель языка использует в своей речи не нейтральное слово языка, а слово, наполненное чужими голосами. «Наша жизненно-практическая речь полна чужих слов: с одними мы совершенно сливаем свой голос, забывая, чьи они, другими мы подкрепляем свои слова, воспринимая их как авторитетные для нас, третьи, наконец, мы населяем своими собственными, чуждыми или враждебными им, устремлениями»1. Произнесенное слово принадлежит одновременно «всем»: «Слово... межиндивидуально. Все сказанное, выраженное находится вне «души» говорящего, не принадлежит только ему. Слово нельзя отдать одному говорящему. У автора (говорящего) свои неотъемлемые права на слово, но свои права есть и у слушателя, свои права у тех, чьи голоса звучат в преднайденном автором слове (ведь ничьих слов нет)» . Именно поэтому, считает М.М. Бахтин, «слово - это драма, в которой участвуют три персонажа (это не дуэт, а трио)»3.
Такая внутренняя диалогичность слова закреплена в его многозначности, и подтекст возникает в тех случаях, когда одновременно востребованными оказываются разные значения одного понятия.
Так, например, в повести А.И. Куприна «Гранатовый браслет» Желтков пишет княгине Вере Николаевне: « ... Вы можете сейчас же выбросить эту смешную игрушку или подарить ее кому-нибудь, но я буду счастлив и тем, что к ней прикасались Ваши руки. ... Я умею теперь только желать ежеминутно Вам счастья и радоваться, если Вы счастливы. Я мысленно кланяюсь до земли мебели, на которой Вы сидите, паркету, по которому Вы ходите, деревьям, которые Вы мимоходом трогаете, прислуге, с которой Вы говорите. У меня нет даже зависти ни к людям, ни к вещам»1 (курсив наш. -Л.Ч.).
Первое предложение начинается с этикетной формы местоимения «Вы», которое повторяется в трех предложениях восемь раз. Такая высокая частотность создает ощущение не только признания, но и заклинания. Трижды повторяется слово «счастье»: «я буду счастлив и тем, что к ней [игрушке] прикасались Ваши руки», «я умею теперь только желать ежеминутно Вам счастья», «радоваться, если Вы счастливы». В первом случае слово «счастье» несет в себе значение «состояние полного и высшего удовлетворения от того, что для «другого» может быть только бытовой деталью». Во втором («я умею теперь только желать ежеминутно Вам счастья») - пожелание «другому» того же состояния, которое испытываю «я». В третьем случае («радоваться, если Вы счастливы») - «можно быть счастливым, если счастлив «другой»». Эти значения поддерживается и следующим предложением: «Я мысленно кланяюсь до земли мебели, на которой Вы сидите, паркету, по которому Вы ходите, деревьям, которые Вы мимоходом трогаете, прислуге, с которой Вы говорите»2. Здесь нет слова «счастье», но подтекст продолжает развертываться: «счастье приносит все, с чем соприкасаетесь «Вы»». И еще одна важная деталь: игрушкой назван фамильный браслет, который «имеет свойство сообщать дар предвидения носящим его женщинам и отгоняет от них тяжелые мысли, мужчин же охраняет от насильственной смерти»
Диалог как сфера формирования подтекста
Реплики эпического диалога могут сопровождаться не только краткими комментариями, но и комментариями развернутыми, авторской включенной речью, «которая вызвана самой репликой, близка ей по теме и занимает в диалогическом единстве самостоятельное место...»1.
Роль авторской включенной речи в диалоге мы рассмотрим на примере самого сложного и в то же время самого распространенного типа диалога, который условно можно назвать комбинированным. Это диалог, в который включены и отдельные реплики, и диалог двух или нескольких лиц, причем реплики могут сопровождаться ремарками и авторской включенной речью, часть реплик может быть заменена речью повествователя. Кроме того, в комбинированном диалоге может иметь место употребление отдельных фрагментов речи повествователя, содержащих оценку и комментарий не только реплик, но и действий персонажей. Такое сложное взаимодействие становится мощным средством формирования подтекста, который является основой смыслообразования.
Примером комбинированного диалога может служить отрывок из повести Л.Н. Толстого «Хаджи-Мурат»:
«Войдя в большую комнату с огромным столом и большими окнами с зелеными жалюзи, Хаджи-Мурат приложил свои небольшие, загорелые руки к тому месту груди, где перекрещивалась белая черкеска, и неторопливо, внятно и почтительно, на кумыцком наречии, на котором он хорошо говорил, опустив глаза, сказал: - Отдаюсь под высокое покровительство великого царя и ваше. Обещаюсь верно, до последней капли крови служить белому царю и надеюсь быть полезным в войне с Шамилем, врагом моим и вашим. Выслушав переводчика, Воронцов взглянул на Хаджи-Мурата, и Хаджи-Мурат взглянул в лицо Воронцова.
Глаза этих двух людей, встретившись, говорили друг другу многое, невыразимое словами, и уж совсем не то, что говорил переводчик. Они прямо, без слов, высказывали друг о друге всю истину: глаза Воронцова говорили, что он не верит ни одному слову из всего того, что говорил Хаджи-Мурат, что он знает, что он - враг всему русскому, всегда останется таким и теперь покоряется только потому, что принужден к этому. И Хаджи-Мурат понимал это и все-таки уверял в своей преданности. Глаза же Хаджи-Мурата говорили, что старику этому надо бы думать о смерти, а не о войне, но что он хоть и стар, но хитер, и надо быть осторожным с ним. И Воронцов понимал это и все-таки говорил Хаджи-Мурату то, что считал нужным для успеха войны.
- Скажи ему, - сказал Воронцов переводчику (он говорил «ты» молодым офицерам), что наш государь так же милостив, как и могуществен, и, вероятно, по моей просьбе простит его и примет в свою службу. Передал? - спросил он, глядя на Хаджи-Мурата. - До тех же пор, пока получу милостивое решение моего повелителя, скажи ему, что я беру на себя принять его и сделать ему пребывание у нас приятным.
Хаджи-Мурат еще раз прижал руки к середине груди и что-то оживленно заговорил.
Он говорил, как передал переводчик, что и прежде, когда он управлял Аварией, в 39-м году, он верно служил русским и никогда не изменил бы им, если бы не враг его, Ахмет-Хан, который хотел погубить его и оклеветал перед генералом Клюгенау.
- Знаю, знаю, - сказал Воронцов (хотя он если и знал, то давно забыл все это). - Знаю, - сказал он, садясь и указывая Хаджи-Мурату на тахту, стоявшую у стены. Но Хаджи-Мурат не сел, пожав сильными плечами в знак того, что он не решается сидеть в присутствии такого важного человека.
- И Ахмед-Хан и Шамиль, оба - враги мои, - продолжал он, обращаясь к переводчику. - Скажи князю: Ахмед-Хан умер, я не мог отомстить ему, но Шамиль еще жив, и я не умру, не отплатив ему, - сказал он, нахмурив брови и крепко сжав челюсти.
- Да, да, - спокойно проговорил Воронцов. - Как же он хочет отплатить Шамилю? - сказал он переводчику. - Да скажи ему, что он может сесть. Хаджи-Мурат опять отказался сесть и на переданный ему вопрос отвечал, что он затем и вышел к русским, чтобы помочь им уничтожить Шамиля. - Хорошо, хорошо, - сказал Воронцов. - Что же именно он хочет делать? Садись, садись...
Хаджи-Мурат сел и сказал, что если только его пошлют на лезгинскую линию и дадут ему войско, то он ручается, что поднимет весь Дагестан, и Шамилю нельзя будет держаться.